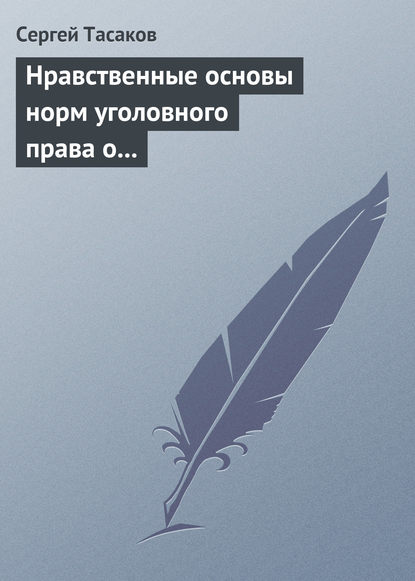
Полная версия:
Нравственные основы норм уголовного права о преступлениях против личности
Вторая группа включает по сути два преступления – убийство и причинение вреда здоровью.
Убийство является самым тяжким преступлением против человека и подразделяется на следующие виды: убийство путем использования оружия, убийство с использованием орудий или предметов, не являющихся оружием, лишение жизни по ошибке или в результате несчастного случая. За первый вид данного преступления предусмотрен выкуп или смертная казнь, если родственники убитого не согласятся принять выкуп. За остальные виды убийства предусмотрено наказание в виде уплаты выкупа, либо прощение.
Преступления, относящиеся к третьей группе, определяются традицией конкретного государства, их перечень не систематизирован, а наказания не определены. К данной группе относятся мошенничество, неисполнение религиозных обязанностей и т. д. Тазир может колебаться от предупреждения до смертной казни.
Как отмечает А. Кибальник, разрабатывая религиозную доктрину преступления, мусульманские юристы исходили из двух основополагающих начал:
1) все поступки и даже мысли людей предопределяются волей Аллаха;
2) любое правонарушение представляет собой не только отклонение от предписаний мусульманского права, но и непослушание воле Аллаха.[64]
В. Артемьев считает, что мусульманское уголовное право не соответствует по своим характерным особенностям общей направленности развития человеческой цивилизации[65], и, на наш взгляд, в определенной степени это утверждение справедливо. Мусульманскому праву, например, неизвестно понятие состава преступления, наказания, его целей, закреплен неравный правовой статус мужчины и женщины как субъектов преступлений, неконкретизирован возраст человека, к которому можно применить наказание, широко распространены наказания, связанные с причинением преступнику физических увечий и страданий, и т. д. Однако нельзя не учитывать особенностей развития мусульманского права, его традиций и влияния на развитие общественных отношений в мусульманском обществе. В связи с этим вряд ли оправдано считать его пережитком прошлого.
Большой интерес вызывает уголовное право Древнего Китая, которое отличается большей развитостью по сравнению с уголовно-правовыми системами Египта, Вавилона и Индии. На его формирование определяющее воздействие оказывали концепции крупнейших философских школ, такие религиозные учения как конфуцианство и буддизм.
Конфуцианство, например, проявилось в вере китайцев в исключительную эффективность взаимодействующих друг с другом моральных и четко регламентированных правовых норм. В буддизме впервые человек провозглашен нравственным лицом, а не представителем социального слоя, касты. Достоинство и значение человека в буддизме определяются только степенью его нравственного совершенства, до которого дойти могут все. И это неоценимый вклад, сделанный буддизмом в историю.[66]
Считается, что соблюдение правовых норм следует признавать соответствующим нормам нравственности, а законопослушное поведение – это всегда нравственное поведение. Нравственным считается поведение, не выходящее за границы права. Еще античная культура нравственно оправдывала закон. Подчинение закону не только считалось целесообразным, но и являлось моральной обязанностью индивида. Закон не противопоставлялся обычаю, а указывал условия возможных действий.
Так, Г. А. Кузнецов считает, что правовая норма есть в то же время и норма нравственная.[67] Аналогичного мнения придерживается и А. Шишкин, который полагает, что то, что осуждает закон, осуждает и мораль.[68] Правовая и моральная оценки должны совпадать при определении преступных деяний, но в отдельных случаях моральные и правовые оценки не совпадают, что создает коллизию правовых и нравственных норм. В связи с этим приведенные выше утверждения представляются весьма спорными. На наш взгляд, нельзя отождествлять правовые и нравственные нормы. Вообще достичь вершин нравственности не удавалось ни одному обществу равно как и право, никогда не выражало всей полноты моральных императивов, на что справедливо указывают А. В. Малько и Н. И. Матузов.[69]
Таким образом, право в широком смысле слова – нравственное явление, и несоблюдение правовых норм является аморальным проступком. Закон суров, но это закон. Несоблюдение законов осуждается общественным мнением как проявление неуважения к обществу. Одно из требований морали – соблюдение законов, основанных на нормах нравственности.
Спиноза, например, считал, что человек должен подчиняться любым постановлениям государства, даже если они вредны и нелепы, поскольку жить в государстве даже при плохом управлении лучше, чем в естественном состоянии. Мудрые и сильные духом руководствуются разумом и не нуждаются в законах и нравственных предписаниях, остальные же только через законы и нравственные нормы учатся добродетели.[70] Кант, напротив, утверждал, что никогда нельзя прибегать к обману и ценить насилие, даже под давлением общества.[71]
Не все правовые нормы нравственны по своему содержанию. Реализация правовых норм во многом зависит от их соотношения с нормами нравственности. Нравственное видение права необходимо для его совершенствования.
Закон не должен противоречить элементарным нравственным нормам человеческого общежития. Реакционные законы не способствуют повышению нравственного самосознания общества. Норма права, влияя на индивидуальное сознание людей, затрагивает и ту область, в которой цель как бы мысленно реализуется. Как указывал Ш. Монтескье, «есть два рода испорченности: один, когда народ не соблюдает законов; другой, когда он развращается законами; последний недуг неизлечим, ибо причина его кроется в самом лекарстве».[72] Признание отдельных правовых норм не отвечающими требованиям нравственности – необходимая предпосылка совершенствования законов. Известный итальянский просветитель Чезаре Беккариа утверждал, что законы, противоречащие естественным чувствам человека, подобны плотинам, воздвигнутым прямо против течения реки: или они сразу разрушаются и уносятся водой, или же образовавшийся благодаря им водоворот незаметно подтачивает их.[73]
Роль нравственности в совершенствовании права заключается в воздействии морального сознания на правовые взгляды общества. Между правовыми и нравственными нормами могут иногда возникать конфликты и противоречия. Причины их различны – несовершенство правовых норм или их отставание от потребностей общественной жизни, ошибки правоприменения при определении нравственной и правовой природы рассмотрения дел; различия в объективных свойствах правовых предписаний и т. д. Правовые нормы не должны отставать от реалий современной жизни, от норм нравственности. К сожалению, еще нередки случаи, когда отдельные нормы права, устарев, перестают соответствовать действительности и теряют свою реальную силу и действенность. Законодательство должно быть стабильным, но вместе с тем оно должно отвечать интересам и потребностям общественного развития. Разрешение таких противоречий и устранение имеющихся недостатков составляют важную сторону совершенствования законодательства.
Нравственное воздействие является важнейшим фактором повышения эффективности правовых норм. Взаимосвязь права и морали отчетливее всего проявляется в тех проблемных ситуациях, когда имеет место грубое нарушение прав и свобод человека преступным поведением.
Отдельно следует сказать о нормах уголовного права, поскольку уголовное право воздействует на общественные отношения наиболее сильнодействующими средствами и поэтому более, чем другие отрасли права, нуждается в соответствии нормам нравственности. Если говорить об уголовном законе, то нравственные начала в нем находят свое выражение в определении задач и принципов уголовного законодательства, в построении основных институтов уголовного права, в построении санкций, в порядке назначения наказания и т. п. При этом эффективность уголовно-правовых норм во многом зависит от того, насколько они подкрепляются моралью и отношением к ним общества. В первую очередь, это касается внутрисемейных отношений, взаимных обязанностей родителей и детей. С. С. Алексеев, подчеркивая взаимосвязь права и морали, отмечает, что именно уголовно-нормативная регламентация людских поступков и уголовное преследование наиболее тесно, по сравнению с другими отраслями права, связаны с моралью. Он полагает, что применительно к уголовно-правовой сфере есть основания видеть в морали «основу права».[74]
Право и нравственность по сфере воздействия не могут совпадать. Определенный круг нравственных принципов, существуя в качестве нравственных норм, может и не закрепляться в праве. Кроме того, многие правовые нормы прямо не воплощают в своем содержании нравственные обязанности, а направлены на правовое обеспечение. Таковы, например, нормы, относящиеся к оформлению документов гражданско-правового характера, ряд норм административного права и т. д. Мораль, например, осуждает ложь в отношениях между людьми, но ответственность за клевету наступает лишь в случаях, когда ложь причиняет существенный вред интересам личности либо коллектива.
Несмотря на то, что в отдельные исторические периоды государство до предела расширяет свое вмешательство в частную жизнь граждан, стремясь подчинить ее детальному регламентированию, право все же не в состоянии охватить все поведение людей. Многие отношения между людьми, касающиеся быта, семьи, любви, дружбы, интимных и духовных отношений вообще не могут быть урегулированы правом, это просто бессмысленно с точки зрения государственных и общественных интересов.
Взаимодополняемость морали и права проявляется в любой сфере их взаимодействия. Это процесс аккумуляции, сложения их потенциалов в целях обеспечения и защиты общественных ценностей.
Взаимодополняемость правовых и нравственных норм заключается в том, что правовое регулирование включает в себя определенный круг нравственных обязанностей, которым придается юридическая общеобязательность, в то время как нравственность содержит в себе целый ряд общесоциальных прав. Кроме того, имеет место и формальное закрепление в законах нравственных норм, что ставит эти нормы под прямую защиту государства. С другой стороны, огромное значение имеет нравственное обоснование законов. Реальность нравственных норм во многом зависит от того, насколько действенными и реальными являются в обществе правовые нормы.
Так, нормы нравственности, регулируя отношения между людьми, устанавливают определенные правила поведения, основанные на их уважении друг к другу, взаимотерпимости. Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, т. е. оскорбление, является преступлением, предусмотренным ст. 130 УК РФ. Таким образом, нормы нравственности закреплены в уголовном законе. Безусловно, такой закон нравственно обоснован, поскольку соответствует существующим в обществе нормам нравственности. Некоторые положения, носящие оценочный характер (грубое нарушение общественного порядка, исключительный цинизм, особая жестокость, грубая неосторожность и т. п.) приобретают необходимую определенность только на основе моральных критериев.
Моральные принципы провозглашаются Конституцией и, соответственно, кладутся в основу права. Это право на жизнь, на честь и достоинство, свободу и личную неприкосновенность (ст. 20, 21, 22 Конституции).[75] Таким образом, правовые нормы закрепляют нормы нравственности. В уголовном праве установлена ответственность за клевету, неоказание помощи больному, убийство и т. д. Но, конечно же, как справедливо отмечает А. В. Белявский, право не может охватить всего диапазона нравственности.[76] Поэтому мы можем утверждать, что право представляет собой явление глубоко морального порядка.
Диалектика права и морали – достаточно сложное явление. Возрастание роли моральных принципов в реализации правовых норм – лишь одна из ее граней. Мораль предъявляет к личности более высокие требования, чем право, и, соответственно, нравственное сознание не может не воздействовать на правовые взгляды человека, что, в конечном счете, ведет к совершенствованию правовых норм через призму нравственности.
Именно в сближении правовых и нравственных норм достигается социальная справедливость. Ее нет, когда правовыми нормами охраняются циничные и безнравственные поступки людей. Разрыв между правом и нравственностью может привести общество к необратимым духовным последствиям. «Поскольку закон Божий, закон любви, – отмечал Новгородцев, – есть высшая норма для всех жизненных отношений, право и государство должны черпать свой дух из этой высшей заповеди. Не раскол между правом, с одной стороны, и нравственностью – с другой, как то провозгласила новая философия права, а новая, непосредственная связь права и нравственности и подчинение их более высокому религиозному закону образует норму социальной жизни.[77]
В то же время закон не должен вмешиваться в дела частного морального поведения, за исключением случаев, когда затрагиваются интересы других лиц. Нельзя, например, привлекать к ответственности за пьянство в быту. Нельзя нарушать баланс нравственного и правового регулирования общественных отношений, хотя в отдельных случаях, из-за неразвитости институтов гражданского общества, государство вынуждено брать на себя несвойственную ему функцию.
Проблему соотношения права и нравственности мы находим и у Трубецкого, который подчеркивал, что право затрагивает проблемы внешней свободы, а нравственность касается как внутренних, так и внешних проявлений свободы. При этом две эти области тесно взаимодействуют друг с другом – некоторые нравственные нормы фиксируются правом, а отдельные правовые положения носят нравственный характер.[78] Трубецкой настаивал на объективности добра, не зависящего от представлений человеческого сознания. По его мнению, меняются лишь понятия человека о нравственности, но не сам нравственный закон, который существует объективно, независимо от того, вошел ли он в человеческое сознание.[79]
Понимание права как части нравственности мы встречаем у Шопенгауэра, видевшего в нем обязательный минимум добра, а также у Соловьева, полагавшего, что право – это низшая ступень нравственности.[80]
В свое время известный русский криминалист Н. С. Таганцев отмечал: «Устойчивость правовых норм проверяется по преимуществу условиями их исторического развития. Право создается народной жизнью, живет и видоизменяется вместе с ней; поэтому понятно, что прочными могут оказаться только те положения закона, в которых выразились эти исторически сложившиеся народные воззрения: закон, не имеющий корней в исторических условиях народной жизни, всегда грозит сделаться мертвой буквой…»[81]
Но одного этого недостаточно. Как верно отмечает В. А. Толстик, для того чтобы право соответствовало господствующим в обществе ценностям и выступало в качестве эффективного регулятора общественных отношений, за право надо бороться. Именно борьба определяет содержание права и эффективность его реализации.[82]
Право и нравственность тесно связаны между собой, и жизненность правовых норм зависит от того, как они соотносятся с нравственными. Как уже отмечалось выше, и право, и нравственность, несмотря на имеющиеся различия, выполняют одну и ту же важную социальную функцию – регулируют поведение людей. Как правовые нормы, так и нормы нравственности представляют собой общие правила поведения. Несмотря на различие субъектов, к которым они обращены, методов воздействия на общественные отношения, общность данных норм проявляется и в единых целях и задачах.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См.: Независимая газета. 2003. 21 октября.
2
См.: Бердяев А. Н. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. М., 1993. С. 332.
3
См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007 г. // Российская газета. 2007. 27 апреля.
4
См.: Конституция Российской Федерации. М., 1993.
5
См.: Иванов Н. Г. Нравственность, безнравственность, преступность // Государство и право. 1994. № 11. С. 27.
6
См.: http://www.mn.ru/print/php?2006-12-46
7
См.: Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая. Т. 1. Тула, 2001. С. 42–43.
8
См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1989. С. 420.
9
См.: Карпец И. И. Уголовное право и этика. М., 1985. С. 50.
10
См.: Уголовное право России: Курс лекций: В 6 т. / Под ред. Б. Т. Разгильдиева. Саратов, 2004. Кн. 1. С. 292.
11
См.: Меньчиков Г. П. Основы антропологии: традиции и новации. Казань, 2006. С. 27.
12
См.: Архангельский Л. М. Индивидуальное сознание и моральные ценности // Вопросы философии. 1968. № 7. С. 71.
13
Цит. по: Бабенко А. Н. Проблемы обоснования ценностных критериев в праве // Государство и право. 2002. № 12. С. 93.
14
Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1965. Т. 4, ч. 1. С. 499.
15
См.: Блюмкин В. А. Гумницкий Г. Н., Цырлина Г. В. Нравственное воспитание (философско-этические основы). Воронеж, 1990. С. 8.
16
См.: Матузов Н. И. Социалистическое право и коммунистическая мораль в их взаимодействии. Саратов, 1969. С. 24; Словарь по этике / Под ред. О. Г. Дробницкого и И. С. Кона. М., 1970. С. 171–175, 213; Большая советская энциклопедия / Под ред. А. М. Прохорова. М., 1974. Т. 16. С. 559–560; Философский энциклопедический словарь / Под ред. Л. Ф. Ильичева и др. М., 1983. С. 387, 422; Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М., 1991. С. 270.
17
См.: Философский энциклопедический словарь / Под ред. Е. Ф. Губского и др. М., 1997. С. 275–276.
18
См.: Мурашов В. И. Идея духовности. М., 2000. С. 149–150.
19
Юм Д. Сочинения. Т. 2. М., 1966. С. 315.
20
Шишкин А. Ф. Наука. Мировоззрение и моральные ценности. М., 1973. С. 16.
21
См.: Гегель. Философия права. М., 1990. С. 200.
22
См.: Гегель. Сочинения. Т. 7. М.-Л., 1934. С. 263.
23
См.: Блюмкин В. А. Мир моральных ценностей. М., 1981. С. 11; Блюмкин В. А., Гумницкий Г. Н., Цырлина Г. В. Нравственное воспитание (философско-этические основы). Воронеж, 1990. С. 10.
24
См.: Некоторые проблемы научной этики. М., 1960. С. 27.
25
См.: Очерк марксистко-ленинской этики. Л., 1963. С. 23.
26
См.: Гуревич П. С. Философский словарь. М., 1997. С. 160, 165.
27
См.: Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции (история и современность). М., 1986. С. 39–40.
28
См.: Singer P. Practical Ethics. Cambridge, 1979. P. 122–123, 217.
29
См.: Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Ефесянам, 6, 5; 1 послание Петра, 2, 18. GBV, 1991. С. 994.
30
См., напр.: Воловикова М. И. Представления русских о нравственном идеале. М., 2005.
31
См.: Александров В. Б. Общечеловеческие ценности: диалог культур // Культура и ценности. Тверь, 1992. С. 19–20.
32
Яковлев И. Я. в воспоминаниях современников. Чебоксары, 1968. С. 99.
33
См.: Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1. М., 1958. С. 75–76.
34
См.: Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древности. М., 1935. С. 236.
35
См.: Гудинг Д., Леннокс Д. Мировоззрение: человек в поисках истины и реальности. Ярославль, 2004. Т. 2. Кн. 1. С. 5.
36
Витасофия. М., 1991. С. 202.
37
См.: Спиноза Б. Сочинения. Т. 1: Этика. Ч. 1. Теор. 24. СПб., 1999. С. 273.
38
См.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 2. М., 1949. С. 93.
39
См.: Миголатьев А. А. Проблема свободы и ответственности человека // Социально-политический журнал (социально-гуманитарные знания). 1998. № 4. С. 61–62.
40
См.: Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая. Т. 1. Тула, 2001. С. 43–45.
41
См.: История политических и правовых учений: Учебник для вузов. 2-е изд. М., 1999. С. 24.
42
См.: Царьков И. И. Развитие правопонимания в европейской традиции права. СПб., 2006. С. 19.
43
См.: Цыбулевская О. И. Нравственные основания современного российского права. Саратов, 2004. С. 31.
44
См.: Нерсесянц В. С. Право: Многообразие определений и единство понятия // Советское государство и право. 1983. № 10. С. 26–35.
45
См.: Головин Р. Б. Специфика взаимоотношений права и морали в регулировании общественных отношений в условиях пенитенциарной системы // Российский следователь. 2005. № 1.С. 56.
46
См.: Бюллетень Верховного Суда СССР. 1986. № 1. С. 3.
47
См.: Гудинг Д., Леннокс Д. Мировоззрение: человек в поисках истины и реальности. Ярославль, 2004. Т. 2. Кн. 1. С. 256.
48
См.: Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 4, ч. 2: Метафизика нравов. М., 1965. С. 138–152.
49
См.: Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 3: Основы метафизики нравственности. М., 1964. С. 252.
50
См.: Алексеев С. С. Общая теория права: Курс в 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 184; Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2002. С. 163–164.
51
Алексеев С. С. Социальная ценность права в советском обществе. М., 1971. С. 204.
52
Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2002. С. 209.
53
См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1. М., 1985. С. 96.
54
Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая. Т. 1. Тула, 2001. С. 71.
55
См.: Тер-Акопов А. Законодательство Моисея: источники и применение // Российская юстиция. 2003. № 10. С. 41–42.
56
См.: Мысловский Е. Религиозно-светские начала уголовно-правовых норм // Российская юстиция 1997. № 4. С. 11.
57
См.: Тер-Акопов А. Законодательство Моисея: система правонарушений // Российская юстиция. 2004. № 2. С. 42.
58
См.: Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Втор. 19: 21. GBV, 1991. С. 73.
59
См.: Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Мат. 5: 38–44. GBV, 1991. С. 841.
60
См.: Монтескье Ш. Л. О духе законов. М., 1999. С. 383.
61
См.: Мухаммад Фарук ан-набхан. Аль Мухал ли-т – ташри ал-ислами. Эль – Кувейт – Бейрут, 1977. С. 25–28.
62
См.: Артемов В. Ю. Основные черты мусульманского уголовного права: Автореф. дне…. канд. юрид. наук. М., 1998. С. 4–6.
63
См.: Артемьев В. Шариат – общая характеристика, понятие и классификация преступлений // Законность. 1997. № 10. С. 37–38.

