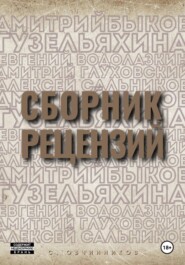
Полная версия:
Сборник рецензий
Но если наблюдаемые главным героем созвучия, рассыпанные во множестве в главах, посвященных детству и становлению, нашли бы отражение в определенной ритмической организации текста, то возможно это добавило бы несущую и резонирующую частоту и обогатило бы в итоге восприятие в целом?
Текст точен в описании обстоятельств – может даже с избытком – в приведенном примере это оборачивается дополнительными сомнениями. При резком торможении непристегнутым водителю и пассажиру будет довольно сложно удариться о стекло. Вероятнее всего водитель приложится к рулевому колесу, а пассажир боднёт бардачок.
О жанровой эклектике.
Отдельные эпизоды романа зачастую демонстрируют принадлежность к абсолютно разным жанрам. Не возьмусь судить, насколько удачно получилось, – на мой вкус – пёстренько. Вот наиболее яркий:
Случайная знакомая Глеба, с которой, по всей видимости, у него даже ничего и не произошло, заявляется к нему (и супруге) в дом. Через некоторое время приезжает и её мама. Какое-то время они все вместе живут под одной крышей.
Сложно однозначно сказать, какого эффекта добивался автор с помощью представленного «драматичного» поворота, могу доложить лишь о своих ощущениях. Я буквально вдруг обнаружил себя, смотрящим не очень доброкачественный сериал. Как читатель отказываюсь верить, что сие произошло по доброй воле создателя (романа). Вот и я стал комментировать в скобках – видимо, надышался – подхватил. Мне было бы гораздо удобнее считать, что наш книгоиздатель всея Руси в лице ловкого редактора таки-настоял! В конце концов, с какой стати сужать целевую аудиторию до интеллектуальной, тонко чувствующей и такой же тонкой прослойки. Простым людям, живущим на земле и случайно заглянувшим, тоже хочется простого человеческого счастья или, по крайней мере, уюта. Так в роман «Брисбен» была аккуратно внедрена серия из «Сватов-5». Правда, мне не показалось, что аккуратно, и я забеспокоился, что же почувствует бедная прослойка. Хотя там люди понимающие, не впервой!
Вообще, маркетинг – субстанция удивительно прилипчивая. Вступив в неё лишь раз, отмыться бывает сложно до самого конца (романа или жизни – по-всякому). Она модифицирует генотип творчества механизмом обратной связи с целевой аудиторией. Автор получает более совершенную технологическую линию – попробуй откажись!
Я, скорее всего, нафантазировал и упомянутый эпизод ничего общего с маркетингом не имеет. Быть может, он всего-навсего призван показать, как глубокая личная драма, происходящая с главным героем на фоне прогрессирующей болезни и утраты, таким образом, смысла существования в профессии, в карьере, оборачивает деструктивным влиянием прочие сферы его жизни, которые, по традиционной логике, болезнь должна была бы укрепить и сплотить. Тяга к саморазрушению может принимать, безусловно, разные формы. Ну а аргументом «в жизни ещё и не такая Санта-Барбара бывает» можно покрыть любые призывы оставаться в границах жанра, стиля, меры.
В качестве ещё одной иллюстрации, вся главка про встречу Нового года в Питере – кусок из какого-то адова женского романа. Апартаменты, приобретенные исключительно для празднования и только потому, что расположены на месте университетского общежития. Гастрономический беспредел, стилизованный под голодные 90-е. Всё во имя любимой, одним словом.
Карнавально-криминальная история из киевских 90-ых о музыкальной группе на деньги овощного короля и вокального энтузиаста написана с эдакой эстрадно-сатирической интонацией. Не возьмусь классифицировать.
Да и вообще сдаюсь – не расшифровал, для чего все эти врезки весьма чужеродных жанров. Может разрозненные иллюстрации к дипломной работе по полифонии?
О достоверности.
Где-то на середине начинаешь уставать от непомерной известности главного героя. Пожалуй, соглашусь с тем, что это неправдоподобно и к тому же навязчиво.
Возникло запоздалое предложение – сделать Глеба Яновского не гитаристом-виртуозом, а рок или поп исполнителем (а то и группой) и подданным каких-нибудь США или, на худой конец, той же Германии, раз уж она всё равно заявлена. Хотя с подданством тут и так всё более-менее. Ну а происхождение (и детство, стало быть) у него могло бы остаться тем же – киевским. В этом случае никаких проблем с достоверностью ни один въедливый читатель не посмел бы отыскать. Но тогда другой вопрос: почему в рамках своей художественной правды писатель не имеет права сделать его всё-таки гитаристом и при этом, ах, боже мой, суперизвестным? Ну и что, что «не бывает»! Вот так впервые случилось в этом романе! Украинец по происхождению, считающий себя русским? – Да сплошь и рядом! А как же, а вдруг усмотрят боль за пошатнувшееся братство народов? – Пусть усматривают, надо усматривать! Братство было? – Было! – А боль? – Есть!
О сомнительных местах
Как-то неуклюже появляется в романе дед Мефодий. Он, словно по вызову (дедушка по вызову), является на выручку уже относительно взрослому внуку (15 лет), не объясняя, где пропадал до сих пор. Цель понятна – наставить на путь, воцерковить – с его помощью завершается «смертельная» инициация Глеба, после чего он возвращается в музыкальную школу. Но лично мне от этого понимания только хуже. Да, и про Гагарина многотиражная шутка, на мой взгляд, совсем зря. Ну и выглядит дед Мефодий искусственно внедренным – шпионом-нелегалом со слабой легендой.
Иногда встречаются неловкие фразы:
«Впрочем, наибольшим удивлением в этой квартире была для него другая птица – Катя.»
– Здесь вроде бы и логика есть – интерьер в квартире семьи орнитологов изобилует чучелами птиц и… И этой прямолинейной метафорой героиню накрывает как шрапнелью!
«Растворяясь в Глебе без остатка, она хотела видеть и встречное движение».
Не ради того, чтобы упрекнуть автора в банальности и, о ужас, в пошлости, просто выразить лёгкое разочарование от того, что подобные обороты вкупе с описанными эпизодами на мой взгляд неуклонно понижают уровень произведения в целом.
Вот ещё:
«Здесь речь пошла преимущественно о русско-немецких связях, которые пара укрепляла всеми доступными средствами». Тут даже комментировать не хочу, но на всякий случай: Фраза по форме слишком клиширована, по сути же содержит вдобавок весьма приземленный сальный намёк, что по совокупности отягчающих делает её едва ли уместной.
Ну и самое вопиющее:
«Катя и Глеб очень горевали и не могли представить Дуню мертвым».
Это уже за гранью! Ради какой великой цели был умерщвлён персонаж, пусть не главный, Красимир Дуйчев по прозвищу Дуня? Чтобы главный герой с возлюбленной в одном коротком предложении погоревали о его безвременной и ничем не обоснованной кончине? Если бы речь шла о начинающем авторе, можно было бы предположить, что фраза перекочевала из синопсиса, и автор просто забыл (или не захотел по какой-то причине) развернуть вместо нее яркое и исчерпывающее описание обстоятельств «горевания» (да и гибели вообще-то). Здесь же извинительных моментов не наблюдается, и по всему выходит, что Дуню автор убил цинично и небрежно, не удостоив даже минимальных погребальных почестей. О цинизме к тому же можно спорить, ведь Красимир, являя собой яркий боковой персонаж, никому, включая автора, не мешал. Так что запишем: даже цинизма не был удостоен! Обидно ещё, что сквозная тема смерти, о которой ниже, здесь тоже мимо. По меньшей мере, странно!
Замыкает перечень спорных моментов фамилия главного героя. Для чего это «созвучие» вкупе с дипломом филолога? Чтобы показать, что не из каждого Яновского получится Гоголь? Достоевский тоже, видимо, не получится, несмотря на тему дипломной работы. Но вот в данном случае получился гитарист-виртуоз. Следуя высказыванию в начале романа: «Там где кончается слово, начинается музыка…» Слово, видимо, кончилось на рубеже диплома, и полифония в терминах Бахтина уступила место иной, более привычной. Прошу прощения, если чего-то не догнал.
Вообще, возникло ощущение, что, перевалив через экватор, текст похужел и ослаб. Быть может, по мере погружения Глеба в экзистенциальный кризис и, видимо, следом в кризис идентичности. А может, я просто устал читать.
С появлением девочки Веры повествование напротив обретает упругость, становится звонче, что ли. Здесь также видится определенная синхронизация с жизнью Глеба – она одновременно наполняется новым смыслом, к которому герой уже подошёл вплотную, переживая собственную боль. Тот же смысл находит свои полифонические отражения и интерпретации от лица других персонажей – справиться с болезнью, принять её, помогая тем, кому несравнимо хуже. И первая же попытка достойно и масштабно доказывает, что процесс может перевесить результат или даже стать им.
Интересно показаны взаимоотношения со смертью. Глеб Яновский при непосредственном участии явленной смерти получает своего рода творческую инициацию. В Киеве, на берегу Днепра, герой становится свидетелем гибели девушки. И хоть последующее сюжетное решение отдаёт схематичностью, этот аккорд звучит многозначительно и веско! Город Брисбен, давший название роману, превращается в некий семейный мем или, если угодно, символ лучшего из миров, царства вечного покоя. Можно даже предположить вектор Киев-Брисбен своего рода некро-координатным для произведения в целом. Если развивать этот образ, всё пространство романа расчерчивается жутковатой координатной сеткой, в смысловых узлах которой кто-то умирает. Наверное, притягиваю и дорисовываю – у подобной идеи в романе не чувствуется должной поддержки. Эпизоды, где смертельные энергии и дыхания выходят на передний план, интегрально не осмысливаются, а некоторые вообще оставлены без внимания. Однако, заявка, по-моему, сделана основательная.
В целом роман запоминается ярким и детальным изображением мироощущения человека, для которого музыкальное творчество становится чувственной основой бытия и универсальным инструментом познания. Весь мир для него состоит из созвучий, звучит сам и резонирует с мелодиями внутри, а автор щедро делится с нами этим удивительным восприятием, в котором зрительные образы далеко не самые впечатляющие.
Когда проникаешься подобными вибрациями, уже не так напрягают описанные выше сюжетные ходы. Думаешь: «Бог с ним! Пусть будет как в жизни. Она ведь не всегда настолько же стильная, насколько нам бы этого хотелось. Случаются и эпизоды из сериала, и приступы немотивированного счастья, как в женских романах».
Смерть Красимира вот только простить не смогу! Хоть в зловещий концепт она и укладывается.
Март 2019
Гузель Яхина. Дети мои
Очарован первыми страницами романа. Обычно меня не трогает, но здесь невольно увлекаюсь природной панорамой. Она ёмко обозначает хронотоп и устанавливает правила восприятия – условные сигналы и язык, на котором автор собирается общаться с читателем. Я уже готов, что отглагольного действия в романе будет немного – здесь уже глаголы зачастую не то, что в совершенной форме, но уже в свершившейся, а потому застывшие величественными картинами мира – прекрасными и зловещими – в ожидании новых великих потрясений.
«Йенский романтизм и гейдельбергская школа действовали на класс лучше снотворного»
Вот и я, признаться, не думал, что можно осмелиться вести с читателем столь неторопливый разговор-рассуждение. Заснёт же! Теперь лишь изумляюсь: читаю ведь и ничего! В сон не клонит.
«насколько равнодушна к ученикам была его душа на школьных уроках, настолько страстна и горяча становилась к предметам и деталям окружающего пространства в часы прогулок.»
Равнодушие души, понятно, редактор пропустил. Однако цепляет фраза не этим. Некоторая чёрствость главного героя (по отношению к ученикам) противопоставляется чуткости к предметам, населяющим мир, условно неживой. Отмечу также и лёгкий диссонанс с названием. При этом указанный контрапункт не выделяется ни ритмически, ни какой-либо специфической эмоциональной окраской, а отливается тем же струящимся повествовательным размером. Таким образом, авторская позиция едва ли не созвучна. С точки зрения любви к своему герою и принятия всех его положительных и не очень сторон – вроде бы понятно. Но мне, как читателю, не симпатично. Хочется здесь остановится, хочется чего-то ещё, чтобы наравне с автором принять эту особенность главного героя. Чтобы автор не делал вид, что это само собой, даже если он/она так именно и считает.
Встреча с Гриммом нарушает, тем не менее, и ритм и стилистическое позиционирование что ли. Вопрос "а что же это я читаю?", на который вроде уже был получен ответ, опять на повестке. На ровном полотне в меру тоскливой эпичной пасторали вдруг выскакивает и упруго покачивается на хрестоматийных куриных ножках лубочный теремок, населенный персонажами "В гостях у сказки". Повышенная театральность и позерство Удо Гримма, данная нам в щедрых деталями описаниях, резко контрастирует с унылой вековой мудростью и неуклюжестью Баха. Неужели схватка миров? Или просто показное многообразие культурных обликов колонистов, имеющих единую национально-родовую основу? Посмотрим дальше. Сейчас важно зафиксировать первое впечатление.
Повторный приезд преподавателя и неудавшийся побег и вовсе разрушают картину восприятия, заставляя искать ответ на вопрос: "что это было?" И поскольку автор ответа не предлагает, по крайней мере, в близких контекстах, то возможны варианты. Наиболее романтично и фантазийно ориентированные читатели наверняка усмотрят вторжение волшебного – по мне, так грубое и бесцеремонное. Поэтому я, вместе с другой половиной читателей, склонен видеть в происходящем бредовую реальность по-тихому "отъехавшего" одинокого учителя, который выведен едва ли не стариком, хотя ему всего 32 года от роду, о чём автор нам повторно сообщает уже теперь от имени самого Баха.
Пару слов относительно "высокого немецкого". Мне, к слову совершенно не знающему немецкого языка, и то было бы органичнее читать "хохдойч" или даже лучше не в транслите, а в исходном "hochdeutsch". Приводит же автор сравнения между немецкими и киргизскими небом/солнцем, погружая читателя в произношение и написание. Но пресловутый "высокий немецкий", тем не менее, оставляет нам спотыкаться.
Я имел удовольствие и практически детскую радость столкнуться с олдскульным в хорошем смысле повествовательным полотном. Здесь внутренний мир героя, включая все его мысли, ощущения, чувства и даже предчувствия раскрывается исчерпывающим образом. Под аккомпанемент богатых природно-климатических описаний полотно становится поистине живописным. Краски положены густо – холст, масло, белых пятен нет – ну разве что прошлое героя в таинственной дымке, но ведь и мы только в самом начале. Предвкушаю не менее красочное и многоцветное развитие сюжета.
Ещё немного о качестве текста. Он, как бы это сказать, надёжен. Переходя от абзаца к абзацу не возникает и тени страха, что в следующем автор лажанёт, вставит неуместное словцо (как я, например: «лажанёт» – ну вы поняли) или пропустит что-то, досадно травмирующее восприятие читателя, уже успевшего привыкнуть к хорошему.
Вторая глава называется "Дочь", что, вероятно, соответствует структуре авторского замысла, но совсем не соответствует содержанию главы. А содержательно мы здесь погружаемся в исследование творческого процесса писателя, коим волею судьбы и автора становится главный герой. Герой переносит на бумагу мифологию этноса – скрупулёзно воссоздаёт культурное многообразие жизни и быта. При этом сюжетно сама глава углубляет мифологичность романа в целом, жанрово всё больше отодвигая его от реалистических основ. Являясь свидетелем исторических социальных потрясений, произошедших в стране, шульмейстер существует в некоем персональном вакууме. Его пересечения с действительностью минимальны и наполнены скорее символичными смыслами. Вообще, фамилии и образы персонажей – горбун Гофман, требующий сказку, ещё ранее Гримм и его хутор, неясного происхождения – читателя настраивают на волшебный лад. Да и сам шульмейстер, творящий свою симфоническую гофманиаду (не уверен за уместность термина по сути, но по форме иначе и не скажешь).
В конце второй главы содержание подтягивается к названию. Вырастает ёмкий персонаж, заслоняющий по значимости и главного героя. Начинает формироваться развернутая метафора, сформулированная в названии.
Дети непростыми тропами приходят в жизнь шульмейстера. В самом начале у него их вроде уже много – целый класс, но это формальное обладание оттого и непрочно – не в нём учитель находит вдохновение. Нереализованный в страстях, иного ищет потрясения. И судьба (автор) ему их уготовила. Да немало, но и уберегла летописца-сказителя от большинства потрясений, изолировав на хуторе за рекой. А и река тут непростая. Со своей символикой и мифологией.
Обретение же своих детей героем – драма и трансформация, где и крах мужественности и невыносимость принятия и тихая радость "быть рядом". К черту сексизм, но при прочих равных автор мужского пола с главным героем бы так не обошёлся. И в этом свете Бах представляется неким умышленно трансгендерным существом, коль скоро в этой чудесной мифологии ему отведена символическая роль олицетворять собою многих.
Да, это непросто – ёмко показать судьбу народа. Видимо, поэтому мифология. Что ж, здесь мы не увидим многих выписанных характеров-архетипов. Нам предлагается один мистически собирательный, но не архетипичный персонально, скорее наоборот.
В целом роман оставляет неоднозначное впечатление. Он с одной стороны о нелегкой доле этнических немцев в процессе разворачивания трагических событий в России начала XX века. Но с другой – автор будто избегает прямого детального повествования, убирая своего героя из гущи этих событий.
Таким образом, всё происходящее мы видим в отраженном свете да ещё сквозь дрожащее марево прекрасной мифологии. Событийный ряд избирательно отфильтрован – нас допустили лишь к тем из них, коим шульмейстер сам стал свидетелем. А это при его отшельническом образе жизни, прямо скажем, негусто.
В противовес тому богатые живописные картины природы, её явлений и катаклизмов, сопутствующих катастрофам политическим и социальным. Словно вместо вторжения в кровавый эпицентр со всей его пронзительностью и ужасами нам предлагают менее травмирующее олицетворение из категории 12+.
Интересное решение, но я усматриваю в этом скорее своего рода подтасовку и обман. Ведь шокирующая реальность совсем рядом – буквально, за рекой! А я, читатель, по воле автора здесь многого лишён. Олицетворение – что ж, оно прекрасно. Хотя я, честно сказать, пресытился пейзажными красками и затосковал по действию, которого описываемая эпоха имела в избытке, но повествование, увы, им обделено.
Октябрь 2019
Формула П
Попробуйте представить, что Единственный и Неповторимый Виктор Пелевин (ЕНВП – серия ЭКСМО) может быть неинтересен. Рискую навлечь обвинения в зависти и очернении талантливого писателя. Но просто попробуйте абстрагироваться от личного восприятия, чтобы чуть лучше понять тех, кто не разделяет вашу точку зрения.
Читая очередное творение уважаемого ЕНВП, я вдруг подумал, что писать всё это гораздо интереснее, чем читать. Пытаясь ответить на логичный вопрос «Почему, собственно?», пришел к нехитрой формуле. Вот она.
В основе любой книги ЕНВП схема. В узлах этой схемы персонажи, уровень проработки которых может в крайних случаях стремиться к нулевому. Персонажи носят вспомогательную функцию в рамках схемы и проработаны ровно настолько, насколько требует функция. Главные герои не являются исключением. Персонажи соединяются такими же формальными связями и двигаются вдоль формальных же сюжетных линий. Схема создается с единственной целью – как носитель некой провокационной (или не очень) мировоззренческой концепции, которую автор посредством этой схемы намеревается сообщить читателю. В общем случае концептов может быть сколь угодно много, а их масштаб варьировать от бытового курьёзного кейса-анекдота до версии вселенского миропорядка. Весь этот смысловой контент более-менее аргументированно внедрен в пространство схемы. А схема, как несущая частота – главное, чтобы она была!
Что ж, скажете, схему можно усмотреть и у Толстого с Достоевским, да и у прочих. – Безусловно, но с одним нюансом. В лучших образчиках сама схема и представляет собой предмет восхищения потому как несёт в себе составляющие великой литературы – систему образов, характеров, многомерное развитие сюжета, трансформации героев, сумасшедшие вторые и третьи планы – будь то пейзаж, интерьер или политическая канва. И многое, многое…
Но автор может распорядиться же и по-другому. Ну, если не входит в его трезвый расчет встретить читателя с прекрасным, на кой хр..н выписывать эти бантики, образы, портреты, сюжетные линии и т.п. Представьте, вы пришли в картинную галерею насладиться живописным полотном, а на абсолютно белом холсте утилитарным без засечек шрифтом набрано:
«Художник просил передать следующее:
Хорошо в деревне летом!
Крестьяне измождены непосильным трудом!
Всё-таки я опять хочу в Париж!»
В принципе, если задаться такой целью, из любого романа ЕНВП можно сделать литературное произведение. Только нужно ли это читателю – пелевинскому читателю? Думаю, нет, так как это неизбежно затруднит коммуникацию автора с ним.
В конце концов, из самого примитивного и шаблонного контекста можно заглянуть в бездну. Вопрос только в том, есть ли у художника намерение это сделать. У кого-то получится именно что в бездну, бездонную и со всеми прочими тематическими атрибутами. Для иных же – в манящий безграничный космос. Большинству же будет комфортней оставаться в рамках контекста, в этом обрыдшем «здесь и сейчас».
Что касается ЕНВП, он, безусловно, туда не просто заглядывает. Он эту бездну анализирует и классифицирует в рамках своих причудливых координатных систем, варьирующих от романа к роману. Примечательно, что его бездны неизменно носят отрицательный знак. Я, конечно, не все читал, но того самого манящего «космоса» встретить не довелось. Хотя, быть может, это чудесное свойство сарказма – менять любой знак на минус.
Бездна для него вообще самоцель! Вся драматургия и истинные сюжетные повороты перемещены туда, в неё, в бесконечный цикл ея познания. В этом притягательность и проглатываемость его произведений. Одна из наиболее могучих и базовых пружин мироздания, заставляющая развиваться мыслящие формы жизни – двигаться виток за витком в направлении приобретения нового. Образ этой пружинки свернут в каждом без исключения романе ЕНВП до относительно компактных 500-700 страниц, порой, довольно безвкусного текста.
Концентрированная формула сущего – она же секрет популярности – осваивайте, последователи, ау! Но умоляю, не приносите в жертву повествование, героев и прочие литературные основы. Одну только бездну читать невыносимо! При всей её многоликости. Да, и пробуйте экспериментировать со знаком. Я имею в виду плюс.
Октябрь 2019
Михаил Попов. На кресах всходних
Впечатления сильные и глубокие. Неординарный читательский опыт.
Начало.
Роман начинается активно и насыщенно. В то же время первая глава провокационно вторгается на территорию неуверенного патриотизма, если не вообще ставит его под сомнение.
Тема Великой Отечественной заявляется сразу, но красноармеец с первых же страниц предстает далеко не солдатом-освободителем, а кровавым мародёром. Это, безусловно, частная история и выдавать её за гневное обобщение некорректно. При этом она (история) обрушивается с самого начала на читателя, обрывается в предкульминационной точке, и далее на добрую сотню страниц разворачивается местечковая ретроспектива белорусской глубинки. Случайно ли это сделано? – Это сделано искусно! Автор ни в коем случае не обобщает! На обобщение здесь запрограммирован читатель! Особенно когда сознание его прошито ещё в Советское время такими однозначными стежками, бескомпромиссно делящими окружающий мир на своих и врагов. В это стабильное сознание внедряется деструктивное кровоточащее образование. Читатель двигается дальше, знакомится с "историей успеха" Ромуальда Севериновича, но кровавый эпизод из первой главы в качестве экспозиции стоит перед глазами. Интрига, таким образом, формируется ещё и по линии: а каким в итоге будет преподнесен образ Красной армии? Ну а с её подкладки неизбежно сквозит вопрос: а не вражина ли сам автор с такими подходцами? Утрирую, но уверен, что читатели 40+ нечто подобное почувствуют. И это, вне всякого сомнения, заставит их дочитать до конца!
Повествование

