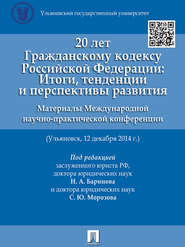
Полная версия:
20 лет Гражданскому кодексу Российской Федерации: итоги, тенденции и перспективы развития. Материалы Международной научно-практической конференции
В. А. Рыбаков и В. А. Тархов приходят к выводу, что «иные формы собственности», предусмотренные Конституцией РФ, это «коллективная и личная собственность».45 «Коллективная собственность», по мнению авторов, – это собственность одного субъекта, коллектива членов юридического лица, которые юридически равноправны и не имеют права на имущество их юридических лиц.46 «Личная собственность», по мнению исследователей, – «это собственность граждан, участвующих (работающих), участвовавших (пенсионеров), будущих участвовать (учащихся) в общественном производстве. Она существует в качестве самостоятельного вида только в формациях, основанных на общественной собственности – первобытнообщинной и социалистической. В иных формациях сливается с господствующей частной собственностью, потому что сегодняшний рабочий, либо кооператор завтра может (хотя и редко) стать предпринимателем. Личная собственность носит в основном потребительский характер, так как не распространяется на средства производства, и поэтому различия в ней у трудящихся не могут быть значительными».47 По мнению авторов, о личной собственности говорится в ст. 492 ГК РФ.
В отличие от обозначенной точки зрения, Е. А. Суханов объясняет происхождение форм собственности как экономического понятия, не влекущего различий в содержании прав собственности, и поэтому юридически не значимого. Появление «иных форм собственности», по его мнению, «следует считать результатом недоразумения».48 Л. В. Санникова, поддерживая позицию Е. А. Суханова, считает, что в гражданском праве отсутствуют иные субъекты, кроме тех, которые уже названы в ст. 212 ГК РФ, следовательно, по ее мнению, не может быть и «иных форм собственности».49 В подтверждение своей позиции Е. А. Суханов поясняет: «Нормальное, юридическое понимание частной собственности, распространенное и в развитых правопорядках, связано «лишь» с его противопоставлением публичной, «казенной» собственности. «Частная» означает «непубличная», и не более того».50 С точки зрения К. И. Скловского, «право собственности непосредственно не отражает экономических отношений собственности, даже если последние и существуют».51 По его мнению, следует осуждать «настойчивые попытки развернуть на базе ч. 1 ст. 212 ГК РФ едва ли не новые отрасли права, оперирующие, главным образом, с «коллективной формой собственности».52
Однако вряд ли целесообразно игнорировать реальность существования форм собственности. В качестве причины неприятия категории «форма собственности» В. Д. Мазаев полагает «мировоззренческую (идеологическую) ангажированность подходов».53 По его мнению, игнорирование форм собственности может иметь негативные последствия: «отказ от форм собственности, от их экономического содержания обедняет правовое регулирование отношений собственности»,54 «фактически направлен на канонизацию частной собственности как основы нового строя».55 Ученый убежден, что «выведение из предмета правового регулирования социально-экономического содержания форм собственности, понятия формы собственности как самостоятельной категории лишает экономическую и правовую реальность уникальной по своей философской и методологической значимости «интриги» – диалектики частной и нечастной форм собственности как основы соотношения индивидуального и общественного, личной свободы и общественной потребности».56 Однако несомненно и то, что при разработке учения о формах собственности необходимо избавиться «от марксистских элементов в анализе форм собственности».57
В связи с этим не случайно то, что идея существования форм собственности поддерживается и рядом авторитетных российских ученых. Например, Ю. К. Толстой выделяет формы собственности и соответственно формы права собственности, которые, в свою очередь, разделяются на виды.58 В. П. Камышанский справедливо полагает, что «если говорить о границах права собственности либо его пределах, то можно сказать, что они с учетом содержания ст. 209 ГК РФ могут быть установлены отрицательно, а не положительно. Это означает, что право собственности не может быть установлено указанной в законе совокупностью правомочий собственника. Его контуры могут быть обозначены положениями закона и иных правовых актов о том, что собственник не может делать, то есть что собственнику запрещается делать в соответствии с законом… Единого права собственности нет и быть не может».59
Таким образом, в научной литературе высказываются по крайней мере две противоположные точки зрения, выражающиеся в: а) отнесении категории «форма собственности» к экономическим дефинициям; невозможности существования иных форм собственности, кроме частной и публичной; и б) зависимости формы собственности конкретного субъекта (физического, юридического лица) от социального характера общественных отношений с участием собственников; выделения понятия «коллективная собственность» как разновидности «иных» форм собственности. Первая точка зрения получила название «теория единого права собственности», вторая – «плюралистическая модель» форм собственности.60 В дальнейшем мы также будем придерживаться предложенной классификации.
Сторонники теории единого права собственности полагают, что «достаточно сложно обнаружить правовую специфику субъектов новых, «иных» форм собственности (казачьих общин, религиозных организаций). В существующем правовом поле современной России они не обладают какими-то иными правомочиями, кроме традиционного владения, распоряжения и пользования».61По мнению А. В. Колпаковой, эти формы собственности «являются не более чем слепками одной из двух основных и общепризнанных форм (частной или публичной)».62 «Казачьи общины» или «церковные общества» «должны подчиниться общему режиму владения, пользования и распоряжения имуществом, который присущ любому частному лицу».63 По мнению исследователя, критерием разграничения форм собственности является «разграничение по предназначению»: публичных интересов и интересов частных лиц.64 «Если собственник, обладающий собственностью, руководствуется государственными или муниципальными интересами, то здесь присутствует публичная собственность. Если же защищается частный интерес, то речь идет о честной собственности».65 В соответствии с этим, по мнению А. В. Колпаковой, перечисленные в ГК РФ многочисленные лица можно условно разделить на две группы: защищающие личные и публичные интересы. К первой группе собственников, по ее мнению, относятся «перечисленные в ст. 213 ГК РФ частные лица (физические и юридические); а ко второй – все существующие публичные образования в лице Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (ст. 214, 215 ГК РФ)».66 Данная позиция разделяется и другими учеными. Ю. Н. Андреев считает, что право частной собственности следует дифференцировать на право частной собственности физических лиц и право частной собственности юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций).67
Сторонники второй теории – «плюралистической модели» форм собственности – выдвигают в защиту своей точки зрения следующие аргументы.68
В силу конституционного признания «иных форм собственности» следует признать их объективной реальностью, без ссылок наих «юридическую незначимость». При иной постановке вопроса включение данной формулировки в Конституцию РФ и Гражданский кодекс РФ было бы лишено смысла. Соглашаясь с высказываемым ранее в научной литературе сомнением, что «закрепление какой-либо теоретической конструкции в тексте нормативного акта, пусть даже столь высокого уровня, как Основной Закон, само по себе не может служить неопровержимым доказательством глубокой теоретической обоснованности закрепленного понятия или свидетельством окончательного разрешения спора»,69 тем не менее они полагают необоснованным отрицать значения легальных дефиниций «как важнейших и главнейших средств аргументации в юридической науке».70
Согласно Закону СССР от 6 марта 1990 г. «О собственности в СССР» (ст. 4) собственность арендных предприятий, кооперативов, акционерных обществ и товариществ, хозяйственных ассоциаций, общественных организаций и других объединений, являющихся юридическими лицами (ст. 10) относилась к коллективной собственности,71что в недалеком прошлом признавалось современными оппонентами коллективной формы собственности целесообразным: «экономическое понятие коллективной собственности определятся достаточно просто – как принадлежность материальных благ (имущества) коллективу, организованной группе людей, то есть коллективная, а не индивидуальная форма их присвоения».72
Закон «О собственности в СССР» утратил силу лишь с 1 января 1995 г. с введением в действие Гражданский кодекс РФ (Часть 1). Следовательно, в 1993 г., когда принималась Конституция Российской Федерации, законодатель, принимая формулировку «и иные формы собственности», имел в виду и коллективную в том числе, так как в это время она легально существовала.
Гражданский кодекс РФ, кроме краткого воспроизведения в п. 1 ст. 212 процитированного уже пункта Конституции, не содержит слов «частная собственность», употребляя слово «собственность» без прилагательных. В Конституции объединения граждан упоминаются только в связи с частной собственностью на землю. Поэтому утверждение, что частная собственность делится на собственность граждан и юридических лиц, является субъективным мнением, не подтверждаемым пока законом. Юридические лица могут быть частнособственническими, однако немало юридических лиц, основанных на государственной и муниципальной собственности, а также на собственности общественных и религиозных организаций.73
В подтверждение данной позиции А. С. Еганян отмечает, что юридические лица могут создаваться для удовлетворения как частных, так и публичных интересов. Далее А. С. Еганян задает логичный вопрос: «Разве фонд, как некоммерческая организация, создается для удовлетворения частных интересов, если даже законом предусмотрено, что фонд предоставляет различные блага не его учредителям, как, например, дивиденды по акциям – акционерам), а третьим лицам, в силу закона признанным, нуждающимися в этом. Может ли быть здесь частная собственность?»74 По мнению исследователя – не может.75
Думается, что обе точки зрения, несмотря на серьезную аргументацию, небезупречны. По мнению В. А. Рыбакова, собственность объективно выступает в следующих формах: а) государственная (собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации); б) муниципальная (собственность различных муниципальных образований); в) коллективная (собственность кооперативов, хозяйственных обществ и товариществ, общественных организаций, религиозных организаций).76
На наш взгляд, с точки зрения правового регулирования способы присвоения и распределения собственности в хозяйственных обществах и товариществах по правовой природе ближе к частной собственности, чем к коллективной, что не позволяет полностью разделить теорию коллективной формы собственности В. А. Рыбакова. Трудно также согласиться с позицией А. В. Колпаковой, согласно которой все имущественное обособление всех юридических лиц осуществляется в форме частной собственности, особенно некоммерческих организаций.
В то же время, принимая во внимание позицию А. С. Еганяна, отрицающего частную форму собственности фонда как организационно-правовой формы некоммерческой организации, уместно привести его точку зрения, обосновывающую признание у некоммерческого партнерства коллективной формы собственности. Аргументация ученого заключается в следующем: «Если субъект считает, что единоличное удовлетворение в потребности указанных благ для него выгоднее, он не будет объединяться с другими лицами. Удовлетворяя свой интерес единолично, мы получаем при благоприятных условиях именно то, на что была направлена наша деятельность. Удовлетворяя свой интерес коллективно, мы презюмируем, что наш интерес и результат деятельности в целом могут не совпадать, поскольку коллективный интерес и результат коллективной деятельности образуются через сочетание интересов общества и индивида».77 По мнению А. С. Еганяна, «право на имущество может быть признано частным только в том случае, если осуществление его служит интересу отдельного лица и лиц. Простая совокупность лиц, например акционеров, не порождает коллективного образования, поскольку им может называться только та социальная общность, которая объединяет лиц в решении конкретной коллективной задачи в сочетании интересов индивида и коллектива».78 В связи с этим, по мнению исследователя, частный интерес членов некоммерческого партнерства поглощается коллективным интересом, что позволяет сделать вывод о том, что право собственности некоммерческого партнерства не может быть признано правом частной собственности.79 Соглашаясь с данной позицией, полагаем, что у фонда – публичная форма собственности (но не государственная, а общественная). Однако думается, что и не коллективная форма собственности, так как субстратом фонда как унитарной некоммерческой организации, не основанной на членстве, не может быть коллектив лиц.
Для того чтобы определиться по столь непростому вопросу, существует ли коллективная форма собственности и каковы ее правовые признаки, уместно, на наш взгляд, обратить внимание на идеи, содержащиеся в трудах Вячеслава Игоревича Иванова.
Ученым отмечается, что первое появление термина «коллективная собственность» связывается с принятием в 1989 г. Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде (ст. 10) и Закона СССР «О собственности в СССР» (ст. 4). В 1990 г. этот термин применяется и российским законодательством в ст. 3 Закона РСФСР «О собственности в РСФСР». В. И. Иванов отмечал: «Названное понятие в традиционной советской доктрине было связано непременно с коллективным субъектом – юридическим лицом: арендным предприятием, кооперативом, колхозом, некоторыми общественными организациями, профсоюзами. Юридические лица, образованные на базе этой квази-негосударственной собственности, признавались субъектами права собственности наряду с государственными юридическими лицами носителями иных вещных прав – оперативного управления и полного хозяйственного ведения с иными правовыми режимами».80 Однако уже в 1995 г. правовой статус коллективной собственности, просуществовав легально всего лишь пять лет с момента своего законодательного закрепления, был упразднен. В ходе активной научной дискуссии по обсуждению Проекта ГК РФ пришли к выводу, что в легальном правовом статусе коллективной собственности «нет необходимости, поскольку он полностью охватывается нормами об общей собственности»81 или «поглощается специальным субъектом – юридическим лицом».82
Вячеслав Игоревич полагал возможным признать весомость аргумента лишь в случае обоснованности утверждения о «тождественности коллективной и общей собственности». В этом случае введение термина «коллективная собственность» представляло бы терминологическое нагромождение.83 Проверяя убедительность тезиса, выдвинутого противниками института коллективной собственности в российском праве, исследователь пришел к выводу, что «с некоторой натяжкой» в отношении отождествления коллективной и общей собственности можно говорить лишь о собственности нескольких граждан, «принудительно соединенных неделимостью вещи или законодательным запрещением деления конкретного объекта права собственности, например, земли».84 Однако режим общей долевой или совместной собственности исчезает, если перенести анализ от граждан как субъектов права собственности к юридическим лицам. По мнению исследователя, «сразу обнаруживается, что понятие долевой или совместной собственности невозможно применить к конструкции юридического лица. За фигурой юридического лица не может быть коллектива, а потому у юридического лица не может быть и коллективной собственности».85 То есть «не применимое к юридическому лицу понятие коллективной (общей) собственности делает совершенно бессмысленным наличие этого термина в законодательстве».86
Вместе с тем, полагал В. И. Иванов, «многообразие духовных идеологических отношений, лежащих, в частности, в основе общины, нуждается в правовых конструкциях, которые не могут быть сведены ни к фигуре юридического лица, ни к общей собственности».87 Ранее в своей работе «Община как субъект права» исследователь выводил следующие существенные признаки общины: а) признание в законе наличия некоторой общности людей с наделением их правами, не сводимыми к правам каждого из членов данной общности; б) наличие двух или более людей; в) осознание людьми общности своего единства; г) единая направленность воли людей; д) единая воля выражена одним волеизъявлением – коллективным обращением; е) обращение адресовано: ветвям государственной власти; органам государства; должностным лицам; другим организациям и их органам; юридическим лицам и органам местно самоуправления.88 По мнению В. И. Иванова, не обладая статусом юридического лица, имея имущество только в пользовании, все церкви в Советском Союзе попадали под данное определение общины.89
Община может формироваться, основываясь на вере, национальной принадлежности, этнокультурной общности, родственных связях, политических взглядах и идеях. Однако главное, на что следовало обращать внимание, по мнению В. И. Иванова, – это то, что в этом случае «цель объединения людей носит неимущественный характер даже тогда, когда соединяется и какое-то имущество».90 Вместе с тем «для осуществления важнейших духовно-неимущественных прав общине необходимо имущество, коллективная собственность, и не юридического лица как субъекта права, и, одновременно, не как общая собственность двух или более граждан».91
Таким образом, под коллективной собственностью В. И. Иванов понимал владение, пользование и распоряжение имуществом для осуществления духовно-идеологических целей».92 В качестве важнейшего признака коллективной собственности ученый называл «неделимость имущества общины».93 Исследователь пояснял, что это имущество никогда не может перейти в частную собственность члена общины. До тех пор, пока община существует, ее имущество не подлежит делению между ее членами. Даже в том случае, если выход или исключение из общины сопровождается выделением имущества, то размер его определяет не закон, а сама община. В принципе неделимая коллективная собственность общины «по природе предназначена обслуживать общие духовные ценности расходоваться только для осуществления коллективных прав, не сводимых к правам каждого члена общества».94 Неделимость имущества общины обусловливается тем, что коллективная собственность прекращается с прекращением существования общины. В этом случае должно быть предусмотрено «правопреемство государства или однородной общины, но не физических или юридических лиц».95 Следовательно, правовая природа коллективной собственности общины – публичная, а не частная. «В ней, как и в государственной собственности, находят свое выражение имущественные интересы общины в целом».96 Община как целое, по мнению В. И. Иванова, «имеет интересы (в том числе имущественные), принципиально отличные от интересов каждого члена общины как гражданина или собственника».97 Именно в этом, по мнению ученого, и состоит «смысл духовно-добровольного объединения людей».98 При этом хотелось бы обратить внимание еще на один важный вывод, сделанный В. И. Ивановым. По его мнению, некоторые общины могут обладать и статусом юридического лица,99 например, некоторые казачьи общины, малочисленные народы России. Однако религиозная община, политическое движение, этнокультурные, а также многие другие людские общности не могут быть сведены только к фигуре юридического лица. В данном случае основой объединения является духовная сфера: «тут не «производственный интерес», а духовная потребность как цель объединения, не имущественный вклад на первом месте, но вера или идея. Идея порождает имущественную потребность, духовную или родственную общность, а не наоборот».100
Таким образом, в качестве основных признаков, присущих коллективной форме собственности, Вячеслав Игоревич Иванов называет: 1) объединение не по имущественному, а по духовно-добровольному признаку; 2) публично-правовая, а не частная природа собственности имущества; 3) неделимость имущества и невозможность преобразования его в частную собственность; 4) наличие воли коллектива (двух или более лиц); 5) возможность существования как в статусе юридического лица, так и без него.
Первое, на что обращается внимание, – это отнесение сторонниками «теории единого права собственности» имущества ряда некоммерческих организаций к частной форме собственности (общественных, религиозных, политических и других организаций). Правовая природа и уставные цели у данных видов некоммерческих организаций отличаются от частных коммерческих юридических лиц. У некоммерческих организаций более выражен социально-политический характер присвоения и распределения собственности. Их предпринимательская деятельность носит вспомогательный характер по отношению к уставной (основной) деятельности. Способ присвоения и распределения собственности в большей степени ориентирован на обеспечение общественных (публичных) интересов. По мнению В. Д. Мазаева, формы собственности данных некоммерческих организаций ближе к государственной и муниципальной форме.101
В законе «О некоммерческих организациях» предусматриваются мероприятия по государственной поддержке социально ориентированных организаций.102 В соответствии со ст. 31.1 Закона оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям возможно в виде финансовой, имущественной, информационной и консультационной помощи, а также в форме предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах (п. 3.2).
Эти меры свидетельствуют о том, что государство признает важное значение данных некоммерческих организаций в формировании гражданского общества, способность осуществлять публичные дела, дополняя публичную власть. В связи с этим, по мнению В. Д. Мазаева, следует в Конституции РФ закрепить формы собственности общественных объединений по аналогии с Конституциями развитых европейских стран.103 В данном случае точка зрения В. Д. Мазаева не противоречит позиции В. И. Иванова, полагающего, что имущество общин должно «иметь законное признание» – «получить статус коллективной собственности».104
В научной литературе существует точка зрения, согласно которой некоммерческие организации действуют на базе коллективной формы собственности.105 Однако думается, что подобное обобщение вряд ли уместно в отношении всех некоммерческих организаций и не учитывает многообразия форм их собственности. В настоящее время существует достаточно большое количество теорий юридических лиц. Однако в отношении некоммерческих организаций «ни одна из них не может быть признана единственно верной, некой истиной, не имеющей исключений и оговорок».106
Е. А. Суханов, последовательно отстаивающий теориюединого права собственности, считает, что юридическое лицо есть суть персонифицированного имущества, за которым закон признает свойства субъекта права. В связи с этим главным качеством юридического лица является имущественная обособленность, а подлинным юридическим лицо может быть лишь тогда, когда оно выступает в гражданском обороте в качестве собственника имущества.107 Имущество юридического лица предназначено для уменьшения риска имущественных потерь для учредителей (участников юридического лица) «путем переложения возможной ответственности за результаты своей деятельности на созданный ими новый субъект права – юридическое лицо».108 Данная теория Е. А. Суханова получила название «теория целевого персонифицированного имущества».
Эта точка зрения является, несомненно, обоснованной и, в частности, в отношении коммерческих организаций, являющихся профессиональными участниками гражданского оборота, нами поддерживается. Однако в отношении некоммерческих организаций, в которых на первый план выступает не материальная (имущественная) составляющая, а удовлетворение неимущественных потребностей, теория Е. А. Суханова имеет исключения и не может быть безоговорочно принята.
Если в отношении коммерческих организаций законодатель предъявляет требования к наличию уставного (складочного) капитала, к сроку и порядку его формирования, то для подавляющего большинства некоммерческих организаций (за исключением потребительского кооператива) данные требования к моменту регистрации, да и в последующем, нормативно не предусмотрены. Многие некоммерческие организации на протяжении всего своего существования не обладают никаким обособленным имуществом и не выступают участниками имущественных правоотношений. Более того, общественные объединения в соответствии с законом могут вообще не обладать статусом юридического лица и функционировать без государственной регистрации.109 В связи с этим следует поддержать точку зрения Т. В. Сойфер, согласно которой приведенные примеры свидетельствуют «отнюдь не о недостатках теории персонифицированного имущества, а о ее ограниченном использовании».110 В то же время в отношении потребительских кооперативов или обществ взаимного страхования «она вполне применима».111 По мнению исследователя, «определить сущность некоммерческих организаций как юридических лиц только на основе анализа структуры, принципов управления и других признаков, присущих их отдельным организационно-правовым формам, не представляется возможным. Во-первых, ввиду многообразия таких форм и наличия между ними принципиальных различий. А во-вторых, в силу того, что основная деятельность некоммерческих юридических лиц, влияющая на формирование у них специфических признаков, находится за рамками гражданского права и предполагает оперирование нецивилистическими, а иногда неправовыми категориями».112



