
Полная версия:
Дягилев. С Дягилевым

Серж Лафарь
Дягилев. С Дягилевым
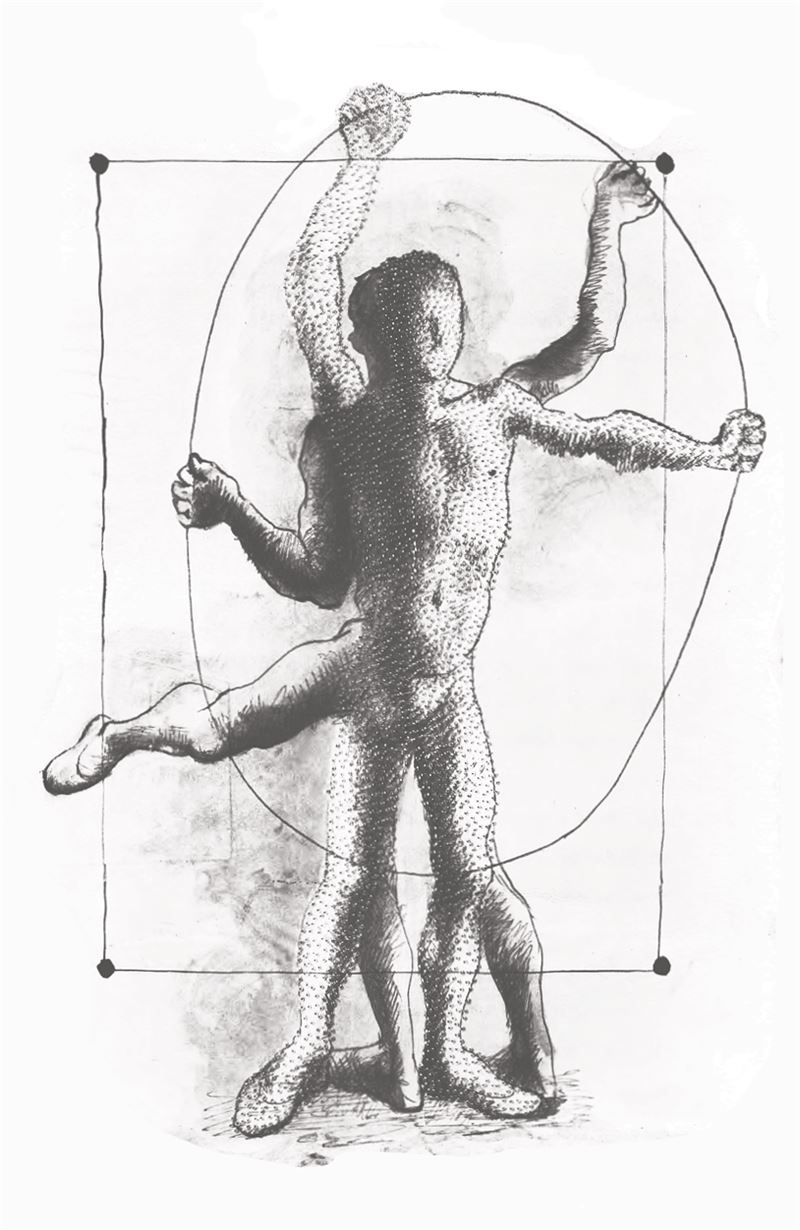
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024
Книга 1
Дягилев
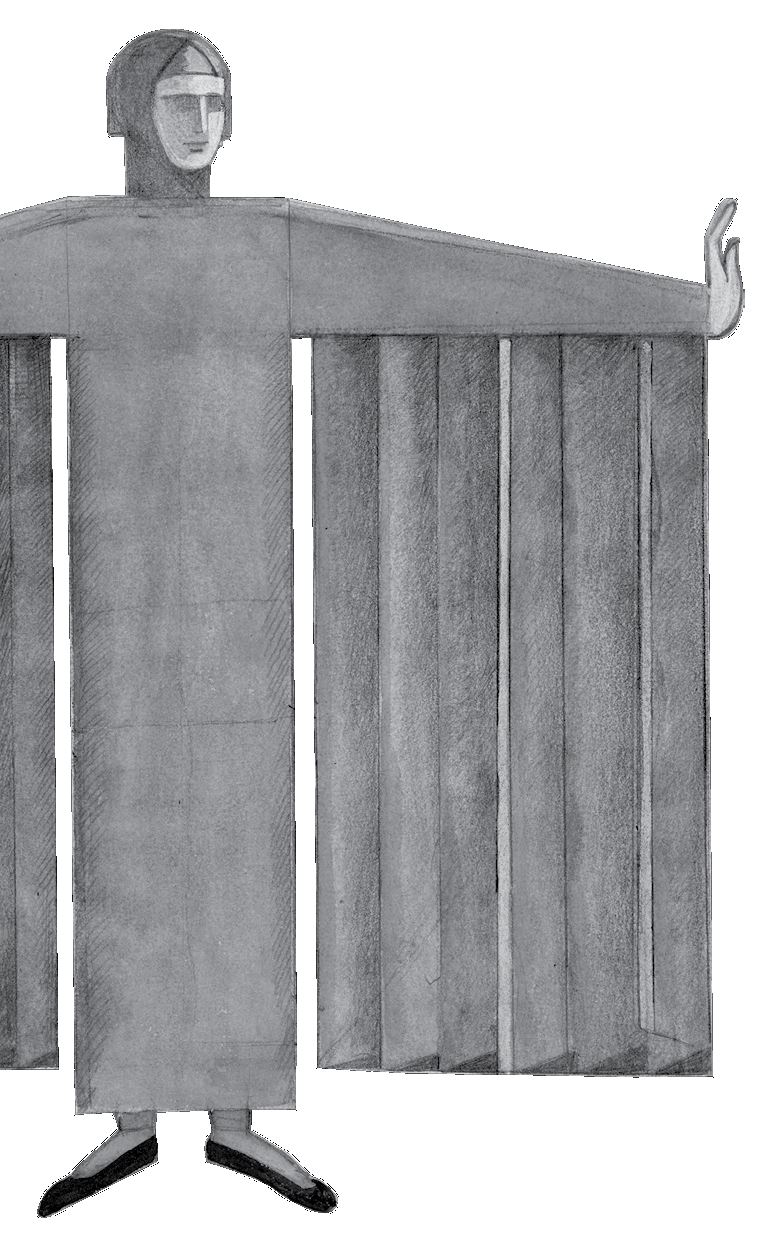
От автора
С трепетом и волнением печатаю я настоящую книгу – мой многолетний труд о Дягилеве. Писать эту книгу я начал почти тотчас же после смерти Дягилева под ее непосредственным, живым и сильным впечатлением: зная, как исчезает память о великих людях и как потом трудно восстановить ее, если окружавшие их друзья не оставили своих воспоминаний, я решил записать все, что помнил о своих встречах с Дягилевым, о своей дружбе с ним и о последних днях его жизни, свидетелем которых я был. Для того чтобы не пропустить всех, едва скользящих мелочей, которых отдельно не рассказать и без которых образ Дягилева получился бы какой-то сухой и неживой, для того чтобы не спугнуть этих живых мелочей, неотделимых от обстановки, я рассказывал свою жизнь 1923–1929 годов, поскольку она входила в соприкосновение с Дягилевым и его жизнью. Писать такие «мемуары» мне было легко – они сами писались, одно воспоминание вызывало в памяти другое: все это было недавнее, еще не отошедшее прошлое; к тому же у меня под рукой были мои дневники 1923–1929 годов, письма Сергея Павловича и его личный архив, – это значительно облегчало мое писание и предохраняло меня от неизбежных ошибок памяти. Затруднения и препятствия встретились, однако, на самых первых же порах, но препятствия совсем особого рода: и моя жизнь, и жизнь Дягилева сплеталась с жизнью других людей: мне не хотелось ни искажать, ни «приглаживать» правду, а писать и печатать все, что я видел, и все, что слышал, – на это я не имел морального права. Препятствия эти были настолько значительны, что я уже прервал свои мемуары. Вскоре, однако, я снова принялся за них: я отказался от мысли увидеть их в печати и принял решение опубликовать через пятьдесят лет.
После этого я мог писать обо всем свободно, мог не щадить ни себя, ни других, мог писать ужевсю правдуо Дягилеве, – я глубоко убежден в том, что в писаниях о великих людях, о людях, принадлежащих истории, не должно быть ничего, кроме правды, не должно быть никаких прикрас, никакой ретуши и никаких умолчаний. Все же я надеюсь, что когда-нибудь, может быть и не при моей жизни, мои мемуары будут напечатаны полностью.
В 1933 году мои мемуары в таком виде были закончены и запечатаны.
В моих мемуарах образ Дягилева остался живым и, как я смею думать, правдивым, но этот образ был слишком интимным: он был эскизом портретаСергея Павловича Дягилева, а не С. П. Дягилева, великого человека, создателя новой художественной культуры, создателя новой эстетики, создателя «Мира искусства» и Русского балета.
Когда Дягилева спрашивали об его жизни, он отвечал: «Я лично ни для кого не интересен; интересна не моя жизнь, а мое дело». В моих мемуарах была жизнь Дягилева, но не было или почти не было его «дела». В то время, тотчас после смерти Дягилева, я не думал о писании такой книги, в которой давалась бы оценка или хотя бы обзор всего «дела Дягилева»: я прекрасно понимал свою неподготовленность к такой монографии, которая требовала от ее составителя совершенно исключительных знаний во всех областях искусства. Я все время ждал появления такой монографии о Дягилеве, которая восстанавливала бы всю его жизнь и объясняла его «дело», такой монографии, которая объясняла бы один из главных эпизодов жизни Дягилева – Русский балет как один из эпизодов на фоне всей его жизни и деятельности, посвященной пропаганде русского искусства – русской живописи, русской музыки и русского танца в Западной Европе – и реформе всего мирового сценического искусства.
Время шло, а такой монографии о Дягилеве не появлялось, и в 1934 году я решил приступить к ней, как ни мало был подготовлен к такой работе[1]. Эта вторая книга должна была явиться дополнением к той дягилевской выставке, которою я решил отметить десятилетнюю годовщину со дня смерти С. П. Дягилева в 1939 году: выставка в Лувре должна была показать не все «дело» Дягилева, а только один его эпизод – Русский балет, – книга охватывала все дело и сохранялась в качестве постоянного памятника. Вторая книга поневоле получилась несколько сухой, и в ней рассказ, скупой рассказ о деятельности Дягилева стал преобладать над рассказом о его жизни. Иначе и не могло быть: так велико было дело Дягилева, что для того, чтобы давать его в подробностях, нужно было бы написать не один, а несколько томов.
Не мне судить о том, в какой мере мне удалось в моем кратком обзоре жизни и деятельности Дягилева передать его прозорливость, позволявшую ему угадывать в человеке художественный гений, гениальную сущность, его умение зажигать своим огнем, вызывать, поддерживать и развивать в художнике скрытое пламя. В моей книге мне хотелось показать, что Дягилев умел не только организовывать художественное творчество, соединять деятелей искусства, создававших неожиданное для них самих, но что и сам он был участником, сотрудником этого неожиданного творчества, участвовал в создании, и чтодягилевская печать лежит на всех произведениях вызванных им к жизни и сплоченных им художников, создававших новую эпоху в искусстве, во всех его областях. Если мой читатель почувствует эту печать дягилевского творящего гения, – моя цель будет достигнута.
В моей второй книге Дягилев-деятель заслонил собою интимный образ Дягилева-человека, – мне пришлось снова вспомнить о первой книге – о моих мемуарах. Я не думал о слиянии двух книг – «Дягилев» и «С Дягилевым», – различные методы их писания не позволяли сливать их в одну книгу, но и соединение их в одном томе потребовало большой работы – переработки. Моя переработка заключалась не столько в приспособлении мемуаров к «цензурным» условиям, сколько в сокращениях: необходимо было, по возможности, изъять все, что касалось лично моей жизни и не имело непосредственного отношения к самому Дягилеву, необходимо было вычеркнуть страницы, касавшиеся лично других людей, необходимо было, чтобы два тома превратились в один, и, наконец, необходимо было частично перераспределить материал в зависимости от моих новых задач. В частности, я должен был многое сократить из того, что касалось ссор и расхождений Дягилева с друзьями. У Дягилева было много, очень много друзей – кто же не слышал об исключительном, единственном, покоряющем дягилевском шарме! – но как много его друзей переходило в стан врагов! Этот переход происходил совсем не потому, что они разочаровывались в Дягилеве, – не разочарование, а чувство обиды заставляло их с горечью судить о Дягилеве.
Дягилев любил друзей и вообще людей и был верен друзьям, но единичные люди были для него толькоэпизодами в его творческой работе, необходимыми в один момент и ненужными в другие моменты, когда он прорывался к новым и недоступным этим людям берегам: в эти моменты прежние друзья становились ненужными ему, переставали для него существовать, и, не изменяя им, не предавая их, он просто забывал о них. Вот этой-то эпизодичности – кто же хочет быть только эпизодом в чужой жизни и работе? – Дягилеву и не могли простить его былые «друзья», и это чувство обиды явственно разлито в их писаниях. Не могли часто ревнивые друзья простить и того, что Дягилев всегда шел впереди них и никогда не следовал за ними…
Эту «эпизодичность» в жизни Дягилева вообще нужно принять: и люди, и отдельные куски его жизни и его творческой работы были для него всегда только эпизодами. Из людей неэпизодами были в начале жизни Дягилева его мачеха, Е. В. Панаева-Дягилева, во второй половине жизни – Мися Серт. Не эпизодична была творческая воля Дягилева: отдельные проявления ее, отдельные увлечения Дягилева были эпизодами, но вечное, постоянное горение, вечная страсть открывать и давать миру творческую красоту – не эпизод.
Серж Лифарь
Часть первая
Молодой Дягилeв
«Предки» Дягилева
Маска и лицо С. П. ДягилеваНа фотографиях Сергея Павловича Дягилева – и еще более в живом, вечно изменчивом лице – поражает и необычность его лица, и совмещение самых различных, различно говорящих черт. Первое впечатление от этого лица – какая-то монументальность и несокрушимая крепость, что-то твердое и здоровое, что-то от Петра Великого; действительно, в чертах лица Дягилева около губ было отдаленно напоминающее богатыря-царя; этим сходством, своими «петровскими» усиками Дягилев гордился и утверждал, что в нем есть петровская кровь через его мать, рожденную Евреинову[2].
Впечатление монументальности особенно усиливается громадной головой – такой громадной, что Дягилеву приходилось делать шляпы по особому заказу, и даже шляпы Salisbury и Gladstone оказывались для него тесны; но в этой громадной голове с белой прядью было что-то непропорциональное.
Когда смотришь на фотографию Дягилева, не можешь отделаться от впечатления, что в нем слились лицо и маска – сперва видишь маску, почти неподвижную, и только потом начинаешь различать лицо, проступающее сквозь маску,через маску. Маска Дягилева очень выразительна – так выразительна, что порой можно принять ее за самое лицо, – не принимал ли иногда и сам Дягилев свою маску за настоящее, за лицо? – Она выражает русского ленивого барина, слегка надменного, слегка презирающего людей, слегка сноба, брезгливого к жизни и ее страданиям, слегка гастронома, понимающего толк в хорошей кухне и в хорошем вине, слегка мецената, покровителя искусства, благодушно и бездумно отдающегося на несколько минут эмоциям «изящного искусства» и ценящего «изящество» больше, чем подлинную глубину; иногда этот скучающий барин способен и весело рассмеяться – и так весело и здорово, что его смех тотчас же обнаруживает, сколько еще здоровых сил сохраняется в декаденте-снобе, – способен и на шумные буйные веселья и развлечения, вплоть до битья стаканов, так же точно, как способен и на бурные вспышки гнева, когда столы и стулья летят и ломаются от его тяжелой и властной – о, прежде всего, властной, самодержавной, диктаторской руки, не признающей над собой никакого начала, никакого авторитета. Он не прочь порой и пофилософствовать о высоких материях, но вообще слегка презирает всякую «умственность», не очень-то всерьез принимает жизнь и презрением к жизни обуздывает свой темперамент.
Но чем больше смотришь на него, тем явственнее начинают проступать черты настоящего лица: прежде всего видишь около жестко-петровских губ какую-то не то улыбку, не то игру нервов нежности, мягкости и теплоты. Эту полуулыбку – дягилевский «шарм» – замечаешь прежде всего, и она – эта полуулыбка, добрая к другим и как будто говорящая о практической беспомощности и беззащитности того, кто умеет так мило детски и нежно девически улыбаться, – покоряет, очаровывает и заставляет всматриваться в лицо ивидеть его. И тогда начинаешь видеть глаза Дягилева, и читаешь в них святую грусть и святое беспокойство, «взыскание нового града», воспоминание о далекой духовной родине, стремление найти новую родину…
Много нового открываешь в глазах Дягилева – нежность, доброту и неожиданно – сентиментальность…
Сквозь маску и лицо проступает лик Дягилева…
Родовое «дягилевское». – Отец и дедИ в маске и в лице Сергея Павловича Дягилева – первого и последнего, единственного представителя новых Дягилевых, нового рода, им начатого и на нем же прервавшегося, – было много такого типичного, «дягилевского», которое было присуще только одномуСергею Павловичу Дягилеву. «Дягилев», «дягилевщина» – эти слова для нас связаны только с одним Дягилевым – Сергеем Павловичем, – одним из тех людей, усилиями которых «наша двинулась земля». Русской истории и нет нужды ни до каких других «Дягилевых», кроме Сергея Павловича Дягилева и его тетки – Анны Павловны (от того, что она приняла фамилию своего мужа, Философова, она не перестала быть Дягилевой), быть может, самой большой русской общественной деятельницы во всем XIX веке.
Но не о Дягилеве, а о «Дягилевых» приходится вспоминать для того, чтобы ответить на вопрос, заданный в 1896 году С. И. Мамонтовым, когда последний встретился с Сережей Дягилевым: «На какой почве вырос этот гриб?»
Прежде всего приходится констатировать в лице С. П. Дягилева общедягилевскую почву, которую летописец дягилевской семьи, Е. В. Панаева-Дягилева, мачеха Сергея Павловича, так определяет: «Мужские, женские, детские, красивые, некрасивые, все они явно принадлежат одному корню, на всех общий родовой отпечаток.
Одна из самых определенных и знаменательных черт этого отпечатка – рот. Начиная с обворожительного и кончая безобразным, – это все видоизменения одного рисунка, с пухлой нижней губой, чувственного характера.
Засим – посадка прекрасных, густых, тяжелых волос всевозможных оттенков, от светло-русого до вороньего крыла включительно, они обрамляют лоб характерными линиями, одинаковыми у всех.
Некоторую странность представляют глаза этой веселой семьи. Есть голубые, карие, черные, зеленоватые, и формы разные, но выражение у большинства – грустное.
Наклонность к полноте, по выходе из юношеского возраста, полноте, несомненно, русского свойства, составляет, тоже в разных степенях, одну из принадлежностей дягилевских фигур. Все это, и масса других мелочей, которых не перечесть, придают им известный air de famillе[3], бросающийся в глаза. Это не то сходство, которое делает иногда одного брата дубликатом, их никто не принимал друг за друга, но зато каждому из них приходилось неоднократно натыкаться в обществе ли, на железной дороге ли, где хотите, на знакомых кому-нибудь из сестер или братьев, но ему лично совершенно неизвестных людей, которые прямо подходили с вопросом: „Не из Дягилевых ли вы?“
Особенности физиономии выделяют их не менее, чем веселая непринужденность, благодаря которой они всегда и везде кажутся как дома. Наконец, своеобразная манера выражаться, присущая всем большим семьям, между членами которых образуется, с помощью им одним известных словечек и выражений, точно франкмасонство».
Помимо этих общих родовых дягилевских черт в Дягилеве были и черты, непосредственно унаследованные от отца и деда. Так точно, как сквозь маску проявляется лицо Дягилева, так точно через отца Дягилева (у которого было много общего с маской Сергея Павловича),за отцом его чувствуется, видится дед, Павел Дмитриевич Дягилев.
Блестящий кавалергард, беспечно веселый и красивый, острослов, средне умный и средне образованный, – человек общества, прекрасный товарищ и человек жизни, с барской психологией, не задумывающийся ни над какими «проклятыми вопросами» и «безднами» бытия, человек чистой непосредственности, Павел Павлович Дягилев обладал прекрасным голосом (тенором) и был очень музыкален; молодым офицером он учился петь у известного преподавателя, чеха Ротковского, и пел от самых серьезных вещей до модных романсов и цыганщины и пением своим покорял женские сердца. Его одинаково ценили и в салонах, и в семейном кругу, и в веселых ресторанах, и на балах, где он бывал постоянным распорядителем, – всюду, где бы Павел Павлович ни появлялся, он вносил благодушие и веселье.
Многие свои черты П. П. Дягилев передал своему сыну, его маске-лицу. Но благодушному и веселому «кавалергардскому Юлию Цезарю» не удалось заслонить в своем сыне деда, личности в высшей степени сложной, интересной и оригинальной. Человек страстный, порывистый, не знавший удержу ни в каких увлечениях, дед Сергея Павловича, до своего нравственного кризиса, происшедшего в 1855 году (когда ему было сорок семь лет), умел сочетать в себе громаднейшую эмоциональность и жизненность с аскетическими стремлениями, сибарита, монаха, эпикурейца и «фуфырку». Так, «фуфыркой», называл его начальник в Министерстве финансов, граф Киселев, за его строптивый и непоседливый дух.
«Павел Дмитриевич Дягилев, – рассказывает его внук, П. Г. Корибут-Кубитович, – был человек особенный. Он происходил из старинного рода московских дворян, окончил военное инженерное училище в Петербурге, но недолго был офицером и скоро перешел на службу в Министерство государственных имуществ к известному графу Киселеву; на этой службе он также недолго оставался и покинул ее из-за пустого разногласия (дед, как и внук его, Сергей Павлович, не мог по самой природе своей служить и подчиняться дисциплине). В ту пору Павел Дмитриевич был весельчак, играл отлично на рояле, гордился тем, что был учеником известного в то время профессора Фильда, был прекрасным семьянином – у него была большая семья, состоявшая из восьми детей. Выйдя в 1850 году в отставку, он поселился в пермском имении Бикбарда. После отца он получил большое состояние – около пятнадцати тысяч десятин в Осинском уезде Пермской губернии и в смежном Бирском уезде Уфимской губернии, тоже с прекрасною усадьбою; в каждом имении было по большому винокуренному заводу. В Перми, на главной улице, был громадный дом с тридцатью комнатами, с большим флигелем, садом и громадным двором, обрамленным конюшнями, каретными сараями, ледниками и проч. Дед жил полгода в усадьбе, а семья оставалась в Петербурге, так как детям надо было давать образование.
Дед был широких взглядов. В Петербурге, где жила его постоянно увеличивавшаяся семья, вся прислуга была наемная, так как дед не хотел иметь дворовых крепостных и к крестьянам относился всегда доброжелательно и гуманно. Когда начались реформы Александра II, дед был выбран землевладельцами Пермской губернии депутатом в знаменитый комитет по освобождению крестьян и тогда чаще и дольше живал в Петербурге, где у Дягилевых был на Фурштатской улице большой дом с флигелями; дом был трехэтажный, и два этажа занимала в нем семья Дягилевых.
Павел Дмитриевич оказался прекрасным хозяином, и при его умелом управлении, после перестройки и оборудования винокуренных заводов, дела пошли блестяще, и дед из очень состоятельного человека превратился в богача».
Но чем больше П. Д. Дягилев богател, тем меньше начинал ценить богатство и вообще земные блага. Он сблизился с монахами, и его жена обвиняла их в перемене, происшедшей с ним: «Они ему вбили в голову, – говорила она, – что не надо иметь никакой привязанности к земле. Он, кажется, бедный, и сам этому не рад, видно, как он борется с собой, потому что от природы добр и имеет любящее сердце».
Иначе, и гораздо более убедительно, объясняет перемену в деде Дягилева Е. В. Панаева-Дягилева, рассказывающая в своих интересных воспоминаниях[4]: «Началом драмы Анна Ивановна (жена П. Д. Дягилева) считала следующий эпизод, случившийся, как она сама определяла, „в год свадьбы Ноночки“, старшей их дочери Анны, вышедшей замуж в 1855 году за Владимира Дмитриевича Философова, одного из лучших людей на свете.
Эпизод произошел в Петергофе. Нанята была большая, великолепная дача, бывшая Рубинштейна, и поныне существующая. Вся семья переехала туда на лето, начиная с молодых Философовых и кончая грудным ребенком Юленькой, меньшой из всех детей. Кроме девятерых своих детей, было еще пятеро Быковых (сироты, оставшиеся после старшей сестры Анны Ивановны и выросшие все на попечении Павла Дмитриевича). Тут же гостили двое сыновей графа Федора Петровича Литке, двоюродные братья Анны Ивановны, но по годам сверстники ее детей.
Гувернеры, гувернантки и бонны увеличивали многочисленность компании. Анна Ивановна всегда очень подчеркивала в этом рассказе, как много было у нее народу на руках, чтобы дать полное понятие о своем затруднительном положении, когда, в одно прекрасное утро, Павел Дмитриевич уехал в город, в казначейство, за деньгами и не вернулся ни на следующий день, ни на третий, ни на четвертый день. Зная, что он должен был получить порядочную сумму денег, ей приходила мысль, не ограбили ли его, не убили ли его.
Ждала она, ждала… нет, как нет мужа. Тогда она отправилась в город, что по тем временам составляло настоящее маленькое путешествие, и узнала у себя дома, от дворника, что барин действительно приезжал, но что к нему пришел какой-то рыжий хромой монах, с которым он и уехал неизвестно куда.
Павел Дмитриевич вернулся в Петергоф только через две недели, без гроша денег, похудевший, побледневший и мрачный. Где он был и что он делал, добиться от него было невозможно.
Случай этот, бесспорно, отмечает известную эпоху в семейной хронике, но, чтобы он был началом драмы, в этом я сильно сомневаюсь. Не был ли он, наоборот, концом, „разрешением“ первого ее периода, тайного и, может быть, самого тяжкого. Чтобы разразиться таким резким поступком, как исчезновение из дому на две недели солидного отца семейства с каким-то „неизвестным монахом“, намерение должно было копиться долгое время.
Наконец, Павел Дмитриевич заболел, или, по крайней мере, состояние его признано было за психическую болезнь. Выразилась она тем, что он никого не хотел видеть, даже детей, одну только жену допускал к себе. Анна Ивановна говорила мне, что это было ужасное время. Они проводили время в изнурительных скитаниях по Петербургу, а бессонные ночи в беспрерывном шагании взад и вперед по комнатам, причем Павел Дмитриевич требовал, чтобы, не умолкая, играл орган, тот самый, который мы все помним в бикбардинской зале. Пароксизмы волнения доходили у него до неистовства. Анна Ивановна заставала его иногда в забытьи, распростертого на полу перед образами, в позе распятого. Несколько раз, в исступлении, он принимался глотать перламутровые иерусалимские крестики и образки, изломав их на кусочки. Она вытаскивала их у него изо рта.
Такое дурное состояние продолжалось недолго, но следы его остались неизгладимыми навсегда. Прежний Павел Дмитриевич, полный, веселый, немного сибарит, большой меломан, любитель выездов, приемов, театров, маскарадов, исчез, как не бывал. Явился новый Павел Дмитриевич, аскет; и с аскетом-то Анна Ивановна не хотела примириться до конца его дней. Она порывисто и гордо, как все, что она делала, открыла страстную борьбу, а он упорно и столь же страстно отстаивал новый путь, на который вступил. Ни тот, ни другой не уступали пяди.
Положение обострилось еще денежным вопросом, который так удачно всегда подвертывается в семейные распри. По-моему, все более и более прибывающие, за последние годы, средства явились здесь новым поводом раздора. Благодаря им Павел Дмитриевич делал громадные взносы в монастыри (я не знаю, существует ли хоть один, в котором не нашлось бы крупного его пожертвования), строил церкви, учреждал странноприимные дома для монашек и монахов, одним словом, раздавал направо и налево.
Мамаша кипела негодованием, глядя на все это. Скупой назвать ее было нельзя. Правда, она экономила на самых мелочах, но эта черта присуща людям расточительным, к числу которых она, по-моему, несомненно принадлежала, хотя очень удивилась бы, если бы ей кто-нибудь решился это сказать. Возмущала ее не чрезмерность расходов мужа, потому что сама она тратила громадные суммы, а то, на что он производил эти расходы. Духовенство сделалось ее кошмаром, предметом ее ненависти, так как в нем нашлись вымогатели, которые злоупотребляли возбужденным настроением Павла Дмитриевича.
Примером остроты, какой достигали денежные стычки, служит следующий анекдот. Павел Дмитриевич и Анна Ивановна обыкновенно присутствовали со всей семьей на богослужениях в Сергиевском соборе, на Литейной… Однажды, когда они стояли там рядом, и к ним подошли с тарелочным сбором, Павел Дмитриевич положил на тарелку тысячерублевый билет[5]. Анна Ивановна, не долго думая, взяла эту тысячу рублей назад с тарелки и положила их себе в карман, а на тарелку, вместо них, опустила один рубль. Мужу же она объявила, что поедет к митрополиту, расскажет ему все и спросит: богоугодное ли это дело разорять своих детей».
Когда дед умер, Сергею Павловичу было уже одиннадцать лет, и он хорошо помнил его, как помнил и свою бабку – Анну Ивановну Дягилеву. Удивительно, что в том портрете ее, какой рисует Е. В. Панаева-Дягилева, опять-таки мелькают такие черточки, которые заставляют вспоминать о самом Дягилеве.
На этой-то дягилевской почве и вырос гриб – Сергей Павлович Дягилев – тесно связанный с этой почвой, но совершенно особенный, исключительный, непохожий на все другие грибы – на других Дягилевых.
Детские и отроческие годы Дягилева
Рождение С. П. Дягилева и смерть его матери. – Переезд к Корибут-Кубитовичам. – Няня ДуняДягилев родился в Селищенских казармах (в Новгородской губернии) 19 марта 1872 года.
Казармы эти были расположены в знаменитом историческом имении Грузино графа Аракчеева, на реке Волхов. Отец Дягилева был командирован туда своим полком на год и поехал с молодой женой. К ожидавшимся родам приехала его любимая сестра М. П. Корибут-Кубитович (она была старше его лет на семь), за два месяца до того похоронившая мужа и оставшаяся с тремя детьми. Роды были очень мучительные и трудные из-за большой головы младенца, – через несколько дней Евгения Николаевна скончалась на руках Марии Павловны.

