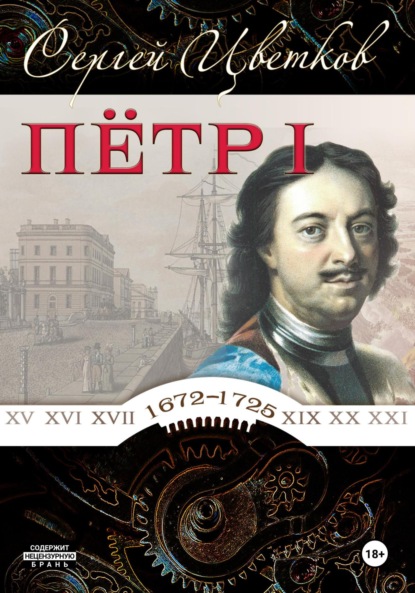
Полная версия:
Петр I
Медведев был земляком и другом Федора Леонтьевича; вместе с ним служил когда-то подьячим в Тайном приказе. Позже, приняв постриг, он сблизился с Симеоном Полоцким. Воспитателю царских детей понравился образованный, начитанный монах, и он взял его к себе в Заиконоспасский монастырь. Здесь Медведев познакомился с Федором Алексеевичем, бывшим тогда еще царевичем; впоследствии став царем, Федор собственноручно переписывался с ним. Со смертью Симеона Полоцкого отец Сильвестр занял его место возле Софьи в качестве духовного учителя и собеседника. Особое расположение и доверие царевны он заслужил после того, как преподнес ей сочиненное им похвальное слово ее правлению, где, помимо прочего, полностью отрицал какое-либо ее участие в стрелецком мятеже и убийствах бояр. Обремененный изрядной польско-греко-латинской ученостью, Медведев презирал патриарха Иоакима, который не мог похвастаться большой образованностью. Мысленно отец Сильвестр примеривал на себя патриарший куколь. Разговоры, которые вела с ним Софья о своем венчании с Голицыным, подогревали эту надежду.
Теперь Медведев, конечно, не захотел упустить случай посрамить патриарха на богословской ниве. Он выступил в защиту устоявшегося мнения, против братьев Лихуд и Иоакима. Стороны обменялись несколькими бранчливыми и грубыми памфлетами. Спор достиг такой остроты, что для его разрешения потребовался авторитетный посредник. Было решено обратиться к киевским ученым старцам. Из Москвы к гетману Мазепе отправили несколько возов богословских книг с просьбой передать их в Киево-Печерскую лавру для проверки и справы.
Киевские монахи подтвердили правоту Медведева. Между тем разгневанный патриарх, не дожидаясь ответа из лавры, отставил его от должности справщика и предал анафеме. Но тут за друга вступился Шакловитый. Он приставил к патриаршей келье стражу и держал Иоакима под арестом до тех пор, пока тот не снял с Медведева отлучения. Патриарх потребовал от Софьи наказания обидчика, но получил отказ.
Такое окончание спора принесло Медведеву огромную славу в стрелецких слободах, где жило множество раскольников и сочувствовавших расколу. В келью к многоначитанному мужу ежедневно стекались толпы стрельцов за советом и поучением. Часто туда приходил и Шакловитый, подговаривал стрельцов скинуть патриарха. Отец Сильвестр не одобрял открытого бунта, но охотно подтверждал, что патриарх – человек неученый и богословских речей не знает, славил добродетели и мудрость Софьи и чернил ее противников.
Шакловитый, напротив, действовал открыто и нагло. Чего считаться с патриархом, этой б… бородой? Давно пора посадить на его место отца Сильвестра. Дьяк всеми силами старался раздуть былую вражду стрельцов к Нарышкиным. У него был знакомец, Матвей Шошин, подьячий приказа Большой казны, сильно похожий на Льва Нарышкина. По его приказу Шошин, переодевшись в белый тафтяной кафтан, однажды ночью подъехал вместе с двумя стрелецкими капитанами к караульной избе за Земляным валом. Капитаны зашли в избу и сказали караульным, что их вызывает Лев Кириллович Нарышкин. Когда они вышли, капитаны спросили у них, который час ночи, а потом набросились и стали бить плетьми и обухами. Стрельцы взмолились о пощаде. Капитаны стали просить: «Сжалься, Лев Кириллович, хватит с них и того». Но Шошин отвечал: «Бейте их гораздо, скоро и с другими поквитаюсь за смерть братьев своих». Утром избитые стрельцы пришли в Стрелецкий приказ, где Шакловитый записал их жалобы и отправил лечиться на казенный счет.
Однако в стрелецких слободах это происшествие прошло незамеченным. Не расшевелили стрельцов и слухи о том, что приверженцы Нарышкиных во дворце неуважительно относятся к царю Ивану: завалили, дескать, дверь в царскую опочивальню поленьями. Стрельцы пожимали плечами. Подумаешь – дверь завалили! Прежде говорили, что его и вовсе задушили, а что вышло? Не трогало их и необычное поведение второго царя – не их дело указывать царскому величеству, как время проводить. Шакловитый сумел навербовать себе только пятерых приверженцев: урядников Обросима Петрова, Алексея Стрижова, Андрея Кондратьева и двух пятидесятников – Кузьму Чермного и Никиту Гладкого.
Между тем в келье у Медведева появился волхв – поляк Митька Силин. Медведев ворожбу любил, сам гадал по звездам и предсказывал будущее. Основным делом Митьки было лечить своим искусством болезненные очи царя Ивана Алексеевича. Однако Медведев выведал у него, что, кроме того, умеет Митька, глядя на солнце, угадывать по нему, что кому будет, заговаривать грыжу, пособлять жене и мужу и лечить от животной болезни. Способности волхва заинтересовали отца Сильвестра. Он открыл Митьке, что царевна Софья хочет замуж за князя Голицына, Шакловитый – стать первым боярином, а сам он – патриархом, и велел посмотреть на солнце – сбудется ли так. Митька дважды влезал на Ивановскую колокольню, пялился на солнце, истекая слезами. Вернувшись, сообщил Медведеву, что у обоих государей венцы на главах; у князя Голицына венец мотался на груди и по спине, а сам он стоял темен и ходил колесом; царевна была печальна и смутна, Медведев темен, Шакловитый повесил голову.
Медведев рассердился на него. Что он бредит? Разве это гадание – один обман. По звездам гадать могут только люди мудрые и ученые. Пускай волхв занимается врачеванием, а предсказания оставит.
В ту пору как раз занемог князь Голицын. Аппетит пропал, и на душе сделалось как-то смутно и тяжко. Медведев отправил Силина к нему – щупать живот. Митька помял князя костлявыми пальцами и нашел, что он здоров, а болезнь у него только одна – любит князь Василий Васильевич чужбину, а жены своей не любит.
***
Удобное место для верфи – напротив церкви Знамения – Брандт и Корт сыскали быстро. Лето минуло в хлопотах: заготавливали лес, пилили бревна, доски, вбивали и укрепляли сваи, запасались гвоздями, скобками, парусиной, веревками, смолой, пенькой. Собрав материал, заложили сразу три судна: два фрегата и шхуну.
Петру полюбилось вольное житье, о Преображенском он и думать забыл. Но с приближением осени оттуда пришло два письма: одно от Натальи Кирилловны, которая звала сына приехать ко ее дню ангела; другое от Зоммера, сообщившего об окончании строительства Пресбурга. Фортеция отстроена на славу, писал бранденбуржец, надо брать приступом!
Письмо Зоммера всколыхнуло в душе Петра подзабытую страсть к сухопутным потехам. Сердце его разрывалось между Пресбургом и верфью – хотелось и тут поспеть, и туда не опоздать. В конце концов Пресбург перетянул – там было все готово, а у кораблей только-только обозначился остов: их огромные ребра белели на берегу, словно обглоданные туши неизвестных чудовищ. Петр уехал, взяв с мастеров слово, что к весне суда непременно будут спущены на воду.
Подъезжая к Преображенскому, Петр издалека завидел трехъярусную восьмигранную деревянную башню с главными воротами Пресбурга, обращенными ко дворцу. Немного погодя он смог разглядеть жерла орудий, торчавшие из бойниц, караулы на стенах. Теперь он не жалел, что покинул верфь. Славный город Прешпурх! Его стольный град Прешпурх!
Петр назначил штурм на другой день после именин матери. В Пресбурге засели стрельцы Сухарева полка, штурмовали город Преображенский и недавно созданный Семеновский гвардейские полки. Взяли крепость приступом так храбро и радостно, что и не описать. Когда на главной башне взвились знамена Преображенского и Семеновского полков, Петр во главе отряда барабанщиков и флейтистов вступил в город. Зоммер торжественно вручил ему ключи от крепости.
В честь столь достопамятного события Петр благословил воинство водочкой. Из царских рук вино вдвойне хмельно. Прикатили несколько бочонков и раздали их в роты. Офицеров Петр угощал лично. Русские не знали, как благодарить за честь, – выпив, многажды кланялись в землю и отходили, пятясь задом. Немцы были смелее: опорожнив стакан, протягивали руку за вторым, третьим… Затем появилось чье-то предложение отметить победу славной вечеринкой, и было, конечно, встречено шумным одобрением. А чтобы не вызвать на голову молодого царя нареканий от матери, царицы Натальи Кирилловны, решили поехать веселиться в Кукуй.
Несмотря на то что Кукуй раскинулся по обоим берегам Яузы, в какой-нибудь версте от Преображенского, Петр еще ни разу не бывал здесь. Вообще эта поездка была неслыханным скандалом. Для русских людей Кукуй был поганым местом обитания еретиков, что нашло отражение в самом его презрительном названии. Нога православных царей никогда не ступала сюда. Но у Петра любопытство, как всегда, взяло верх над силой традиций. Выросший на окраине Москвы загадочный иноземный городок поразил его новизной впечатлений. Перед ним проплывали просторные чистые улицы со свободно расхаживающими по ним людьми, фигурные решетки садов, островерхие колокольни церквей, уютные, но вместе с тем прочные и основательные двух- и трехэтажные домики с красными черепичными кровлями, блестевшие на солнце светлыми оконницами с ярко промытыми стеклами, за которыми виднелись опрятные, выглаженные занавески и горшки с цветущими геранями; в палисадниках перед домами гиацинты, левкои, нарциссы отцветали на оголенных черных грядах, между тем как тюльпаны – чернолиловые, рдяные, золотистые – все еще устилали землю бархатным ковром. В планировке улиц и строений не было никакой хаотичности, и то, что издалека казалось беспорядочным скоплением построек, спрятавшихся в зеленой гуще деревьев, представало вблизи тщательно продуманным и организованным: кварталы образовывали четкие четырехугольники, вязы, липы, дубы выстраивались вдоль улиц, а садовые деревья ровными шеренгами окружали дома и небольшие прямоугольные пруды.
Обстановка, в которой происходила вечеринка, тоже была необычной для Петра, привыкшего к степенным и чинным московским пирам. Компания расположилась в светлой гостиной с большими квадратными окнами и узорным каменным полом (это мог быть дом Зоммера или любого другого из немецких офицеров), где стояли широкий и длинный дубовый стол, массивный буфет, клавикорды, кресла с замысловатой обивкой, золоченые стулья – из тех, что дюжинами продавались в Овощном ряду по рублю за штуку, – и резные лавки. Жена хозяина дома быстро расставила на столе бутылки вина, блюда с ветчиной, хлебом, сыром, фруктами и разложила между ними глиняные и пеньковые трубки самой разнообразной длины и формы, рядом с которыми поместила раскрытые кожаные кисеты с крупно нарубленным пахучим табаком. Несколько стаканов венгерского помогли высокому гостю почувствовать себя непринужденнее.
А гостиная между тем наполнялась людьми – мужчинами и женщинами, стариками и молодежью, военными и штатскими. И вот уже кто-то сел за клавикорды, зазвучала музыка, и пары усердно застучали каблуками по узорному каменному полу. Все больше хмелея, Петр дивился тому, как незаметно в комнате появлялись незнакомые лица, с какой раскованностью вновь прибывшие включались в общее веселье. Казалось, хозяину и гостям нет никакого дела друг до друга; каждый развлекался, как хотел, не обращая внимания на то, чем занимаются другие. Отцы семейств, дымя трубками, сидели за шахматами или чинной беседой, их жены примостились вдоль стен с вязаньем в руках; бойко переговариваясь между собой, они не спускали глаз со своих белокурых Вильгельмин и Доротей, танцевавших с фенрихами, поручиками и капитанами иноземных полков московской службы бесконечный польский, гросфатер или какой-нибудь танец с поцелуями. Другие мужчины не покидали стола, налегая на вина и закуски. Никто из гостей не докучал Петру церемонными приветствиями и разговорами.
С этого дня Петр стал часто наведываться в Кукуй, охотно принимая приглашения от офицеров и купцов на родины, крестины, свадьбы. Пил и танцевал вместе со всеми до упаду (впрочем, больше в метафорическом смысле: ни хмель, ни усталость не могли свалить его с ног); вот только долго не решался взять в зубы глиняную трубку с мерзким табачным зельем, помня указ своего покойного батюшки царя Алексея Михайловича о том, чтобы табачников метать в тюрьму, бить по торгам кнутом нещадно, рвать им ноздри, клеймить лбы стемпелями, а дворы их, и лавки, и животы – все имать на государя. Однако ему все-таки растолковали, что курение табака – невиннейшее развлечение. Все просвещенные народы Европы давно уже дымят во славу Божию, из чего, кстати говоря, их государи извлекают немалый доход – десятки, сотни тысяч червонцев в год. Обидно, что московские государи из-за пустого предрассудка лишают свою казну этого обильного источника доходов. Так не прикажет ли государь зажечь для него трубочку? Отличная вещь, и превосходно, кстати сказать, прочищает голову. И вот, при взгляде на немцев, сладко посасывавших свои чубуки, его неудержимо потянуло отведать, что это, в самом деле, за дымная прелесть такая.
Попросив набить для него трубку, Петр с удовольствием потянул носом душистый дымок, тонкой струйкой бегущий вверх, осторожно затянулся… Через какое-то время он с тревожным наслаждением почувствовал, как его тело стало легче, руки и ноги сделались точно не его, мысли исчезли… Сладкое наваждение! Нет, все-таки немцы славный народ, умеют пожить в свое удовольствие, не то что наши постники-кисляи…
***
Посещения Петром Кукуя сильно не понравились Наталье Кирилловне. Разговор с ней, состоявшийся однажды по этому поводу, был не из легких. Лицо Натальи Кирилловны выражало твердую решимость пресечь зло в корне. Дитя начало пить и гулять! Это в шестнадцать-то лет! И если ему еще удалось с большим трудом доказать нелепость и невозможность ее требования прогнать от себя немцев и больше не знаться с ними, то слова матери о намерении женить его прозвучали словно удар грома и заставили в замешательстве умолкнуть.
Он не сразу вновь обрел дар речи. Жениться? Он не ослышался? Господи, зачем? Однако его поспешные и необдуманные возражения не произвели на Наталью Кирилловну никакого впечатления. Перечить ей бесполезно. Это ее последнее материнское слово. И нечего хныкать и строить умоляющие глазки – она уже все решила. Пора ему взяться за ум и прекратить водиться с пьяницами и еретиками. И потом, чего он так взъерепенился? Жена рая не лишит. А уж она подберет ему такую девицу, что он будет век благодарить свою матушку.
Ее последние слова несколько успокоили Петра. Значит, невесты еще нет и его не потащат к венцу немедленно. А там, глядишь, все и забудется.
Но авось не вывез. Правда, прошло около двух месяцев, прежде чем Наталья Кирилловна вновь заговорила с ним о женитьбе, однако сама тщательность этой подготовки указывала на то, что решение ее неизменно. Да, Петруше не в чем упрекнуть ее – невеста просто загляденье: Евдокия Лопухина, дочь окольного боярина Иллариона Абрамовича.
Правда, она старше Петруши на три годочка, но уж зато красива, смирна, воспитана в страхе Божием и в старых благочестивых обычаях – ей и глаза вверх поднять больно.
Не жена, а истинное благословение дому. Расхваливая Лопухину, она старалась не замечать хмурого молчания сына.
Софья оценила брачные хлопоты Натальи Кирилловны по-своему. Никак Преображенская волчица заботится о приплоде, чтобы закрепить престол за своим волчонком? Может быть, она еще надеется справить это событие всенародно? Нет, ни копейки не будет выделено из казны – пускай волчонок венчается не в Благовещенском соборе, как это принято у московских государей, а где-нибудь в другом месте, втихомолку. Народ должен видеть, что второй царь, собственно, и не царь.
И вот он стоял в небольшой придворной церкви Святых апостолов Петра и Павла, косясь на застывшую слева от него фигуру незнакомой женщины в тяжелом парчовом платье; голова ее, закутанная прозрачным покрывалом, была слегка наклонена вниз, и глаза опущены. Позади молодых Лев Кириллович и князь Борис Алексеевич держали венцы над их головами; двое других бояр – Тихон Никитич Стрешнев и молодой Алексей Матвеев – довольствовались ролью свидетелей и созерцателей венчального чина. Счастливая Наталья Кирилловна и растроганный отец невесты, Илларион Абрамович, в качестве царского тестя переименованный по обычаю в Федора, умиленно смотрели на своих детей. Шла неделя о блудном сыне, и Наталья Кирилловна, то и дело поднося к покрасневшим глазам платок, шепотом повторяла немудреные слова притчи, которую священник читал по Евангелию, лежавшему на аналое: «…сей сын мой был мертв и ожил; пропадал и нашелся»…
Первые же дни (или скорее ночи) медового месяца принесли с собой целый ворох новых чувств и переживаний, среди которых наиболее сильными были яростное вожделение, испытываемое им к мягкому, податливому, беззащитному телу жены, смутно белевшему в темной пропасти постели, и пресыщенная опустошенность и даже страх, подступавшие к нему сразу же, как только его затуманенный наслаждением рассудок начинал сознавать, что их взаимное молчание уже не поддерживается немым красноречием возбуждения. Нужно было говорить, но о чем? Разве между ними есть что-нибудь общее? Утомительно-заботливые вопросы матери о его отношениях с молодой женой, – вопросы, как будто требовавшие в ответ восхищения и благодарности, – ставили его в тупик.
Пытаясь разобраться в том, почему жена продолжает оставаться для него чужой женщиной, Петр и сам настойчиво спрашивал себя, имеет ли он право быть ею недовольным. Конечно, мать права: его Дунька образец супруги, и жаловаться ему вроде бы не на что. Что касается домашних обязанностей, то тут ей, можно сказать, даже нет равных; к тому же послушлива, благонравна, скромна, знает назубок Часослов и Псалтырь, Триоди цветную и постную, Октоих, Минеи, – словом, всегда готова Богу и мужу угодить и дом в добре строить. Между тем все внутри его протестовало против присутствия рядом с ним этой женщины, в своем смирении и послушании предъявлявшей на него такие неслыханные права, какими никогда не пользовалась даже его мать. Она вяжет его по рукам и ногам. Ну в самом деле, не может же он целыми днями просиживать возле нее, целуясь и милуясь с ней до тошноты (чего стоят одни уменьшительные словечки, которыми она взяла привычку именовать его!) и перемежая это занятие чтением столь любезных ее сердцу Миней и Трефолоя или беседами с полублаженными-полусвихнувшимися нищими бродягами, внезапно в ужасающем количестве появившимися на женской половине дворца. А стоит ему побывать на Потешном дворе, как не знаешь, куда деваться от занудных увещеваний никогда больше туда не ходить, ибо она всерьез считает всех иноземцев нечестивыми еретиками, общение с которыми грозит гибелью души и тела в сем веке и будущем. Тут недолго вконец обабиться, превратиться в зайку, птенчика, лапушку – этакого пушистого Петрунчика для домашних утех. Рассуждая подобным образом, Петр начинал злиться – на жену, на мать, на себя…
Весь этот полумедовый-полуполынный месяц, бесконечными метелями и лютой стужей обрекший его на безвылазное заточение во внутренних покоях, Петр не переставал думать о том, как бы ему поскорее вырваться из дворца. Не проходило дня, чтобы он не вспоминал Плещеево озеро, старика Брандта, костяки своих кораблей, теперь уже, наверное, обросшие деревянной плотью. Жалел, что не остался там зимовать, – тогда бы все было по-другому… Эх!..
К счастью, весна наступила рано, весь март победоносно светило солнце, снег быстро осел, сделался грязным и ноздреватым и, наконец, пополз от дворца к Яузе, обнажая черные проплешины раскисшей земли. К началу апреля, когда войско под началом князя Голицына оставило Москву, отправившись во второй поход против хана, Петр уже не мог без зубовного скрежета видеть Преображенские стены и, едва просохли дороги, покатил в Переславль.
На верфи Петр с радостью обнял своих стариков – Брандта и Корта. Они с гордостью показали ему плоды своего восьмимесячного труда: два корабля – фрегат и шхуна – были уже в отделке, дело стало только за канатами, с которыми, как не преминул отметить Брандт, в России обстоит все-таки не совсем благополучно. Петру не терпелось спустить корабли на воду, а тут еще озеро вскрылось как раз ко дню его приезда – хоть теперь же плыви! В Преображенское полетело письмо с требованием, не мешкав, прислать канаты; в противном случае Петр грозил матери задержаться в Переславле на более долгий срок.
Но Наталья Кирилловна тоже решила проявить характер. Вместо канатов Петр получил строгое приказание быстрее вернуться в Москву, чтобы поспеть к 27 апреля – дню кончины брата, государя Федора Алексеевича. Петр знал, что, как царь, он обязан присутствовать на панихиде; а ему было не до панихид и не до покойного брата (царствие ему небесное!). Мать хлопочет из-за Дуньки, понятно. Только бабам может прийти в голову оставить такое жгучее дело из-за панихиды!
Он попытался продлить вольные деньки, отговорившись недосугом. Однако во втором письме тон матери стал еще тверже; вместе с матушкиной грамоткой ударила челом и женишка его Дунька о скорейшем государя ее радости возвращении. Когда нарочный из Преображенского прочитал оба письма вслух Петру, с остервенением тесавшему в это время бревно, он в сердцах воткнул топор в белую, пахнувшую смолой древесину. Отговариваться недосугом и дальше было очевидно нельзя да и совестно перед покойным крестным. Уныло посмотрев на почти готовые к спуску суда и поцеловав Брандта и Корта – уж постарайтесь, отблагодарю! – он отправился в Москву зевать на панихиде.
Получилось ни то ни се – к панихиде он опоздал. Да лучше бы и вовсе не ездил! Правда, он лично отправил в Переславль добрые канаты, зато сам вслед за ними выехал не скоро: мать и жена, обрадовавшись случаю, держали его за полы целый месяц. Когда же он, наконец, вырвался и полетел в Переславль, то как раз успел на нежданную панихиду – мастер Корт, не дождавшись его, преставился за сутки до его приезда.
Петр похоронил старика, как родного, и вечером выпил крепко. Наутро они вдвоем с Брандтом принялись за второй фрегат и в шесть дней завершили дело. Восьмого июня спустили корабль на воду и до поздней ночи веселились на нем вместе с мастеровыми людьми и экипажем, без чинов и церемоний. На другой день боярин Тихон Никитич Стрешнев, приехавший накануне из Преображенского с поручением от Натальи Кирилловны справиться, чем таким важным занят государь Петр Алексеевич, с трудом ожив, повез обратно короткую грамотку, писанную Петром второпях на грязном лоскуте бумаги: «Гей, о здравии слышать желаю и благословения прошу; а у нас все здорово, а о судах паки подтверждаю: зело хороши все, и в том Тихон Никитич сам известит. Недостойный Petrus».
Наталья Кирилловна с недоумением повертела бумажку в руках. Что еще за Petrus? Все немцы проклятые… Так скоро и совсем перекрестят ее Петрушу, не дай Господи! Нет, надо, наконец, переговорить с патриархом и думными боярами, чтобы оградили царский дом от еретиков…
Стрешнев говорил что-то о судах, но она никак не могла взять в толк его слова. Да и не до судов ей: хоть бы их и вовсе не было! Нынче стало известно, что Голицын возвращается из похода, и, как говорят, одержав неслыханную победу над ханом. Сонька совсем зарвалась, сидит в Думе царицей всея Руси, а по Москве слухи бродят один страшнее другого – и все про заговоры и мятежи. Как это Петруша не понимает, что сейчас его место здесь, в Москве?
Вошла царица Евдокия, держа очи долу. Поклонилась, спросила, что государь Петр Алексеевич, здоров ли, скоро ли будет назад? Наталья Кирилловна обняла ее, поцеловала в лоб. Петруша, слава богу, здоров и ей кланяется (ведь ни слова бедняжке не написал, стервец!). А домой приедет, никуда не денется – через неделю день ангела покойного государя Федора Алексеевича.
***
Кошка была необычная, степная, дикая; в ней не было ничего от опрятности и вкрадчивой ласковости домашних кисок, напротив, от ее грязно-палевой шкуры разило гнилью, и каждое движение выдавало в ней безжалостного хищника. Едва к ней приближался кто-то из людей, ее продолговатые зрачки вскипали черной кровью, и она молниеносно кидалась всем телом на железные прутья клетки и повисала на них, вздыбив шерсть и яростно шипя.
Эта кошка, доставшаяся казакам при внезапном налете на отряд янычар, была единственным трофеем возвращавшегося московского войска, поэтому ратники, офицеры и воеводы, в одиночку и группами, подходили и подъезжали в обоз посмотреть на нее. Близко к клетке никто не подходил: все уже знали историю о рейтаре, которому излишнее любопытство стоило глаза – лапа животного оказалась длиннее, чем он предполагал.
Князь Василий Васильевич Голицын невольно вздрогнул сам и натянул поводья, чтобы успокоить испугавшуюся лошадь, когда кошка в прыжке глухо ударилась о прутья, тяжело качнув клетку. «Зла, как черт», – заметил кто-то из свиты князя, державшийся чуть поодаль за его спиной. «Зла, как татарин», – поправил говорившего генерал Патрик Гордон. Облаченный в тяжелый нагрудный панцирь и большой шлем с белым султаном, прикрывавший его лоб и щеки, он, несмотря на преклонный возраст, держался в седле необыкновенно прямо, хотя, быть может, и несколько грузно. Его широкое смуглое лицо с небольшим шрамом на правой скуле, ставшее совсем бронзовым от загара, выражало, по обыкновению, спокойную учтивость, и голос звучал бесстрастно-ровно, однако Голицыну показалось, что его слова таят в себе некий намек, даже насмешку. Ну да, наверное, злорадствует про себя. Перед началом похода генерал убеждал князя держаться ближе к Днепру и через каждые четыре перехода воздвигать на берегу небольшие крепости с гарнизоном в несколько сот человек, – уверял, что татары придут в ужас от известий о таком количестве крепостей и занятии всего берега Днепра войсками царских величеств, а у московского войска будет надежно обеспечен тыл; советовал также приготовить заранее понтоны и создать в каждом полку роту гренадер для метания ручных гранат. Все эти советы Голицын тогда самонадеянно отверг, и вот результат: преследуемые татарами полки откатываются к российским южным рубежам по голой степи, им не за что зацепиться, чтобы остановиться и дать отпор наседающему врагу.

