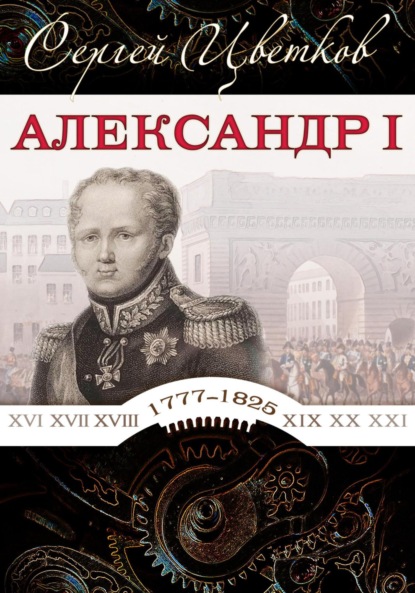
Полная версия:
Александр I
В переговорах с великим князем заговорщики проявили поистине дьявольскую ловкость. Пален рассказывал: «Я зондировал его на этот счет, сперва слегка, намеками, кинув лишь несколько слов об опасном характере его отца. Александр слушал, вздыхал и не отвечал ни слова». Но расчет оказался верен – великий князь ничего не сказал отцу об услышанных намеках и не пресек крамольные разговоры в самом начале. Тем самым заговорщики как бы получили моральное право на дальнейшие шаги.
Убедившись в относительной безопасности, они открыто высказали Александру свои мысли. Дело было представлено так, что «пламенное желание всего народа и его благосостояние требуют настоятельно, чтобы он был возведен на престол рядом со своим отцом в качестве соправителя, и что сенат, как представитель всего народа, сумеет склонить к этому императора без всякого со стороны великого князя участия в этом деле». Александр возмутился этим замыслом и ответил, что «вполне сознает опасности, которым подвергается империя, а также опасности, угрожающие ему лично, но что он готов все выстрадать и решился ничего не предпринимать против отца». Однако содержание разговора вновь осталось тайной от Павла.
Пален сделался смелее. Имея по роду службы почти ежедневные сношения с Александром, который являлся военным губернатором Петербурга, он все чаще заговаривал с ним о необходимости переворота, пугая его, что революция, вызванная всеобщим недовольством, должна вспыхнуть не сегодня-завтра, и тогда уже трудно будет предвидеть ее последствия. «Я, – вспоминал Пален, – так льстил ему или пугал его насчет его собственной будущности, представлял ему на выбор – или престол, или же темницу и даже смерть, что мне наконец удалось пошатнуть его сыновнюю привязанность и даже убедить его установить вместе с Паниным и со мною средства для достижения развязки…»
Вообще в Палене заговор обрел настоящего вождя, хладнокровного, властного, циничного, скрытного, неразборчивого в средствах. В отличие от Панина он преследовал в заговоре только личные цели, хотя впоследствии и был не прочь подчеркнуть, что «совершил величайший подвиг гражданского мужества и заслужил признательность своих граждан», и был сторонником физического устранения Павла. Глядя на его портреты, невозможно представить, что этот крупный, широкоплечий человек, с высоким лбом и открытым, приветливым, почти добродушным лицом в течение трех лет готовил цареубийство, ежедневно уверяя жертву в своей преданности и вооружая сына против отца. Современники отзывались о нем, как об умном, проницательном человеке, усвоившем шутливое отношение к жизни, всегда жизнерадостном и беззаботном. Если верно, что между убийцей и жертвой порой возникает какая-то мистическая близость, какое-то непонятное, глубинное соответствие натур, то следует признать, что Пален как нельзя более подходил на роль убийцы Павла и что именно вышеперечисленные его качества, которые так нравились царю в людях, позволили ему осуществить задуманное.
Итак, Александр дал согласие на переворот. Как видим, против него шла тонкая игра, заговорщики, по сути, обманывали его, преувеличивая недовольство Павлом и пугая последствиями какой-то мифической революции. Конечно, от двадцатитрехлетнего молодого человека можно было ожидать большей проницательности, но ведь Пален возглавлял полицию и поэтому у Александра все-таки были веские причины верить ему. Но было в его поведении также нечто, что позволяет говорить о полусознательном сочувствии планам заговорщиков, обманывании самого себя относительно реальных последствий заговора; он и желал переворота и боялся его, а пуще того – своего участия в нем, участия, которое ставило столько мучительных вопросов перед его совестью. Он был бы счастлив вообще не знать о том, что готовится, ибо доверие к нему заговорщиков все-таки не могло не оскорблять его, оно заставляло его задумываться об истинных чувствах к отцу, о том, что в конце концов он, именно он окажется ответственным за все. Если тут уместны литературные параллели, то можно сказать, что Александр оказался в роли одного из героев Достоевского – Ивана Карамазова, мучимого стыдом за своего отца, презрением к его убийце, Смердякову, и отвращением к самому себе.
Впрочем, по большому счету, он был игрушкой в чужих руках. Пален сам с циничной откровенностью признавался: «Но я обязан, в интересах правды, сказать, что великий князь Александр не соглашался ни на что, не потребовав от меня предварительно клятвенного обещания, что не станут покушаться на жизнь его отца; я дал ему слово: я не был настолько лишен смысла, чтобы внутри взять на себя обязательство исполнить вещь невозможную; но надо было успокоить щепетильность моего будущего государя, и я обнадежил его намерения, хотя был убежден, что они не исполнятся. Я прекрасно знал, что надо завершить революцию или уж совсем не затевать ее, и что если жизнь Павла не будет прекращена, то двери его темницы скоро откроются, произойдет страшнейшая реакция, и кровь невинных, как и кровь виновных, вскоре обагрит и столицу, и губернии».
Признание это проливает свет на истинные роли сторон. Вина Александра состояла главным образом в том, что он хотел быть успокоенным и дал себя успокоить.
С этого момента для него началась череда страшных дней. Чтобы не возбуждать подозрений Павла частыми свиданиями, Пален и Александр обменивались записками через Панина; после прочтения записки сразу уничтожались. Но однажды Панин сунул в руку Палена записку от великого князя перед самым утренним приемом у царя. Барон решил, что успеет прочитать и сжечь записку, однако Павел неожиданно появился из спальни, вошел вместе с Паленом в кабинет и запер дверь; Пален едва успел сунуть послание Александра в правый карман.
Царь заметил это движение; этим утром он был в духе, развеселился и полез в карман Палену, шутливо приговаривая:
– Я хочу посмотреть, что там такое, – может быть, любовное письмо!
Пален был человек не робкого десятка, смутить его было нелегко, но тут он похолодел и сказал первое, что пришло в голову:
– Ваше величество, что вы делаете? Оставьте! Ведь вы терпеть не можете табаку, а я его усердно нюхаю, мой носовой платок весь пропитан им. Вы перепачкаете себе руки, и они надолго примут противный вам запах.
К его счастью, уловка сработала. Павел с омерзением отдернул руки.
– Фи, какое свинство! Вы правы.
Между тем какая-то очередная фамильярность Панина вывела царя из себя, и он отослал вице-канцлера в его подмосковное имение. Однако и там Никита Петрович оказывал содействие заговору, сообщая Палену все, что мог узнать о настроении в столице и торопя с исполнением их плана. Барон расширил вербовку недовольных. Александр ручался за свой Семеновский полк, где в заговор были посвящены все офицеры, включая юнкеров, но Палену хотелось «заручиться помощью людей более солидных, чем вся эта ватага вертопрахов».
Его планам помогла суеверность царя. Павел охотно верил в предзнаменования. Ему, между прочим, предсказали, что если первые четыре года его царствования пройдут спокойно, то ему больше нечего будет опасаться, и остальная часть его жизни будет увенчана славой и счастьем. Он так твердо поверил этому предсказанию, что по прошествии этого срока, в ноябре 1800 года, издал указ, в котором благодарил своих подданных за проявленную ими верность. Пален решил использовать этот момент, чтобы вернуть в столицу братьев Зубовых и других своих друзей, на чью помощь он мог рассчитывать.
Рассказ Палена о том, каким образом ему удалось исполнить задуманное, тоже отлично характеризует этого человека. «Я решил воспользоваться одной из светлых минут императора, когда ему можно было говорить все, что угодно, чтобы разжалобить его насчет участи разжалованных офицеров. Я описал ему жестокое положение этих несчастных, изгнанных из своих полков и высланных из столицы, которые видели карьеру свою погубленной, а жизнь – испорченной, умирающих с горя и нужды за проступки легкие и простительные. Я знал порывистость Павла во всех делах, я надеялся заставить его сделать тотчас же то, что я представил ему под видом великодушия. Я бросился к его ногам. Он был романтического характера, имел претензию на великодушие, во всем любил крайности… Два часа спустя после нашего разговора двадцать курьеров уже скакали во все части империи, чтобы назад, в Петербург, вернуть всех сосланных и исключенных со службы. Указ, дарующий им помилование, был продиктован им самим императором».
Но что же готовил Пален этим несчастным, возвращая их в столицу? Он не оставил потомкам никаких сомнений и на этот счет. «Теперь я обеспечил себе два важных пункта: заполучить Беннигсена и Зубовых, необходимых мне, и второе – еще усилить общее ожесточение против императора. Я изучил его нетерпеливый нрав, быстрые переходы его от одного чувства к другому, от одного намерению к другому, совершенно противоположному. Я был уверен, что первые из вернувшихся офицеров будут приняты хорошо, но что скоро они надоедят ему, а также следующие за ними. Случилось то, что я предвидел. Ежедневно сыпались в Петербург сотни этих несчастных, каждое утро подавали императору донесение с застав. Вскоре ему опротивела эта толпа прибывающих; он перестал принимать их, затем стал просто гнать и нажил себе таким образом непримиримых врагов в лице этих несчастных, снова лишенных всякой надежды и осужденных умирать у ворот Петербурга». Пришлось отослать назад всех тех, кого сразу не приняли на службу, что дало повод к новому недовольству в стране, когда в провинции вновь увидали этих людей, обнадеженных царем и теперь возвращавшихся из столицы, большей частью пешком, и оставшихся без всяких средств к жизни.
Между прочим, эти действия Палена свидетельствуют и о том, что ожесточение против Павла во многом было спровоцировано самими заговорщиками, искажавшими смысл его указов или намеренно перегибавших палку в их исполнении.
Среди тех людей, на чью помощь Пален особенно рассчитывал, был Леонтий Леонтьевич Беннигсен. Этот пожилой, длинный, сухой, накрахмаленный и важный, словно статуя Командора, офицер происходил из старинного ганноверского дома. Его призвание к военной службе определилось очень рано: уже десятилетним мальчиком, состоя пажом при дворе английского короля Георга II, он усердно занимался военными науками, чертил карты, учился верховой езде. Тогда же проявились и главные черты его характера – твердость, упорство, выносливость и методичность.
Этот редкий запас качеств обеспечил ему быструю военную карьеру: прапорщик в четырнадцать лет, капитан в восемнадцать, подполковник в двадцать восемь. Состоя в последнем чине, он перешел на русскую службу, чтобы поправить пошатнувшееся состояние. В России участие в турецкой кампании и штурме Очакова утвердили за Леонтием Леонтьевичем репутацию храброго, решительного и исключительно хладнокровного человека. Широкая известность пришла к нему со времен польской войны 1794 года, когда Суворов пожаловал его за несколько успешных операций чином генерал-майора. Именно тогда о Беннигсене заговорили, как об офицере «отличных достоинств». Награды посыпались на него, как из рога изобилия: орден св. Георгия 3-й степени, золотая шпага с надписью: «За храбрость», орден св. Владимира 2-й степени и тысяча душ в Минской губернии… Тогда же Леонтий Леонтьевич познакомился с Валерианом Зубовым, а через него – с остальными Зубовыми и людьми, близкими к ним, в частности, бароном фон дер Паленом.
С воцарением Павла карьера Беннигсена, как и многих других екатерининских офицеров, прервалась. Хотя вначале царь пожаловал ему следующий чин – генерал-лейтенанта, но уже в сентябре 1798 года в беседе с фельдмаршалом Н.И. Салтыковым, как бы между прочим заметил, что сомневается в усердии Беннигсена, и просил передать это приватно генералу.
Делать было нечего. Леонтий Леонтьевич подал в отставку и уехал в свое имение в Минской губернии.
В начале 1801 года, оказавшись вновь в Петербурге по вызову Палена, Беннигсен возобновил давние знакомства. Еще не будучи посвящен в заговор, он гулял по Невскому, не зная, что Пален уже выбрал для него главную роль в его жизни – предводителя колонны цареубийц.
***
Зимой 1801 года Павел готовился переехать в недавно отстроенный Михайловский дворец.
Причиной строительства послужило одно странное происшествие, о котором говорил тогда весь Петербург. Случилось это через год после воцарения Павла. Часовому, стоявшему у старого Летнего дворца, явился в лучезарном свете Архангел Михаил и велел идти к государю и доложить, чтобы тот немедленно начал строить на этом месте церковь.
Когда царю доложили об этом, он будто бы ответил:
– Я знаю.
Что послужило поводом для такого ответа, осталось неизвестным, но только Павел с неимоверной быстротой приступил к постройке на месте бывшего Летнего дворца, возведенного Анной Иоанновной, нового замка, названного Михайловским. 26 февраля 1797 года уже состоялась торжественная закладка замка. Строительство велось по несколько измененному проекту В.И. Баженова архитектором Бренном, бессовестно разворовывавшим отпускаемые государем средства.
Говорили также о предсказании знаменитого петербургского прорицателя Авеля. Этот Авель славился тем, что незадолго до кончины императрицы Екатерины II вполне определенно предсказал это событие и был посажен за это в Шлиссельбургскую крепость. Павел выпустил его и он, живя в Александро-Невской лавре, разразился новым пророчеством – на этот раз грозя смертью самому царю, не выполнившему желание небесных сил и построившему не церковь во имя Архангела Михаила, а замок, пусть даже и с церковью. Разумеется, после этого предсказания он вновь был заточен.
Впоследствии заметили еще одно мистическое совпадение: на фронтоне дворца была выбита надпись, придуманная самим государем: «Дому твоему подобает Святыня Господня в долготу дней», и количество букв в ней совпало с числом лет, прожитых Павлом.
Строительство было закончено за четыре года. Михайловский дворец, окруженный рвами и гранитными брустверами с орудиями, сообщавшийся с внешним миром посредством подъемных мостов, начиненный потайными лестницами и подземными ходами, действительно имел вид средневекового замка, да, собственно, и был призван выполнять ту же роль: служить царю надежным убежищем от всех случайностей царствования.
8 ноября 1800 года, в день святого архистратига Михаила, дворец был освящен и царь впервые обедал здесь вместе с семьей. Вечером состоялся бал-маскарад, во время которого любой желающий мог войти и осмотреть дворец. Однако пышно задуманное празднество не удалось: из-за сырости, источаемой каменными стенами, в залах и галереях стоял такой туман, что несмотря на тысячи жарко пылавших свечей, люди двигались в полутьме почти наощупь. Придворные врачи заявили, что жить в новом дворце невозможно, не подвергая здоровье серьезной опасности, но Павел, не слушая их, 1 февраля переехал и поселился в нем со всей семьей.
Александру с Елизаветой Алексеевной отвели комнаты в нижнем, самом сыром этаже дворца. Печи не могли согреть и осушить воздух. Бархат, которым были обиты комнаты, плесневел, фрески на стенах и потолках линяли. Углы большой залы, несмотря на два камина, сверху донизу были покрыты льдом. Густой туман клубился по коридорам. Пришлось срочно выкладывать стены деревом, но Павел все равно был в восторге от нового жилища.
Здесь Александр пережил наибольшие страхи и тревоги.
Павел относился к старшему сыну все более и более неприязненно. Зимой он вызвал из-за границы тринадцатилетнего племянника Марии Федоровны, принца Евгения Вюртембергского, который еще тремя годами ранее был пожалован чином генерал-майора и назначен шефом драгунского полка. Царь возгорелся такой любовью к юноше, что объявил о своем намерении усыновить его, прибавив при этом, что он владыка в своем доме и государстве и потому возведет принца на такую высокую ступень, которая приведет всех в изумление. Видимо, закону о престолонаследии, недавно утвержденному самим же государем, угрожало вопиющее нарушение43.
Страх и сознание своей вины перед отцом буквально сковали чувства и волю наследника. Он вел себя тише воды, ниже травы, ему с женой прислуживали только доверенные лица государя; чтобы не навлекать на себя лишних нареканий, Александр не принимал никого из иностранных послов и избегал разговоров с лицами, стоявшими у дел. Тем не менее резкие выходки Павла следовали одна за другой. Однажды царь вошел в комнату Александра и нашел у него на столе трагедию Вольтера «Брут», которая оканчивается словами:
Rome est libre: il suffit.
Rendons graces aux dieux!
[Рим свободен; довольно.
Воздайте благодарение богам! (фр.)]
Павел позвал Александра к себе и, показав ему указ Петра I о царевиче Алексее, спросил: знает ли великий князь историю этого царевича?
Пален ежедневно торопил наследника, указывая, что в заговор вовлечено слишком много лиц, и следует опасаться доноса царю, но Александр все не мог решиться. Наконец произошло событие, которое показало, что медлить дальше невозможно.
7 марта в семь часов утра Пален вошел в кабинет царя с обычным рапортом о состоянии дел в столице. Павел был озабочен, серьезен; заперев за Паленом дверь, он минуты с две молча смотрел на него и наконец сказал:
– Господин фон Пален, вы были здесь в 1762 году?
– Да, ваше величество.
– Были вы здесь?
– Да, ваше величество, но что вам угодно сказать?
– Вы участвовали в заговоре, лишившем моего отца престола и жизни?
– Ваше величество, я был свидетелем переворота, а не действующим лицом. Я был очень молод, я служил в низших офицерских чинах в Конном полку. Я ехал на лошади со своим полком, не подозревая о том, что происходит. Но почему, ваше величество, задаете вы мне подобный вопрос?
– Почему? – вскричал царь. – Да потому, что хотят повторить 1762 год!
Пален, по его собственному признанию, затрепетал при этих словах. Нужно было обладать железными нервами, чтобы не выдать себя в эту минуту. Но Пален, этот гениальный художник вероломства, знал наплывы истинного вдохновения.
– Да, ваше величество, хотят! – ответил он. – Я это знаю и участвую в заговоре.
Павел изумленно уставился на него.
– Как! Вы это знаете и участвуете в заговоре? Что вы такое мне говорите?
– Сущую правду, ваше величество, я участвую в нем и должен сделать вид, что участвую в нем ввиду моей должности, ибо как мог бы я узнать, что намерены они делать, если не притворюсь, что хочу способствовать их замыслам? Но не беспокойтесь, – вам нечего бояться: я держу в руках все нити заговора, и скоро вам все станет известно. Не старайтесь проводить сравнений между вами и вашим отцом. Он был иностранец, а вы русский; он ненавидел русских, презирал их и удалял от себя, а вы любите их, уважаете и пользуетесь их любовью; он не был коронован, а вы коронованы; он раздражил и даже ожесточил против себя гвардию, а вам она предана; он преследовал духовенство, а вы почитаете его; в его время не было никакой полиции в Петербурге, а ныне она так усовершенствована, что не делается ни шага, не говорится ни слова помимо моего ведома…
– Надо сейчас же схватить их всех, заковать в цепи, посадить в крепость, в казематы, послать в Сибирь, на каторгу! – прервал его Павел.
– Ваше величество, – возразил Пален, – в числе заговорщиков ваша супруга, оба сына, обе невестки – как можно взять их без особого повеления вашего величества? Взять все семейство вашего величества под стражу без явных улик и доказательств – это столь опасно и ненадежно, что можно взволновать всю Россию и не иметь еще чрез то верного средства спасти особу вашу. Я прошу ваше величество вверится мне и дать мне собственноручный указ, по которому я мог бы исполнить все то, что вы теперь приказываете, но исполнить тогда, когда на это будет удобное время, то есть, когда я уличу в злоумышлении кого-нибудь из вашей фамилии, а остальных заговорщиков я тогда уже схвачу без затруднений.
– Все это правда, но не надо дремать, – задумчиво ответил царь.
На этом разговор прервался. Пален получил просимый указ: в нем Павел предписывал отослать Марию Федоровну и невесток в монастырь, а великих князей Александра и Константина заточить в крепость. Как видим, Палену удалось очернить в глазах Павла почти всю его семью. Между тем ни Мария Федоровна, ни Константин Павлович, ни тем более жены великих князей ничего не знали о заговоре. Относительно Константина известно, что Пален сам же убедил Александра скрыть от него готовящийся переворот, внушив, что брат может все открыть отцу, чтобы самому занять место наследника.
С царским указом, на котором еще не просохли чернила, Пален поспешил к Александру. Великий князь пришел в ужас, но все же настоял на том, чтобы отсрочить переворот до 11 марта, когда караулы во дворце будут нести семеновцы.
Остается неизвестным, что именно знал Павел о готовящемся покушении, но несомненно, что его томили тяжелые предчувствия. За день до разговора с Паленом, во время верховой прогулки в сопровождении шталмейстера Муханова по аллеям дворцового сада, царь остановил лошадь и сказал сильно взволнованным голосом:
– Мне показалось, что я задыхаюсь и у меня не хватает воздуха, чтобы дышать. Я чувствовал, что умираю… Разве они хотят задушить меня?
Муханов поспешил успокоить его:
– Государь, это вероятно, действие оттепели.
Павел ничего не ответил, покачал головой, и лицо его сделалось очень задумчивым. Он не проронил ни единого слова до самого возвращения в замок. Тогда же он вызвал в столицу Аракчеева; говорили, что гатчинский капрал должен был сменить Палена в должности петербургского губернатора.
Вообще в столице господствовало какое-то всеобщее уныние. Даже погода стояла мрачная, сырая и на улицах было мало прохожих. В девять часов вечера улицы совершенно пустели, на них устанавливались рогатки, рядом вырастали часовые, которые пропускали только врачей и повитух. Разговоры в каждом доме сводились к одному: так долго продолжаться не может.
10 марта на утреннем вахтпараде великие князья Александр и Константин были посажены под домашний арест. Вечером этого дня в Михайловском дворце был концерт. В зале царила гнетущая атмосфера, все приглашенные сидели молча, Мария Федоровна то и дело с беспокойством оглядывалась на мужа, словно пытаясь понять, какие мысли его занимают. Павел смотрел перед собой сердито и расстроенно, и совсем не обращал внимания на пение французской актрисы г-жи Шевалье. Перед выходом к ужину, когда обе половинки дверей распахнулись, царь подошел к супруге и остановился перед ней, скрестив на груди руки, насмешливо улыбаясь и тяжело дыша, что являлось у него признаком сильного недовольства; затем он проделал тоже самое перед обоими великими князьями. В заключение царь подошел к Палену, шепнул ему что-то и поспешил к столу. Все последовали за ним, молча и со стесненной грудью. За ужином стояла гробовая тишина. После его окончания Мария Федоровна и дети хотели поблагодарить государя, но Павел с насмешливой улыбкой встал и быстро вышел, не поклонившись. Мария Федоровна разрыдалась, и вся семья разошлась взволнованная.
11 марта дела шли обычным порядком. Приняв утренний рапорт, царь поспешил на развод, а в одиннадцать часов поехал с Кутайсовым на прогулку. Вечером был накрыт стол на девятнадцать персон, среди которых находился князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Впоследствии он вспоминал, что отправляясь спать, Павел остановился перед зеркалом, которое исказило его отражение. Это рассмешило царя.
– Посмотрите, – обратился он к присутствующим, – какое смешное зеркало: я вижу себя в нем с шеей на сторону.
Эти слова были произнесены Павлом за полтора часа до смерти.
В то время, как царь ужинал, на одной из петербургских застав по приказу Палена был задержан приехавший в столицу по вызову царя Аракчеев. Больше помощи ждать было не от кого.
Маленький курносый человек прошел в свою спальню, разделся и заснул, оставшись совершенно один – в комнате, во дворце, во всем притихшем городе.
***
Утром 11 марта, выйдя на прогулку по Невскому проспекту, Беннигсен встретил сани с князем Платоном Зубовым. Зубов остановил его и сказал, что ему нужно поговорить с ним, для чего пригласил Леонтия Леонтьевича на ужин.
Беннигсену уже надоело шататься без дела в столице, и он намеревался на следующий день уехать назад, в имение. Поэтому перед обедом он отправился к Палену просить у него, как у военного губернатора, паспорта на выезд. Выслушав его, Пален сказал:
– Да отложите свой отъезд, мы еще послужим вместе, – и добавил: – Князь Зубов вам скажет остальное.
Беннигсен заметил, что он был как-то смущен и взволнован.
Часов в десять вечера Леонтий Леонтьевич приехал к Зубову. Он застал у него братьев Николая и Валериана, сенатора Трощинского и еще двух лиц, посвященных в заговор. Князь Платон Александрович сообщил Беннигсену условленный план, сказав, что переворот назначен на полночь. Первым вопросом Беннигсена было: кто стоит во главе заговора? Когда ему назвали имя великого князя Александра, он без колебания примкнул к заговорщикам.

