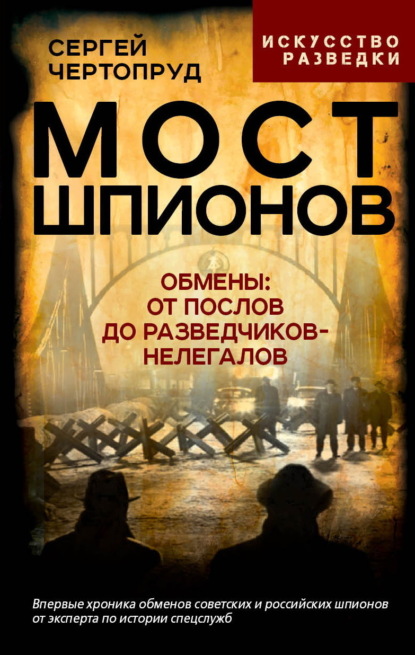
Полная версия:
Мост шпионов. Обмены: от послов до разведчиков-нелегалов

Сергей Чертопруд
Обмен шпионами. От дипломатов до разведчиков-нелегалов

© Чертопруд С.В., 2025
© ООО «Издательство Родина», 2025
Вступление
1 августа 2024 года на территории столичного аэропорта Турции произошел обмен заключенными, содержащимися в местах лишения свободы России, Белоруссии, Германии, Норвегии, Польше, США и Словении. Всего участие в обмене принял 21 человек и несовершеннолетние дети – по словам депутата Госдумы Марии Бутиной, «это самый многочисленный обмен по составу участников за последние годы»[1].
Как заявили тогда в центре общественных связей ФСБ, на родину вернулись 8 граждан России, задержанных и находившихся в заключении в странах НАТО. Их возвращение стало возможным благодаря планомерной работе госведомств РФ и зарубежных партнеров (речь, видимо, о Турции). «Россияне были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России», – говорилось в сообщении ведомства.
В этом обмене, с позиции истории «тайной войны», нет ничего необычного и сенсационного. В современной России более значимым был обмен летом 2010 года. Тогда на Родину вернулось десять «представителей российской разведки». Так их называют западные СМИ. Все они на судебном заседании в США признали факт своего сотрудничества с СВР (Служба внешней разведки) России. Из них семь кадровых разведчиков-нелегалов и трое, чей правовой статус неизвестен. Поясню, что согласно Федеральному закону РФ «О внешней разведке» есть кадровые сотрудники (ст. 18) и «лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам внешней разведки Российской Федерации» (ст. 19).
В августе 2024 года, согласно публикации РИА Новости, на Родину вернулись: трое разведчиков-нелегалов: Михаил Микушин (Жозе Ассис Джамарриа) и супруги Артем и Анна Дульцевы[2]. От себя добавлю, что первый, по данным западных СМИ, действовал по линии ГРУ (военная разведка), а семейная пара – по линии СВР (внешняя разведка).
Еще троих западные правоохранительные органы связывают с российскими спецслужбами. Обладателя двух паспортов (российского и испанского) испанского журналиста Павла Рубцова (также известен как Пабло Гонсалес Ягуэ) – «агент ГРУ», Вадима Соколова (Красикова) – «сотрудник российских спецслужб» и Вадима Конощенкова – «полковник ФСБ». При этом первый из них оба документа (их наличие стало одной из причин обвинения его в шпионаже) получил на законных основаниях. Родился и до 10 лет жил в России, а затем переехал в Испанию[3].
Оставшиеся двое: «российский бизнесмен Владислав Клюшин» и «Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева» согласно публикации РИА Новости не были связаны с российскими спецслужбами[4]. Это подтверждают и западные СМИ. Как не странно, но в этом вопросе они сошлись во мнение.
Фактически в августе 2024 года в результате очередного «обмена шпионами» на Родину вернулось трое «представителей российской разведки». Почему я их так назвал? Если СВР подтвердила (в многочисленных публикациях официальных СМИ уровня «Российская газета»), что супруги Артем и Анна Дульцевы разведчики-нелегалы, то ГРУ, как обычно, хранит молчание.
Таким образом, в 2024 году на Родину вернулось 8 человек (из них трое разведчики) А при обмене 2010 года их было 10 разведчиков. Хотя если учитывать количество тех, кого депортировали на Запад, то да. Самый многочисленный обмен в истории современной России. Если в истории СССР и РФ, то самый масштабный и уникальный обмен произошел в 1941 году.
Во время «холодной войны», а также до ее начала и после завершения происходили более интересные, с точки зрения участвующих в ней людей и предшествующих этому событий, обмены шпионами. О некоторых из них будет подробно рассказано в этой книге.
Почему не обо всех? Просто во время «холодной войны» их было больше 50, и подробности некоторых из них продолжают оставаться секретными. Не меньшее количество обменов произошло в 20–30-е годы прошлого века. Как и в годы «холодной войны», тогда данная процедура была отработана до мелочей. Более того, существовала она и в Российской империи.
В монографии Константина Звонарева «Агентурная разведка. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914–1918 годов» можно прочесть такие строки:
«Видя, что ни официальные, ни тайные военные агенты ничего существенного по военной разведке не дают, Главный штаб начал практиковать в весьма широком масштабе командировки молодых офицеров Генерального штаба в соседние страны под тем или иным благовидным предлогом. Но этим делом занимался не только Главный штаб в лице своего Особого делопроизводства. Офицеров командировали за границу все, кому только было не лень, – почти все главные управления военного министерства, морского ведомства и штабы военных округов. Нередко одни и те же задачи возлагались на офицеров, командируемых различными управлениями. Полученными в результате этих командировок сведениями указанные управления обменивались лишь иногда, и то, как мы уже указывали выше, совершенно случайно.
Округа, которые тоже весьма широко практиковали такого рода командировки, не согласовывали их с Главным штабом и даже предварительно об этом ему не сообщали. Лишь по окончании такой командировки некоторые (далеко не все) отчетные отделения представляли в Главный штаб копии отчетов по этим командировкам.
В результате такого хаоса получалось, что контрразведка соседей без большого труда раскрывала этих разведчиков, командированных под ложными предлогами арестовывала, а командированных под благовидными предлогами ставила в такие условия, что при всем желании большинству из них ничего сделать не удавалось.
Арестованных таким образом офицеров обычно судили и после вынесения приговора обменивали на таких же своих неудачников. Нередко в этом обмене осужденных за шпионаж принимали участие даже цари»[5].
А теперь о самой монографии. В начале 1920-х годов перед специалистами IV (разведывательного) управления Штаба РККА была поставлена задача «провести обширное исследование, охватывающее деятельность агентуры всех важнейших государств, принимавших участие в мировой войне». Результатом реализации столь глобального замысла стали подготовленные Константином Звонаревым два тома капитального исследования: том I – об агентурной разведке царской России и том II – об агентурной разведке Германии, которые вышли из печати в 1929–1931 годах под грифом «Для служебных целей»[6].
Любопытно, но большевики учли опыт предшественников. Во времена существования СССР мы меняли своих разведчиков-асов на тех, кого Константин Звонарев называл «неудачниками».
Справедливости ради отмечу, что не только в СССР меняли профессионалов на «неудачников». Аналогичные истории происходили и в других странах.
Торговля шпионами по-французски
Впервые массовый обмен шпионов произошел более 200 лет назад. В 1798–1801 годах под руководством Бонапарта Наполеона Францией была предпринята неудачная попытка установления контроля над территорией Египта. Париж планировал перекрыть один из путей сообщения между Англией и ее колонией – Индией. В историю эта военная операция вошла под названием «Египетский поход». Не буду рассказывать о том, что именно произошло на территории Египта, отмечу лишь, что в британском плену оказалось множество французских солдат и офицеров. В 1803 году Бонапарт Наполеон решил обменять их на интернированных подданных Великобритании, которые имели несчастье оказаться на контролируемой Францией территории. Они были интернированы и размещены в специально выстроенных для этой цели лагерях.
Среди арестованных были в основном путешественники-аристократы и их молодые отпрыски. Но были и промышленники, буржуа, люди без определенных занятий, художники и шпионы. Прежде чем начать переговоры об обмене арестованных англичан на пленных французов, Наполеон составил своего рода ценник. Британский журналист и историк шпионажа Ирвин Кукридж приводит его в своей книге «Торговля шпионами»:
«За лордов и членов парламента Наполеону должны вернуть плененных генералов и адмиралов, за детей аристократов – полковников и морских капитанов, за джентльменов без титулов – офицеров. Англичане вынуждены были согласиться. В результате обмена французы пополнили армию, а англичане получили назад не только своих ни в чем не повинных граждан, но и шпионов, правда только тех, кого Фуше успел с помощью денег или шантажа переквалифицировать в двойных агентов»[7].
Поясню, что Жозеф Фуше с августа 1799 года по 1810 год занимал пост министра полиции. Талантливый руководитель создал лучшую в мире систематизированную картотеку и чрезвычайно обширный штат секретных агентов как внутри страны, так и за ее пределами[8]. Впрочем, министерство полиции было не единственным органом разведки и контрразведки в наполеоновской Франции.
Обмен шпионов как пример успешной PR-кампанииЕсли обмен шпионов эпохи Наполеона это пример успешной торговли, то произошедшее 10 февраля 1962 года – PR-кампании, которая достойна места в учебниках. Именно в этот день советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля обменяли на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса.
Вильям Фишер, вошедший в историю под псевдонимом Рудольф Абель, работал под прикрытием в США почти 10 лет – с 1948-го по 1957-й. Интересовали его экономические сведения, а также информация о ядерных объектах. Все было стабильно, пока у Абеля не появился помощник – Рейно Хейханен. Он-то Абеля и сдал[9]. Советский разведчик был арестован и осужден более чем на 30 лет тюремного заключения – правда, отбыл чуть более 5[10].
С американским летчиком Фрэнсисом Пауэрсом дело обстояло несколько иначе. Его самолет-разведчик был сбит под Свердловском в мае 1960 года. Его ждали 10 лет лишения свободы, часть наказания он отбыл во Владимирском централе[11].
Этот обмен интересен не только тем, что в очередной раз СССР обменял профессионала на «неудачника», но и огромной выгодой, полученной благодаря успешной PR-кампании, проведенной Москвой. Можно по-разному относиться к деятельности органов официальной советской пропаганды, но из «провала» отечественной внешней разведки (сотрудник был пойман с поличным) и ПВО – вражеский самолет сумел безнаказанно пролететь над значительной территорией, советские пропагандисты смогли сотворить «победу». И скрыть от общественности не только эти две неудачи, но и множество других.
Во время «холодной войны» в США и в других странах регулярно разоблачали кадровых сотрудников советской разведки. Тех, кто обладал дипломатическим иммунитетом, высылали из страны. Остальные, хотя таких было мало, получали реальные тюремные сроки. Вот их то и меняли на пойманных с поличным граждан западных стран. Правда, об этом советские СМИ не сообщали. В лучшем случае в газетах появлялась небольшая заметка о том, что очередной вражеский шпион пойман с поличным. А вот его дальнейшая судьба для советских граждан оставалась загадкой.
Единственный раз, когда в период «холодной войны» одному из ключевых участников обмена – советскому разведчику-нелегалу Вильяму Фишеру (Рудольфу Абелю) позволили сняться в кино (советский фильм «Мертвый сезон»), а тот, на кого обменяли, – американский пилот Пауэрс стал «героем» многочисленных публикаций в советских СМИ. Более того, в 1985 году в Советском Союзе сняли художественный двухсерийный фильм «Мы обвиняем» посвященный судебному процессу над Пауэрсом и предшествующим этому событиям.
Одна из причин такого повышенного внимания именно к этому обмену, хотя за период «холодной войны» их произошло более 50, – его относительная равноценность с позиции общественного мнения СССР и США. Обменяли кадрового сотрудника советской разведки, который, по мнению неспециалиста, нанес несущественный урон интересам национальной безопасности Америки, на офицера ВВС США, который выполнял приказ командования – совершил разведывательный полет над территорией главного противника. На самом деле это была не разовая акция, как тогда утверждали советские и американские власти, а один, причем незначительный, эпизод программы по проникновению Запада «за железный занавес», который СССР начал создавать в 1945 году. Подробно об этом рассказано в книге Кертиса Пиблза «Тайные полеты»[12], поэтому не буду останавливаться на этом подробно. И превращение Пауэрса в «героя-одиночку» очень уж способствовало сокрытию от общественности факта существования этой программы.
Была и другая причина. Вильям Фишер был одинаково симпатичен как гражданам СССР, так и США. Вот как его охарактеризовал американский адвокат Джон Донован: «Абель – культурный человек, великолепно подготовленный как для той работы, которой он занимается, так и для любой другой. Он свободно говорил по-английски и прекрасно ориентировался в американских идиоматических выражениях, знал еще пять языков, имел специальность инженера-электронщика, был знаком с химией, ядерной физикой, был музыкантом и криптографом… Рудольф – человек, обладающий чувством юмора. Как личность, его просто нельзя было не любить»[13].
Во всех остальных случаях, если рассматривать период «холодной войны», то в выигрыше от обмена оставалась всегда Москва, ну а проигрывал Вашингтон. А как иначе объяснить тот факт, что советских разведчиков-нелегалов, а это элита в разведке, обменивали на шпионов-любителей. Агентов-неудачников, которые попались при выполнении первого же задания. Причем, с позиции обывателя, довольно простого.
Часть первая
Между двумя войнами
Вопреки распространенному мнению, в СССР начали активно использовать обмены своих граждан на подданных других государств задолго до начала «холодной войны». Другое дело, что участвовавшие в них люди в большинстве своем мемуаров не писали. А если и оставляли воспоминания потомкам, то данную тему старались не затрагивать. Не принято было тогда хвататься нахождением в иностранной тюрьме. Пусть даже если попали в нее в силу политических причин, как это произошло с дипломатами в 1918 году. Или когда оказались не в том месте и не в то время, как это произошло во время Гражданской войны в Испании с экипажами нескольких советских кораблей. А тем более, если поймали на занятии шпионажем.
Глава 1
«Красных» дипломатов на «белых» заговорщиков
6 сентября 1918 года в Лондоне британская полиция сначала провела обыск на квартире полпреда РСФСР Максима Литвинова, а затем и арестовала его. «Одновременно со мной были обысканы и арестованы почти все работники полпредства. Посажен я был в Брикстонскую тюрьму», – вспоминал он позднее. Даже несмотря на то, что Великобритания не признала Советскую Россию, содержание под стражей ее официального представителя – международный скандал. Впрочем, с формальной точки зрения британцы имели на это право, т. к. 1 сентября 1918 года в Москве был задержаны глава специальной британской миссии при советском правительстве Брюс Локкарт, а также несколько британских и французских дипломатов. Всех их обвинили в шпионаже, а также в участии т. н. «заговоре послов». Более того, все они были заключены под стражу и в течение полутора месяцев содержались в Бутырской тюрьме. Главе миссии «повезло» больше. Он находился, на правах высокопоставленного заключенного, на территории Кремля.
Кратко теперь о «заговоре послов», который и послужил причиной первого в истории СССР обмена. Правда, неравноценного. Ведь Максим Литвинов и сотрудники советского посольства не участвовали в разведывательных операциях, в отличие от своих зарубежных коллег. Впрочем, во время «холодной войны» ситуация была диаметрально противоположной. СССР выменивала своих высокоэффективных, в большинстве своем, кадровых разведчиков на граждан ФРГ, Великобритании и США, чьи достижения в сфере «тайной войны» были минимальными.
Подготовка заговораСогласно официальной версии, изложенной зампредседателя ВЧК Яковом Петерсом, заговор был организован в 1918 году дипломатическими представителями Великобритании, Франции и США в Советской России с целью свержения большевистской власти. В заговоре участвовали глава специальной британской миссии Роберт Локкарт[14], а также послы: Франции – Жозеф Нуланс и США – Дэвид Фрэнсис[15].
С последними двумя все не так просто. С конца 1917 года Жозеф Нуланс регулярно негативно отзывался о советской власти, чем сильно раздражал Москву. В конце апреля 1918 года НКИД направил французскому правительству ноту с требованием отозвать Нуланса. Не получив ответа, советское правительство отказалось признавать Нуланса представителем Французской республики и объявило его частным лицом. Несмотря на это, Нуланс остался в России и продолжал свою контрреволюционную деятельность. Формально к осени 1918 года он был частным лицом. При этом согласно официальной советской версии, был одним из организаторов и вдохновителей белогвардейских заговоров (например, участвовал в деятельности «Союза защиты Родины и Свободы»[16] и «Союза возрождения России»[17]), а также участвовал в организации восстаний против советской власти (например, в мятеже Чехословацкого корпуса[18]).
С американским дипломатом другая история. К советской власти он относился нейтрально. Так, в начале 1918 года он рекомендовал Вашингтону предоставить России новый заем в размере 10 млн долларов, заметив при этом, что обстановка в Петрограде спокойная. В феврале 1918 года он переехал из Петрограда в Вологду, а в июле 1918 года, под давлением большевиков, перебирается из Вологды в Архангельск. Впрочем, и там он задержался недолго. В начале ноября 1918 года он вернулся в США. И возможно, что в заговоре не участвовал.
Брюс Локкарт пытался подкупить находившихся в Москве латышских стрелков, охранявших Кремль, с тем, чтобы совершить военный переворот, арестовав заседание ВЦИК вместе с Лениным и заняв ключевые пункты Москвы. Два полка латышей должны были быть отправлены в Вологду, чтобы соединиться с английскими войсками, которые должны были высадиться в Архангельске, и помочь их продвижению.
Кроме того, по заявлению Якова Петерса, союзные миссии устраивали взрывы, поджоги и планировали взорвать железнодорожный мост через реку Волхов около Званки, чтобы отрезать Петроград от поставок продовольствия и вызвать там голод.
Как раскрыли заговорСогласно воспоминаниям латышского чекиста Яна Буйкиса, заговор был раскрыт следующим образом. В июне 1918 года Феликс Дзержинский отправил двоих латышей, Яна Буйкиса (под именем Шмидхен) и Яна Спрогиса, недавно поступивших на службу в ВЧК, в Петроград с заданием проникнуть в антисоветское подполье.
В морском клубе, располагавшемся рядом с Адмиралтейством, приятели общались с моряками стоявшего на рейде британского судна. Через них чекистам удалось познакомиться с руководителем контрреволюционной организации, морским атташе британского посольства Фрэнсисом Кроми. Их представили последнему как «надежных людей». Кроми познакомил их с агентом британской разведки Сиднеем Рейли[19] и посоветовал ехать в Москву, снабдив письмом для передачи Локкарту, который хотел установить контакты с влиятельными командирами латышских стрелков.
Отдельно отмечу, что Фрэнсис Кроми во время Первой мировой войны командовал подводной лодкой и был самым успешным британским подводником на Балтийском театре военных действий. Исполнять обязанности военно-морского атташе его попросили в мае 1918 года. На новом посту он продемонстрировал неплохие организаторские способности. Например, он направил служившего в качестве офицера связи на британской подводной лодке E1 Георгия Чаплина в Архангельск для организации там антибольшевистского переворота и подготовки высадки там английских войск. В ночь на 2 августа 1918 года последний возглавил военный переворот в Архангельске, в результате которого в городе была свергнута советская власть. Георгий Чаплин стал командующим всеми морскими и сухопутными вооруженными силами Верховного управления Северной области.
Также Френсис Кроми был одним из руководителей петроградской вербовочно-осведомительной организации бывшего санитарного инспектора Балтийского флота Владимира Ковалевского. Организация занималась сбором шпионских сведений для англичан, переправляла через Петроград в Архангельск и Вологду бывших офицеров, а также готовила возможное вооруженное восстание в Петрограде и Вологде. 21 августа 1918 года Ковалевский был арестован и заключен в Дерябинскую тюрьму, в декабре 1918 года переведен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. 13 декабря 1918 года расстрелян по обвинению в создании военной организации, связанной с английской миссией.
В Москве после совещания с Феликсом Дзержинским и Яковом Петерсом было решено «подставить» Локкарту командира 1-го легкого артдивизиона Латышской стрелковой советской дивизии лейтенанта Эдуарда Берзина, выдав его для солидности за полковника. 14 и 15 августа 1918 года Берзин встречался с Локкартом, а затем 17, 19, 21 августа – с Рейли. Последний передал Берзину в конечном счете 1,2 млн рублей в качестве платы за свержение латышскими полками советской власти в Москве, денонсацию Брестского договора и восстановление Восточного фронта против Германии. А после войны британцы обещали содействие в признании независимости Латвии.
Приступить к ликвидацииВысока вероятность того, что если бы не два покушения, организованных и совершенных людьми, которые не имели, по крайней мере согласно официальной советской версии, отношения к деятельности Локкарта, то события развивались бы по другому сценарию и обмена послов не было. По той простой причине, что с ними поступили бы более вежливо – просто попросили бы покинуть страны пребывания.
30 августа 1918 года, после убийства начальника Петроградской ЧК Моисея Урицкого в городе на Неве и неудачной попытки застрелить Владимира Ленина в Москве, у ВЧК создалось впечатление, что начался контрреволюционный переворот.
На самом деле оба покушения напрямую не были связаны с деятельностью иностранных дипломатов. Моисея Урицкого в вестибюле Народного комиссариата внутренних дел Петрокоммуны (на Дворцовой площади) застрелил студент Петроградского политехнического института и член партии народных социалистов Леонид Каннегисер. Отметчу, что партия отвергала террор как средство политической борьбы. Согласно официальной версии, он решился на такой шаг, мстя за смерть расстрелянного в ЧК друга.
А вот кто стрелял во Владимира Ленина, когда он выступал на митинге на заводе Михельсона в Москве, – до сих пор установить не удалось. Хотя в советское время считалось, что это была полуслепая Фанни Каплан. Вождь мирового пролетариата получил два ранения. Одна пуля в шею под челюстью, а вторая – в руку. Хотя ранение Ленина казалось смертельным, он выздоровел очень быстро. 25 сентября 1918 года он уехал в Горки и вернулся в Москву 14 октября, сразу возобновив политическую деятельность. Первое после покушения публичное выступление Ленина состоялось 22 октября 1918 года.
В любом случае реакция властей на убийство и покушение последовала незамедлительно. В стране начался т. н. Красный террор. Одновременно начались задержания участников различных антисоветских организаций, а также тех, кто подозревался в нелояльности к советской власти.
Активный участник антибольшевистского подполья мичман Александр Гефтер (в 1918 году – вахтенный начальник на крейсере «Память Азова») позднее написал в своих мемуарах: «Локкарт попался в Москве самым глупым образом. Говорили, что в деле замешена женщина… Огромное количество людей, имевших отношение к Локкарту, было арестовано или было вынуждено скрываться»[20]. Действительно, в Петрограде и Москве начались аресты и обыски. Причем чекистов не смущал даже принцип экстерриториальности посольств.
Снова процитирую воспоминания Гефтера: «По чьему-то доносу большевики узнали, что в Британском посольстве (находилось тогда в Петрограде. – Прим. авт.) есть документы, представляющие для них интерес. Смелый англичанин, капитан Кроми…, защищал вход в посольство на нижней площадке лестницы с маленьким браунингом в руках. В это время все хранившиеся на чердаке документы были уничтожены. Большевики ворвались с черного хода, и Кроми был убит винтовочным выстрелом в затылок»[21].
Автор мемуаров умолчал о том, что 30 августа 1918 года на территории посольства произошла перестрелка, в ходе которой погибло два чекиста: Янсон[22] и помощник комиссара Петроградской ЧК И.Н. Стодолин-Шенкман, а также был ранен следователь ВЧК Бартновский[23].
Реакция МосквыНочью 1 сентября 1918 года у себя на квартире в Москве был арестован Локкарт. На вопросы Петерса он отвечать отказался под предлогом дипломатической неприкосновенности, а утром по указанию председателя ВЦИК Якова Свердлова, который на время болезни Ленина фактически становился руководителем страны, был отпущен на свободу.

