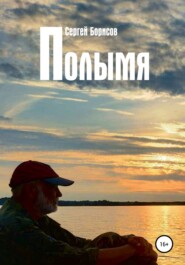
Полная версия:
Полымя
Такие ананасы, образцово-показательные, толстенькие и будто лаком покрытые, декора ради во множестве красовались на столах ресторанной зоны отеля в Таиланде. Туда они ездили с Ольгой и Лерой, семьей. Там, в шезлонге под пальмой, прихлебывая джин с тоником и часто поднося к уху диктофон, он и написал очерк о подмосковной свалке и ее обитателях.
Вокруг было тропическое благолепие с потугой на роскошь, и миниатюрные тайки, слетевшиеся на побережье в поисках работы, готовы были всячески служить клиенту: «Пива? Да, мистер… Что-нибудь еще? Массаж?» Должно быть, поэтому, на контрасте, сцены жизни мусорного стойбища получались яркими, сочными, объемными. Настолько, что при желании, обладая избирательным и пристальным взглядом, в этом частном можно было увидеть общее: параллели, тенденции. Эх, Расея! Неизбывна и горька твоя участь. И как ясно видится это издалека! Совсем по-есенински: «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянье». И виделось… Самые проникновенные слова о Родине писатель Тургенев сочинил, проживая во Франции и не помышляя о том, чтобы вернуться в зачуханную сторонку. Вот только уж больно продолжительно и увлеченно клеймил тебя Иван Сергеевич, нимало не заботясь о том, кто что скажет, мнения прелестной Полины Виардо было ему с избытком.
Олег строчил в блокноте с пагодой на обложке и жалел, что не прихватил на отдых ноутбук. Писалось легко, и хорошо получалось. Правда, порой ему казалось, что есть в этом несоответствии – как он здесь all inclusive и как они там, в грязи и вони полигона, – изрядное паскудство. Но ощущение это как появлялось невесомой тенью, так и улетучивалось. Достаточно было той тени, что дарили пальмы, а эта мешала, покушаясь на безмятежность отдыха.
Безмятежного? Не совсем. Слишком многолюдно, суетно, шумно, слишком много русской речи, которая отпускника за границей чаще напрягает, чем радует.
И разговоры! Что было съедено на завтрак, идти ли на обед и что готовят на ужин: «Там указано, что будут морские гады, кальмары всякие, креветки, устрицы». – «Фу, какая мерзость». – «Но попробовать надо». – «Все это чужеземное, не наше, все только во вред, у нас метаболизм другой». – «Чего? Ну да, ну да». – «Вся эта еда для нас неполноценна, противопоказана». – «Но есть что-то надо». – «Мне одна женщина рассказывала, что в соседнем отеле люди потравились». – «Да что вы?» – «А чему тут удивляться? Еще неизвестно, что они в землю кидают, растет-то как на дрожжах. А руки… Вот как вы думаете, ихние повара руки моют?» – «Ужас какой».
Такие звучали диалоги, по содержанию которых легко было определить, сколько дней отдыхающей… чаще все же не отдыхающему, а отдыхающей осталось до отъезда. Сначала был период адаптации, чуть испуганного узнавания; затем освоение и вторичное тестирование солнца, моря, сервиса и меню; потом, ближе к концу отпуска, усталое высокомерие собственника, все испытавшего, испробовавшего: «Рыба сегодня жестковата, и вкус не выражен. Вот два дня назад под французским соусом была хороша, да. А вы вон те пирожные возьмите, они им удаются, я всегда беру».
Он слушал эти рассуждения и поучения, ухмыляясь: через несколько дней эти знатоки кулинарных разносолов и курортного быта вернутся к картошке с макаронами, котлетам и консервированным помидорам из дачных заготовок. Это дома. А на работе у кого-то и времени не будет, чтобы поесть по-человечески, потому что дела гонят, заботы гнобят и начальство скупое. И этот кто-то, улучив десяток минут, будет цеплять пластиковой вилкой лапшу быстрого приготовления, обсуждая с такими же, как он, недостатки «роллтона» и «доширака». И авторитетно скажет в конце повторяющейся изо дня в день дискуссии: «А все-таки «роллтон» лучше, надо только заваривать умеючи – кипятка строго по рисочке, и не передержать, а то слипнется». Вот так все и будет, граждане, а то «рыба жестковата, вкус не выражен». Гурманы, бляха-муха! Dolce vita! Дорвались до сладкой жизни.
А еще децибелы! С каждым днем понаехавшие говорили все увереннее, возвращаясь от настороженного вполголоса к привычной громкости. Если на пляже он паче чаяния оказывался менее чем в десяти метрах от лежаков, на которых простерлись тела таких переговорщиков, то, помянув добрым словом «дебильник» с его «московским временем», перебирался со своим блокнотом подальше. Обернувшись, он прикидывал, достаточно ли широка нейтральная полоса, отделявшая его от их пляжных зонтиков, чьи купола, так похожие на обойные гвозди, казалось, знобило от ударов звуковых волн. И думал о продуктивном решении, прикидывая, где бы взять такой молоток, чтобы хлобыстнуть со всей дури и загнать гвоздь по самую шляпку?
«Что ты такой раздраженный?» – в один из дней спросила Ольга, укладываясь на соседний лежак. Обычно это занимало много времени – расстелить полотенце, достать разномастные баночки и тюбики, но сейчас она управилась быстро, в пару минут.
«Все нормально».
«Да ну?»
Конечно, напрасно, не стоило, но он объяснил. И услышал в ответ:
«Злой ты».
«С чего ты взяла?»
«Видно. Сам знаешь, что не прав, и от этого злишься еще больше».
«Это я не прав?»
«Ты. Потому что обобщаешь. У тебя люди – как под копирку, а они не такие. Многие из года в год по заграницам ездят. Для них Египет с Турцией – дом родной».
«Мы в Таиланде».
«Оставь, ты же понимаешь, о чем я. Здесь тоже русские на каждом шагу. И что, они все орут, хамят персоналу, напиваются как свиньи? Ты видишь только черное, глаз такой».
«Какой есть».
«Надо быть снисходительным, а не дано. Вот не нравится тебе, когда люди выделываются, не за тех себя выдают. А ты вот о чем подумай: они целый год на «дошираке» сидят как раз для того, чтобы на две недели со своего шестка соскочить, чтобы вокруг них суетились, чтобы обхаживали, чтобы не им приказывали, а они велели».
«И что в этом хорошего?»
«Может, и ничего хорошего, но что плохого? И поведение их объяснимо. Им нужны эти две недели, они их потом весь год вспоминать будут».
«И жизнь их не будет казаться серой. Так?»
«В жизни обязаны быть краски, иначе это не жизнь, а существование».
«Какая банальность».
«Это истина, а истина всегда банальна».
«Очень глубокомысленно».
«А ты, если невмоготу, купи беруши и отключись, или – вон наушники, музыку слушай».
«С какой стати я должен что-то пихать себе в уши?»
«А с какой стати они должны говорить тише? У них ровно столько же прав, что и у тебя, так с чего им под тебя подстраиваться?»
«С того, что есть свод приличий…»
«Он у каждого свой. Так что расслабься и получай удовольствие».
«Пробовал».
«Не получается?»
Все это Ольга говорила, отточенными круговыми движениями втирая в кожу крем неясного назначения – то ли для загара, то ли от загара, то ли еще какой, с возрастом у нее появился целлюлит. Голос ее был ровный, спокойный, чуть усталый. Так общаются с безнадежными тупицами, которым приходится по десять раз объяснять, чтобы дошло и чтобы усвоили. И эта ее невозмутимость не позволяла согласиться с ней, хотя, разумеется, она была права. Но спорить не имело смысла. Ольга была горой, которая никогда не пойдет к Магомету, это Магомет пойдет к горе – обязательно, рано или поздно. Но с другой стороны, какая же она после этого жена? Ты, милая, будь покладистой, ты согласись, почувствуй, что в эту минуту надо уступить. Будь умней, дальновидней, будь бережливой – сохрани, что имеешь. Поддакивай со всей искренностью, в глаза заглядывай преданно, можешь даже восхититься, какой у тебя удивительный супруг, какая тонкая у него натура, ранимая. Вот тогда ты настоящая вторая половина, первейшая обязанность которой – хранить мир в семье. Ради этого можно многим поступиться, тем более такой малостью, как собственное мнение. Держи его при себе и не высовывайся, так всем будет лучше.
«Уж как умею», – отрезал он.
На том и кончился разговор, а скоро подошел к концу и отпуск, завершившийся предъявленным Ольге заявлением, что на курорты он отныне ни ногой.
Ничего больше из того пляжного отдыха он не вынес. Плюс очерк о бомжах, написанный не только из тщеславия, но еще по одной причине: его томило безделье. Бассейн, море, обжираловка, соотечественники, Ольга и Лера, кидающиеся к каждой лавчонке, все это было невыносимо, и он подумал: может, сочинить что-нибудь и в том забыться? Но рассказы он больше не писал, за крупную форму браться опасался, а что еще? О свалке и ее обитателях? Вообще-то он хотел заняться этим по возвращении домой, но коли обстоятельства складываются, то почему бы и нет?
Фургон с гранатами-ананасами пыхнул дизелем. Минуя перекресток, Олег увидел машины пострадавших в ДТП. Водители заполняли необходимые бумаги под надзором гаишника.
Квартира отца встретила его гулкой тишиной. Он прошелся по ней, заглянул в один шкаф – ничего не забыл, заглянул в другой – ничего не осталось. Только книги на полках и папки на столе. Их он убрал обратно на антресоли, пусть лежат.
Через несколько месяцев он перебрался в эту квартиру насовсем, до того лишь укрываясь в ней на день-другой. А когда уезжал на озеро, уже не на неделю – надолго, достал папки и перегрузил вырезки в коробки от мультиварки и СВЧ-печки, которые приобрел, обживаясь на новом месте. Хорошо, что не выкинул.
Потяжелевшие коробки он вернул в укрытие под потолком, а в папки сложил рукописи – рассказы и повести, заметки, наброски, два незаконченных романа. Один он бросил на тридцать седьмой странице, потому что не знал, что делать с героями, они становились прямыми и плоскими, как рейсшина. Второй отложил на половине, потому что… Потому что к тому времени уже работал на Димона, деньги не переводились, а после двух-трех рюмок вместо внятного текста получалась какая-то белиберда. А еще потому, что написанное им стало не нужно ему самому, а что оно нужно другим, насчет этого он еще раньше перестал обольщаться.
В усадьбе он убрал рукописи в тумбу письменного стола. Зимними вечерами, под настроение, он доставал очередную папку – еще пухлую или уже худеющую – и начинал читать. И сжигать. А те, что оставлял, укладывал обратно, подравнивая стопку бумаги, как до того свои воспоминания. В общем, наводил порядок.
«Надо действовать. Но кому достанет самонадеянности иль безрассудства сказать, что это – плохо, а это – хорошо? Вы – Маяковский? Вы – крошка-сын, усвоивший отцовские наставления?
Да и будет ли слушать тот, кто уверен, что знает, как надо и как не надо. А если выслушает, то с какой стати ему верить чужим словам?
Желтая грязь благополучия рвет души. Как дрожат пальцы, когда в них шуршат бумажки с водяными знаками, пейзажами и памятниками. Какие разводы, какие линии!
Или все это шелуха? Пройдет, как цыпки на руках ребенка. Отпадут темно-коричневые корочки, а под ними новая розовая кожа.
И кого поставить против? Мало людей, с кого можно писать иконы. Да и есть ли, были ли? Это иконописцев всегда хватало. Как у Феофана, именуемого Греком: белая полоска носа, скулы, черные тени под глазами и мячи мускулов под чем-то алым. И у товарища Дейнеки те же символы и каноны: ни шага вперед, ни шага назад. И ни шага в сторону – критики, они такие, пристрелят.
И очень много слов. Правильных и пустых, ибо гармония – в пустоте.
И как привлекательна ложь, почитаемая за правду, ибо красота – в простоте.
Все больше тех, кто рубит с плеча. Взмах – и напополам, до земли, до седла. Чистота взмаха и чистота помыслов. Возлюбившие себя, они достойны ненависти.
Я ненавижу их. И слепну от ярости».
Та же опера. Только заголовок другой – «Перепутье». И тот же апломб. Макулатура.
* * *
Шлепая лапами, подлетел Шуруп. Ткнулся башкой в колени, требуя внимания.
– Чего надо?
Ответ ясно читался во влажных собачьих глазах.
– Э, брат, продрыхся, теперь поиграть?
Псина довольно осклабилась.
– Не пойдет, – отверг притязания Олег.
Шуруп задумался: не цапнуть ли хозяина за «зефирку», чтобы не заносился? Но не решился – за такое можно и по носу получить. Выбрав иную тактику, он сделал стойку, забросил лапы на колени капризуле, сотворил умильную физию, потянулся…
– Только без телячьих нежностей! – увернулся Олег. – Меня ими не проймешь.
Шуруп фыркнул обиженно, но лапы с коленей не убрал и губы держал поблизости, готовый продолжить ласки, если его опекун вдруг осознает свою неправоту и отбросит это возмутительное равнодушие.
Олег потрепал пса по холке:
– Не сердись. Вот, можешь съесть. – Олег поднес к собачьей морде смятый в хрусткий шар лист бумаги. – От сердца отрываю.
Шуруп понюхал, брезгливо скривился и обиделся еще больше.
– Да, – согласился Олег, – вещь малосъедобная. – Он бросил шар на пылающие поленья. – Там ей место.
Пес одобрительно наклонил голову, взглянул на хозяина и горестно вздохнул, понимая, что счастливой перемены не будет. Убрал лапы и убрался в свой угол. Растянулся на подстилке. В глазах его стыла вселенская скорбь. Но не лежалось… Шуруп встал и отправился в обход своих владений. Постоял перед входной дверью, за которой свистело, завывало и ухало. Двинулся дальше. Обнюхав углы шкафов, он убедился в очевидном: никто на его территорию не покушался, так что и повздорить не с кем. Ох, тоска! От нее, от грусти и печали, он знал только одно противоядие – сон. Шуруп вернулся на подстилку, улегся, зевнул и прикрыл веки.
Олег следил за перемещениями пса, но баловать его не собирался, хотя мог бы – и брюхо почесать, и мячик покидать, есть у них такой, то-то была бы радость. Да что мячик! Тот бумажный комок, который он бросил в камин, с успехом мячик заменил бы. Шуруп его вмиг бы порвал на британский флаг. Только кому потом конфетти собирать?
Однако не только поэтому Олег был строг и непреклонен. Прежде он слишком многое позволял своему выкормышу, пора было приструнить, а то совсем от рук отбился: сейчас из сугробов не вылезает, а летом шлялся неизвестно где, возвращался в репьях, с исполосованной осокой мордой. Значит, на Подлое болото наведывался, шельмец, к кабаньим лежкам. Ничего не боится, и не из-за природной отваги, а по малолетству и глупости.
Увы, в отличие от птицы Говоруна из сказки Кира Булычева, умом и сообразительностью Шуруп не отличался. По крайней мере, на собственных ошибках не учился. И родословной похвастаться не мог. Ни сторожевой, ни охотничьей собакой он не был. Единственным жизненным предназначением его было получать радость от жизни и дарить радость другим, что Шуруп и делал самозабвенно, не пытаясь оспорить то, что диктовали гены. Впрочем, это был не приказ о беспрекословном подчинении, а нечто схожее с шумом стадиона перед началом футбольного матча, когда тысячи голосов сливаются в невнятный гул, и так ли уж нужно обращать на этот звуковой фон внимание?
-–
Шуруп был безродным космополитом – из тех шавок, о которых с усмешкой говорят, что порода у них «дворянская», от слова «двор», естественно, а вовсе не «дворня». И жизни ему, рожденному на задворках рынка, было отведено разве что несколько месяцев в силу его наивности и незнания правил дорожного движения. Так бы он и испустил дух под колесами машин, вкривь и вкось разъезжающих по базарной площади, если бы не Олег.
В райцентр он отправился за метизами высокой коррозионной стойкости, запасы которых требовали пополнения. Нужны были болты из нержавеющей стали А2 и с омеднением, и еще заклепки – бронзовые вытяжные и алюминиевые «под молоток». Строительство корабля Олег был намерен вести по всем правилам.
Единственная торговая точка, где искомое было представлено в достаточном ассортименте, находилась на рынке. Машину повезло оставить у самых ворот, а вот в магазине пришлось подождать. Продавец занимался покупателем, которому много чего требовалось, и в частности струбцины. Их он брал несколько десятков. Такие же в свое время покупал Олег. Когда придет срок обшивать корпус досками, без струбцин не обойтись: прижать, удержать, все по технологии.
Олег с любопытством посмотрел на покупателя: неужто тоже лодку мастерит? А то и корабль! И улыбнулся своему предположению: фантазируете, гражданин, столько сумасшедших для Озерного края – это чересчур, небывальщина.
Мужчина расплатился, вернул на обритую начисто голову кепку и подхватил крафтовый пакет, куда ему сгрузили покупки. Когда повернулся, стала видна вышивка на куртке – стилизованное изображение яхты: грот, стаксель, волна и надпись по кругу «Long River Yacht Club».
Это могло быть совпадением, у Олега самого когда-то была рубашка-поло с эмблемой «Iternational Cricket Council», ну так что, где он, а где крикет? Но если вспомнить о струбцинах…
Можно было бы извиниться, остановить, поинтересоваться, но пока любопытство боролось с ложным пониманием такта, мужчина уже был за входной дверью, не бежать же вдогон.
«Да у вас от клиентов отбоя нет», – забросил он удочку, выкладывая на прилавок список того, что ему нужно.
«Клиентов бывает только мало, – с готовностью откликнулся продавец. – Хотя строить стали больше, тут не поспоришь, дома, сараи, заборы ставят. Ну, что у вас? – он взял список. – Так… так… А вот саморезов таких нет, чуть-чуть опоздали. Перед вами все подобрали дочиста, да вы видели. Вы через три дня заходите – подвезут».
«Тоже дом строит?»
«Кто? Этот? – продавец кивнул на дверь. – Не знаю. Но заказал много чего – неделю назад появился, и список у него был поболе вашего».
«Может, лодку?»
«Вряд ли. Многовато купил, чтобы для лодки. Я думаю, беседку делает, такую, в японском стиле, чтобы крыша трамплином. Модно сейчас с изгибами».
Не в полном объеме, но все равно набралось прилично, килограммов на пять. Отягощенный пакетом, Олег вышел на крыльцо и увидел чудо на четырех лапках и с хвостиком, голова набок. Мимо не пройти!
«Ты откуда такой взялся? – присев на корточки, спросил он. – Маманя твоя где?»
Щенок облизнулся.
«Шамать хочешь? Это поправимо. Это не шурупы искать там, где их нет».
Сзади скрипнула половица. Вышедший перекурить продавец щелкнул зажигалкой.
«Чье это дивное создание?»
Продавец привык слышать другие вопросы, и уж точно не в поэтическом фантике, но удивления не выказал.
«Приблудный, ничей».
«А если я его возьму?»
«На здоровье, живее будет. Только на руки не берите, наверняка блохастый».
«Это ничего, с гнидами мы как-нибудь справимся. Помоем, вычешем… – Олег повернулся к щенку: – Ты как, согласен? Вместе будем бытовать, весело и сытно».
Песик показал зубки и попытался лизнуть крохотным язычком протянутую руку.
«Признал, – засмеялся продавец метизов. – Как звать-то будете? Кличка нужна, чтобы по всей форме, а то он безымянный. Ладно, пойду, а вы заезжайте за шурупами».
«Спасибо».
«Пока особо не за что».
«Было бы не за что, не поблагодарил бы».
«Раз так, – продавец опять засмеялся, но уже аккуратно, из вежливости, – то пожалуйста».
Короткими затяжками он добил сигарету и закрыл за собой дверь.
«Шурупы… – пробормотал Олег. – В общем, быть тебе, брат, Шурупом. Не возражаешь?»
Щенок не ответил, но и несогласия не выразил.
«Тогда пошли перекусим».
И они направились к палатке, где чернобровые посланцы Кавказа, кромсали мясо, которому предстояло стать левантийским блюдом, именуемым шаурмой по-московски и шавермой по-питерски.
Олег улыбался: теперь их двое – человек и Шуруп.
* * *
«Им повезло, когда много лет назад они купили этот дачный домик. Чуть промедли, и за эти деньги им и сарая не купить. Инфляция, однако.
Об отдыхе речи не было: дача – это прежде всего труд. Конечно, можно наплевать на все, пусть зарастает, только неподходящие для этого характеры были у отца и сына. Не то чтобы они не желали выделяться на фоне помешавшихся на прополке и саженцах, просто полагали, что, коли есть земля, ее надо обрабатывать, а уж если что-то делаешь, то изволь делать хорошо.
Они были работящими людьми. Кому-то наверняка казались слишком расчетливыми, возможно даже прижимистыми, но это было не так, что могли подтвердить хорошо знавшие их люди, которых, впрочем, было совсем немного.
Если и была у них какая-то выраженная черта, то это трезвомыслие. Они всегда отдавали себе отчет, на что способны, а что им не по силам. И поступали соответственно, не гонясь за несбыточным. Поэтому не вкалывали на огороде до изнеможения, но были малярами, электриками, плотниками, каменщиками, поскольку не видели необходимости платить кому-то за то, что они, два городских интеллигента, могли сделать сами. Тем более что и платить было нечем. Полученное когда-то наследство ухнуло на покупку домика, а зарплаты сына и пенсии отца хватало лишь на поддержание относительного материального благополучия, не более.
Дачная жизнь течет по иным законам, нежели городская. И люди, вырывающиеся на день, два, неделю, месяц, на все лето из суеты улиц и клеток квартир, с удовольствием принимают незамысловатые правила дачного существования, находя в нем отдохновение от сложностей оставленного за спиной бытия. Там, на даче, нарушается привычный строй мыслей, меняются взгляды, и невозможные в городе поступки здесь становятся совершенно естественными. Так же как и вопросы, порой ставящие в тупик своей бестактностью.
Отца часто спрашивали: почему сын не женится? И что ему было отвечать? Правду? Он предпочитал отшутиться. Да и знал ли он правду?
О том же спрашивали сына, напрямую, и он тоже сводил все к шутке, уверенный, что искренностью не удовлетворить праздного любопытства. Себе же он отвечал в том смысле, что, будучи человеком ответственным, не может позволить себе такой роскоши, как брак. Потому что… Как жить? На что? И как дети? С чего им быть обделенными – хуже одетыми, не так вкусно накормленными, как сверстники, с чего терпеть бесконечные отказы?
Все – так, и все же он лгал себе. Наверное, из-за нежелания соглашаться с тем, что боится менять… ломать, крушить!.. свою налаженную, размеренную жизнь. Он не был аскетом, встречался с женщинами, делил с ними постель, но никогда не доводил отношения до черты, когда приязнь перерастает в привязанность.
Он вел честную, достойную, серую жизнь, не обращая внимания на тлеющее в душе несогласие, которое даже не пыталось вырваться наружу, но мешало, мешало, мешало!
Он никогда не делился своими мыслями с отцом: это не по-мужски – перекладывать свои переживания на плечи близкого человека. Да и не принято было в их семье жаловаться, сетовать.
Отец, страшась потерять сына, так он воспринимал перспективу появления между ними преграды в виде любой женщины, тоже избегал этой темы, никогда не побуждая сына к откровенности. Но и его не оставляло смутное беспокойство: что-то не так, что-то не так.
Так и летели дни – в заботах. Зимой – в городе, летом – на даче. Все время вдвоем.
Как-то по весне их домик вдруг покосился, словно от боли в боку. Ничего необычного или опасного – всего лишь просел фундамент.
Немного повело рамы, но не до такой степени, чтобы начали лопаться стекла. Повело и дверные косяки. Двери стали распахиваться при сквозняке.
Отец зимой болел, все чаще вспоминал давно умершую жену. К весне он так и не оправился, в таком состоянии ему было не до ремонта. А сын знал: достаточно подвести под угол дома домкрат, приподнять сруб, положить между бревнами и кирпичами фундамента доску потолще, обернутую от гниения рубероидом, и все встанет на свои места. А пока можно к торцам дверей прибить квадратики старого линолеума, и двери вновь станут держаться в косяках.
Он не стал этим заниматься: не искал домкрат, не набивал кусочки линолеума.
Он молчал, и отец молчал.
Двери открывались и закрывались. Хлопали. И казалось, что дом полон людей».
Рассказ назывался «Осевший угол», и это действительно был рассказ со всеми атрибутами жанра. И его он сохранит. Потому что есть тут что-то… Что? Бог его знает.
Борька говорит, что рукой творца водит Господь. И когда ты перечеркиваешь, вымарываешь, рвешь и отправляешь в мусорную корзину, а файл – в корзину электронную с симпатичной иконкой на мониторе, то поддаешься наущению диавола, святотатствуешь. Храни! Береги! Ибо слово твое – и Его слово. Сам Борька принципами не поступался. Каким был, таким и оставался, разве что с годами изъясняться стал вычурнее, отточил формулировки, от былой невнятицы и следа не осталось, все строго по полочкам.
С Борисом Путиловым, «дедушкой» второго года службы, Олег познакомился, когда с предписанием в кармане переступил порог воинской части, где ему суждено было дослужить оставшиеся месяцы, а их оставалось еще ох как много. Что его ждет в этом периметре, он не представлял, или боялся представить. В учебке, расположенной на окраине большого города республиканского значения, его учили на наводчика ПТУРСа, противотанкового управляемого снаряда. Но насчет своей квалификации он не заблуждался: учеба была никакая, подменяемая нарядами в караул и на кухню, бесконечной приборкой территории и кроссами по пересеченной местности. Сержанты и офицеры это воспринимали как должное, привычно роняя слова о том, что настоящие солдатские будни еще впереди, в частях, там и техника посвежее, не то что старье в боксах учебки.



