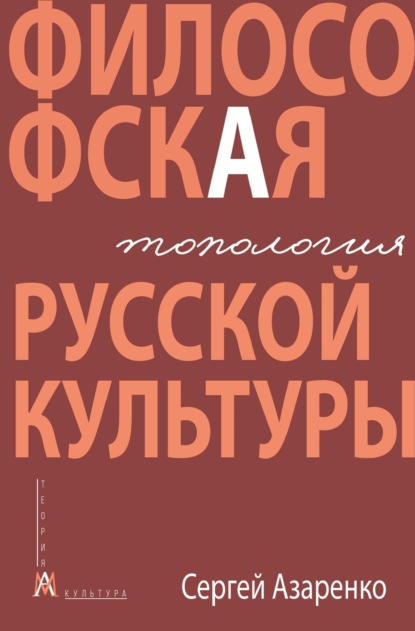
Полная версия:
Философская топология русской культуры
А.С. Хомяков отмечал, что славянские первоучители для передачи греческого слова кафолический избрали слово соборный, так что по этому последнему слову можно судить и о том, как понимали они подлинное выражение. Существовало ли на славянском языке слово, вполне соответствующее понятию всеобщности? В качестве таких слов можно привести хотя бы два: всемирный и вселенский. Первое из приведенных слов (всемирный) встречается в очень древних песнопениях; древность второго (вселенский) также несомненна; оно употребляется в отношении Церкви для выражения ее всеобщности (Вселенская церковь) и в отношении соборов (Вселенский собор). По мнению Хомякова, к таким бы словам прибегли первые переводчики для передачи слова кафолический, если бы они придавали ему значение всемирности.
Хомяков не отрицает, что данное слово может иметь значение всемирности, но утверждает, что не в таком смысле было оно понято первоучителями. «Им и на мысль не пришло определить Церковь географически или этнографически, такое определение, видно, не имело места в их богословской системе. Они остановились на слове соборный; собор выражает идею собрания не только в смысле проявленного, видимого соединения многих в каком-либо месте, но и в более общем смысле всегдашней возможности такого соединения, иными словами: выражает идею единства во множестве»[11].
Онтологизация учения о христианской Церкви и теория всеединства Вл. Соловьёва противостоит хомяковскому пониманию соборности. Истинному бытию, или всеединой идее, утверждает Соловьёв, противополагается в мире вещественное бытие. Главное свойство этого вещественного бытия есть двойная непроницаемость: 1) непроницаемость во времени, в силу которой всякий последующий момент бытия не сохраняет в себе предыдущего, а исключает или вытесняет его собой из существования, так что всё новое в среде вещества происходит «на счет прежнего или в ущерб ему», и 2) непроницаемость в пространстве, в силу которой две части вещества (два тела) не могут занимать зараз одного и того же места, то есть одной и той же части пространства, а необходимо вытесняют друг друга. Ввиду этого обстоятельства Соловьёв делает вывод, что в основе мира лежит бытие в состоянии распадения, бытие, раздробленное на исключающие друг друга части и моменты. Преодоление этой двойной непроницаемости тел и явлений – задача мирового процесса. Фактически в нашем «видимом» мире существует многое такое, что есть прямое отрицание и упразднение этой непроницаемости. Таково, во-первых, всеобщее тяготение, в котором части вещественного мира не исключают друг друга, а, напротив, стремятся вместить себя взаимно. Во всяком случае, для определенного и постоянного соединения вещественных частиц в тела необходимо, чтобы их непроницаемость заменилась положительным взаимодействием.
Таким образом, вся Вселенная предполагает форму единства и деятельную силу, «покоряющую этому единству противные ему элементы». Опираясь на знание своего времени и христианскую догматику, Соловьёв делает заключение, что образованное законом тяготения всемирное тело есть целостность реально-идеальная, психофизическая или тело мистическое. Помимо силы всемирного тяготения идеальное всеединство осуществляется духовно-телесным образом в мировом теле посредством света и других родственных явлений – электричества, магнетизма, тепла. Это есть материя невесомая, всепроницаемая и всепроницающая – одним словом, вещество невещественное. Совершенное всеединство требует полного равновесия, равноценности и равноправности между единым и всем, между целым и частями, между общим и единичным. Полнота идеи всеединства требует создания животной индивидуальности, для которой единство идеи существует в образе рода. Сама индивидуальная жизнь животного организма уже содержит в себе некоторое подобие всеединства, поскольку здесь осуществляется взаимность всех органов и элементов в единстве живого тела. Но эта органическая солидарность в животном не переходит за пределы его телесного состава, так и для него образ восполняющего Другого всецело ограничен таким же единичным телом с возможностью частичного соединения, принимающего форму беспредельного размножения.
В человеческой жизни прямая линия родового размножения хотя и сохраняется в основе, но благодаря развитию сознательного общения она разворачивается историческим процессом все в более обширные круги социальных и культурных организмов. Эти социальные организмы производятся той же силою любви, которая порождает и организмы физические. Эта сила непосредственно создает семью, а семья есть образующий элемент всякого общества. Отношение человеческой индивидуальности к обществу существенно иное, нежели отношение животной индивидуальности к роду: человек в ней не есть преходящий элемент общества. Единство социального организма действительно существует с каждым из его индивидуальных членов, имеет бытие не только в нем и через него, но и для него, находится с ним в определенном соотношении: общественная и индивидуальная жизнь со всех сторон взаимно проникают друг в друга.
Онтологически трактуя соборность посредством идеи «положительного всеединства», Флоренский вскрывает ее динамическую структуру. Интересно в связи с этим его сопоставление соборности с «хоровым началом» русской песни. В русском многоголосном пении нет раз и навсегда закрепленных и неизменных хоровых «партий». При каждом из повторений напева на новые слова появляются новые варианты как у запевалы, так и у певцов хора. Нередко хор при повторениях вступает не на том месте, как ранее, и вступает не сразу, как прежде, а вразбивку; или вовсе не умолкает во время одного или нескольких запевов. Единство в многоголосии достигается не внешними структурами, а внутренним взаимопониманием исполнителей. Каждый из исполнителей в той или иной степени импровизирует, не разрушая целого, поскольку оно само существует многократным и многообразным способом благодаря постоянному вкладу каждого отдельного исполнителя. Связи отдельных единиц в многоголосии органичны и существенны, но при этом лишь едва намечены многими тонкими линиями. Эти связи представлены не жесткой конструкцией, а пучками бесчисленных нитей, идущими не только от одного напева к ближайшим, но ко многим другим.
Строение такого интонационного пространства не линейное, а «сетчатое», с бесчисленными узлами отдельных напевов попарно, так что из любой точки этой сети, совершая круговой ход, напев захватывает на своем пути любую комбинацию из числа прочих напевов и притом в почти любой последовательности, возвращаясь к ней же. Хор сохраняется за счет возможности свободного перехода от унисона, частного или общего, к осуществленному многоголосию. Это дает возможность выражать различную полноту чувств, в противоположность как нормированной взаимоподчиненности всех голосов друг другу в котрапунктическом стиле, так и господству главного мелодического голоса в нововременной гомофонии. Это, по терминологии Адлера (на музыкальную статью по русскому многоголосию которого ссылается Флоренский), есть гетерофония, подразумевающая полную свободу всех голосов и «сочинение» их друг с другом, в противоположность «подчинению»[12]. У Л.П. Карсавина можно найти продолжение обоснования онтологической и подвижной структуры соборности.
Карсавин представляет соборность в качестве симфонической личности, которую он толкует в терминах телесности. Он отмечает, что «индивидуальное тело существует не само по себе, но – как момент социального и симфонического тела»[13]. В теле всякой социальной личности должны быть и животность, и вещность; равным образом – и в теле всякой индивидуальной личности. Быть вещным значит «качествовать» не только индивидуальной и социальной пространственностью, но и пространственностью физической, то есть актуально обладать протяжением и объемом. «Моё» тело нерасторжимо связано с другими телами; оно окружено и отягчено инобытием. Соотнесенность моего тела с инобытными ему телами, топологически подчеркивал Карсавин, не внешнее их соположение или соприкосновение, но их взаимопроникновение и взаимослияние. В моем теле есть инобытная ему телесность, в инобытной телесности – моя. Мое пространственно-телесное бытие выходит за границы моего биологического организма. Всё, что я познаю, вспоминаю и даже только воображаю, является «моею» телесностью, хотя и не только моею, но еще мне ино-бытною. Могут ли перестать быть моим телом те части, которые его покинули и ежемгновенно покидают? Они входили и входят в состав иных организмов и тел, но не перестают в каком-то смысле быть и моим телом, поскольку возможна вообще многосубстратная телесность.
Согласно Карсавину, внешнее тело индивидуальной личности – тело симфонической личности мира, поскольку оно специфически осуществляется индивидуальной личностью, и тела других индивидуаций мира, поскольку они индивидуальной личностью осуществляются, осваиваются и в ее тело переходят. Тело мира – это множество различных аспектов, в то время как внешнее тело индивидуальной личности лишь один из них. Во внешнем своем теле личность противостоит другим личностям не как одно обособленное тело другим обособленным телам, но как один субъект-субстрат мировой телесности противостоит другим ее субстратам. Однако всякий субстрат конкретно существует только в своем осуществлении или содержании, и само взаимопротивостояние субстратов уже является их пространственно-телесною разъединенностью и телесностью. Поэтому необходимо признать, по Карсавину, что тело индивидуальной личности должно быть всем телесным миром, но тогда множество телесных аспектов мира возможно лишь при одном условии, что всякое индивидуальное тело должно и быть, и не быть, а следовательно – и возникать, и погибать путем перехода в него других тел и его перехода в них.
Этот взаимопереход тел предполагает и неполное существование каждого, и сосуществование многих неполных тел. Во внешнем теле личности видится начало ее взаиморазъединения с другими личностями, начало ее как самоиндивидуации мира и начало ее симфонически-индивидуального тела. Понимая динамически само тело личности, Карсавин во внешнем ее теле видит стадию тела как процесса. При этом внешнее тело не перестает быть «статичным», тем более что оно сосуществует с другими стадиями индивидуально-телесного процесса, с «другими телами» той же индивидуальной личности.
Внешнее тело личности как ее противостояние другим личностям в лоне общей им и свойственной каждой из них телесности мира было бы невозможным, если бы индивидуальная личность не противостояла другим индивидуальным личностям как одно вполне обособленное тело другим вполне обособленным телам. Без этого невозможен взаимопереход духовно-телесных существ. Рассеянная и многосубстратная внешняя телесность как бы сгущается и обособляется, образуя собственно-индивидуальное тело, «второе тело» личности. Это собственно-индивидуальное тело не менее определенно, чем физические тела, с которыми оно соотносится и вместе с которыми доводит до своего эмпирического предела пространственность или само-разъединенность симфонической личности. Определяя другие тела и определяемое ими, оно и в себе самом распределяется, то есть бесконечно делимо и делится.
Собственно-индивидуальное тело не есть некое замкнутое в себе пространственное очертание. У него есть границы, но оно внутри своей внешней границы сосуществует и граничит с другими собственно-индивидуальными телами, а вне своей внешней границы находится в других собственно-индивидуальных телах. Оно не что-то неизменное и лишь переносящееся с места на место, но пронизывает другие тела и пронизываемо ими. Оно, по Карсавину, постоянно изменяется, частицы других тел становятся им, а его частицы – другими телами. Оно изменяется и по форме: то сжимается, то расширяется. «Но оно несводимо к данному своему очертанию, ибо является всевременно-всепространственным телом личности: ее телесным процессом и единством, целым этого процесса, что не препятствует ему в каждый миг времени быть вполне определенною пространственною величиною, в определенном умалении содержащею свое прошлое и свое будущее»[14].
Карсавин подчеркивает, что как единство самого моего тела, дух ему не противостоит, но он и оно – одна и единая моя личность,– единая в качестве духа, множественная и разъединенная в качестве тела. Правда, сама моя личность в качестве своего «определенного первоединства» противостоит себе как своему множеству и телу, но определенное первоединство является источником и началом множества-тела. Таким образом, господствующей у него оказывается идея «единства», но насколько осуществим идеал единства или единения, если, как замечает М. Бланшо, взаимоотношения между людьми предполагают образ Другого как нечто неустранимое и в равенстве своем дисимметричное по отношению к тем, кто его рассматривает, что само по себе способно подрывать саму возможность сообщества. На вопрос, для чего необходимо сообщество, существует довольно определенный ответ: в основе каждого существа лежит принцип недостаточности (принцип неполноценности). Это такой принцип, который определяет возможности определенного существа и направляет их. Отсюда следует, что такая принципиальная нехватка не связана с необходимостью полноценности. Несовершенное существо, замечает Бланшо в «Неописуемом сообществе», «не стремится объединиться с другим существом ради создания полноценной общности»[15]. Сознание несовершенности происходит от его собственной неуверенности в самом себе, и чтобы осуществиться, ему необходимо нечто другое или некто другой. Скорее всего, существо стремится не к признанию, а оспариванию, для того чтобы существовать, оно обращается к другому существу, которое оспаривает и нередко отрицает его, с тем чтобы оно начинало существовать лишь в условиях этого отрицания, которое и делает его сознательным относительно невозможности быть самим собою, настаивать на своей самодостаточности.
Согласно П.Н. Савицкому, личность понимается как множественность (соборная или симфоническая), это и индивидуальная личность, и социальная группа или субъект культуры. Культура рождается и развивается как органическое целое, которое сразу проявляется в формах политических, социально-хозяйственных, и в бытовом укладе, и в этническом типе, и в географических особенностях ее территории. При этом главным для Савицкого является понятие «месторазвития», в котором сходятся воедино географический и исторический компоненты. Месторазвитие предполагает единство «общежитий широкого порядка», производящихся на основе «генетических связей» между растительными, животными и минеральными сферами, с одной стороны, человеком, его бытом и духовным миром – с другой. Социально-историческая среда и ее территория «должны слиться для нас в единое целое, в географический индивидуум или ландшафт»[16].
«Не только социально-историческая среда без территории немыслима, но, действительно, не зная свойств территории, совершенно немыслимо понять явления того или иного состава, особенностей и „образа жизни“ социально-исторической среды. Будь поверхность земли хаотична, не будь в ее строении закономерности, невозможно было бы установление категории „месторазвития“»[17]. В действительности дело обстоит таким образом, что геологическое устройство, гидрологические особенности, качества почвы и характер растительности находятся во взаимной закономерной связи, а также в связи с климатом и морфологическими особенностями данной поверхности земли. Савицкий указывает, что социально-исторические среды можно различать по «типам развития»; в то же время в силу закономерностей, присущих строению земной поверхности, можно устанавливать типы географической обстановки, к которой приурочено это развитие; и так как развитие это в протекании своем связано с географической обстановкой, то совокупность условий определяет возможность устанавливать типы месторазвитий.
Каждая человеческая среда находится в своей неповторимой географической обстановке. Каждый двор, каждая деревня есть «месторазвитие». Подобные меньшие месторазвития объединяются и сливаются в «месторазвития» большие. Возникает многочисленный ряд «месторазвитий». Например, евразийская степь есть «месторавитие»; большее «месторазвитие» в отношении к составляющим ее «месторазвитиям» – естественным областям; меньшее «месторазвитие» в отношении всей России-Евразии. Россия-Евразия, как большее «месторазвитие», неограничивается степью, но сочетает степь с зоной лесной, пустынной, тундровой, подразумевает взаимодействие их всех с обрамляющими Евразию странами, отмечена определенными общими признаками. Следующий этап: земной шар как «месторазвитие» человеческого рода. Савицкий задается вопросом: не присущи ли отдельным месторазвитиям определенные формы культуры, независимо от «генетической близости» и расового смешения народов, населявших и населяющих каждое из них? И отвечает, что заимствование и подражание, независимое от «генетической близости» и «расового смешения», тоже должно быть относимо к началам «месторазвития».
Ведь если культура является принадлежностью «месторазвития», то каждая социальная среда, появляющаяся в пределах данного «месторазвития», может испытать на себе влияние этого «месторазвития» и, со своей стороны, приспособить его к себе двумя путями: 1) путем непосредственного взаимодействия между названной социальной средой и внешней обстановкой; 2) путем того же взаимодействия, осложненного привступлением культуры, уже ранее создавшейся в данном «месторазвитии». Благодаря этому культурные традиции оказываются вросшими в географический ландшафт, отдельные «месторазвития» становятся «культурно-устойчивыми», приобретают особый, специально им свойственный «культурный тип». Савицкий считает, что понятие «месторазвитие» можно сомкнуть с понятием культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского, у которого каждый такой тип развивал самостоятельным путем начало, заключавшееся как в особенностях духовной природы, так и в особенных внешних условиях жизни, в которые он был поставлен. Каждому из этих типов соответствует «месторазвитие». Возможно, что классификация месторазвитий определила бы иную систематику «культурно-исторических типов», чем простая их постановка в один ряд.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. М., 1986. С. 93.
2
Morson G.S., Emerson С. Rethinking Bakhtin: Extensions and Challenges. Evanston, 1989. P. 120.
3
Бахтин М.М. К философии поступка. C. 112.
4
Бахтин М.М. К философии поступка. С. 117.
5
Флоренский П.А. У водоразделов мысли // Символ. Париж. 1992. № 28. С. 132.
6
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. С. 136.
7
Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993. С. 51.
8
Там же. С. 53.
9
Там же.
10
Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. С. 55.
11
Хомяков А.С. Сочинения богословские. СПб., 1995. С. 279.
12
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 1990. С. 31.
13
Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. М.: Ренессанс, 1992. Т. 1. С. 139.
14
Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. С. 146.
15
См.: Бланшо М. Неописуемое сообщество. М., 1998. С. 12.
16
Савицкий П.Н. Континент Евразия. М., 1997. С. 21.
17
Савицкий П.Н. Континент Евразия. С. 21.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



