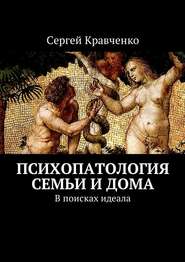
Полная версия:
Психопатология семьи и дома. В поисках идеала
Одушевление машин
В наш век автоматизации машины повсюду и, казалось бы, пора научиться относиться к ним, как к машинам, но нет. Сплошь и рядом мы наблюдаем приписывание машине душевных качеств. Например, машину называют лошадкой, или конем, мерином или сивкой, бобиком, кабаном, жуком, лягушкой и др., зачастую – в шуточной форме. Но когда именуют машину Авдотьей, Кузей, дядюшкой Поджером, Лехой, Лёлей, Олечкой, Шуриком и другими человеческими именами, то уже можно присмотреться к этим отношениям человека с машиной. А присмотревшись, можно заметить, что они порой действительно одушевляют свою машину. Не просто одушевляют, а подменяют отношениями с машиной человеческие отношения, вытесняя последние на периферию своего сознания. Можно даже предположить, что в сознании автовладельцев и водителей профессионалов возникает некая субличность автомобиля с приписанными автомобилю душевными качествами.
В рассказе Чехова «Тоска» Иона рассказывает лошади о смерти своего сына, терзаемый одиночеством, так как никто из людей не смог выслушать его. Иона не встретил среди людей человеческого понимания и грустно называет кобылу «брат кобылочка». Это вызывает чувство горечи. Невыносимая боль, которую Иона носит в душе, выливается в горестном монологе. Ему кажется, что лошадь слушает его и понимает. Разговор с животным и кажущееся проявление сочувствия с его стороны помогают человеку облегчить душевную боль.
Что-то подобное происходит иногда и у автовладельцев, но только в еще более гипертрофированном виде. У них нет лошадей, которым можно было бы что-то сказать, но внутренний диалог, как особенность существования человеческого сознания, автоматически реализуется в отношениях с машиной, которая становится невольным свидетелем многих жизненных событий человека и его собеседником.
Вспоминается одна моя знакомая дама, которая преподавала психологию в университете. Череда потерь близких и родных людей совпали в одном году ее жизни, одиночество и предпенсионный возраст сложились в ее душе и вызвали такое состояние, что, когда она купила себе маленький автомобиль, то он автоматически стал ее «мальчиком».
Она понимала, что это и смешно, и грустно, но ничего не хотела, или уже не могла, с этим что-либо поделать. Ее «мальчик» оставался ждать ее, и после лекций «они ехали домой». Иногда она рассказывала, что «они проходили техосмотр», «заезжали на мойку», «толкались в пробках». Но однажды, когда «ее мальчика» покалечили бутылкой, выброшенной с окна студенческого общежития, мы увидели на ее лице такую же боль, какую вызывали только смерти ее близких людей.
Вывод
Обобщая, можно сказать, что у автовладельцев происходит перенос схем взаимодействия с человеком на машину, а отношений с машиной – на человека. Если первое вполне безобидно и потешно, то второе – патологично.
В свое время компьютерщики перенесли схемы организации электронных машин в сферу объяснения душевных процессов и такую аналогию многие молча приняли за норму, то перенос схем отношений с машиной в сферу человеческих диалогов принять мы не можем.
Если ребенок в процессе психодиагностики рисует вместо человека роботоподобное существо, то это настораживает, так как возникает подозрение на механистичность и сухость его мышления, отсутствие интуитивного понимания природы человека.
Идеально, когда животные гармонично дополняют человеческую жизнь и отношения между людьми, привнося дух природы.
Дополнительно к этому, важно иметь в сознании человека интуитивное понимание структуры и работы обслуживающих его машин
3. Диалог, спор и ссора
Жена Сократа была очень сварливая женщина, и друзья как-то спросили его, почему он с ней живет и терпит ее постоянные скандальные выходки? На что Сократ ответил: «Она единственная женщина, которая может меня терпеть».
Состязательность
Часто в семьях мы наблюдаем состязательность во всем, что непременно проявляется и в обычных диалогах. Если соревнуются дети, например, за любовь и уважение родителей, то это одно, если же что-то подобное происходит между взрослыми, то это совсем иное.
В состязательности мужчины и женщины можно усмотреть стиль поведения детей за любовь родителей. Только родители уже состарились или находятся вне дома, но привычка состязаться во всем осталась. Особенно она может проявляться, когда в доме появляется авторитетный наблюдатель, например, кто-то из старших родственников или приглашенный психолог-консультант.
Еще более неуместна состязательность между различными полами и/или возрастами, например, бабушка пытается состязаться с повзрослевшим внуком или с молодым мужчиной, который прошел армию и работает тренером по борьбе. В последнем примере пожилая женщина была тещей молодому мужчине, который только вошел в новую семью в роли мужа ее дочери. Они состязались за лидерство в новой семье. Излишне сейчас описывать к чему привела эта состязательность, но пример достаточно распространенный, и мы разберем подобные отношения в специальной главе «Тещи и свекрови».
Смешение и неопределенность ролей – вот что может лежать в основе нездоровой состязательности в семье. Вопрос о ролях в семье и доме достаточно спорный, возможно, именно потому роли смешиваются и зачастую недостаточно определены. В различных культурах существует различное понимание ролей в семье. Когда же в семье объединяются представители непохожих культур, то именно в них и возникают эти неопределенности.
Неопределенность ролей ведет к неопределенности поведения и отношений.
Примечание: Фрейд в свое время описал состязательность ребенка с родителем своего пола за любовь родителя противоположного пола, выделяя только сексуальное влечение, как основной двигатель состязательного поведения в семье.
Состязательность в семье может характеризовать комплексы неполноценности, толкающие человека в соревновании с другим к саморазвитию. Идеально, когда все или, в крайнем случае, старшие члены семьи видят здоровую первопричину состязательности и ее неминуемый результат – развитие личности и взаимоотношений.
Противоречия
Есть другая тенденция, страсть к противоречию во всем, что сделает или скажет другой член семьи. Здесь мы наблюдаем скрытое самомнение и неумение или нежелание уважать другого, нежелание предоставить другому право на жизненное пространство, неумение осознать право каждого на самостоятельную жизнь и деятельность. Обычно такие люди остаются одиноки и доживают свой век в пустом доме или на улице.
Возможно, здесь кроется более основательная причина. Она заключается в том, что не все умеют сотрудничать, так как способность к сотрудничеству предполагает способность доверия к партнеру. Если в детстве не было такого опыта, если в школе и в вузе, в офисе или на заводе человек оказывался в отношениях управления, если им всю жизнь кто-то манипулировал или это делал он сам.
Здесь скрыта одна из базовых установок – отношение к людям. Если на подсознательном уровне мы не видим в людях равных себе, достойных уважения и доверия, если сами к ним относимся с недоверием и призрением, то и внешние отношения будут соответствующими.
Есть еще одно предположение – тотальное недоверие к людям и противопоставление им скрывает недоверие к миру и противопоставление ему. В душе таких людей, возможно, нем места и доверительному диалогу с собственными субличностями, а верующий человек скажет, что нет места и диалогу с Богом.
В идеальной жизненной ситуации противоречия оголяют и подчеркивают возникшие проблемы, что способствует их решению. И чем раньше проблема будет замечена, тем быстрее и эффективнее она будет решена.
Воинственность
Воинственность в отношениях, агрессия и желание разрушать все вокруг, управлять всем, пренебрегая не только мнением других, но и их правом на личное пространство и жизнь, приводит к тому, что в семье растут безвольные дети. Их воля была сломлена еще в раннем детстве, что приводит к неумению строить и защищать свою жизнь в будущем.
Яркий пример из личного опыта.
Однажды я ожидал автобус на остановке и заметил на этой же остановке знакомую пожилую женщину. Она была директором небольшого образовательного учреждения. Мы поздоровались, я сделал к ней несколько шагов, и между нами завязался незначительный разговор. Через минуту к моей собеседнице тихо приблизился худощавый мужчина ее возраста и попросил у нее денег на пиво так, словно они были близкие люди. Когда она грубо его оборвала и указала где ему следует стоять молча и без пива, я понял, что мужчина был ее мужем.
Он сделал несколько шагов в указанную сторону и стоял там до тех пор, пока не подошел автобус.
Следует заметить, что лицо моей собеседницы, после данного ею распоряжения, не изменилось. Я же испытывал неловкость, наблюдая такое агрессивное подавление личности, безволие и бесправие мужчины в семейных отношениях. Можно найти множество причин такого финала отношений. Вероятно, скажут мне критики, мужчина заслужил такое отношение к себе своим алкоголизмом в прошлом, но это не дает никому право уничижительного отношения к нему в настоящем. И сам факт существования таких отношений говорит нам о скрытой патологии и распаде семьи. Вероятно, что и будущее их отношений бесперспективно.
Решительная воинственность, заложенная в нас природой, в экстренных ситуациях помогает семье выжить и защитить свои ценности. Кто-то, хотя бы один, должен уметь быть воинственным, что бы защитить свой дом в случае острой необходимости.
Идеально, когда мы точно понимаем, что воинственность в поведении – единственно правильный выход в экстренном случае, и умеем быть таковыми.
Шутки, стёб и розыгрыш
Под шутками может скрываться агрессия, особенно, если они реализуются в виде стёба. Стёб уже агрессию не скрывает, так как это шутка над собеседником с элементами иронии, сарказма в присутствии осмеиваемого человека.
Розыгрыш отличается от разговорной шутки тем, что основным её компонентом является юмор физический, а не словесный (например, положить соль в чай).
Плоская шутка может быть признаком нарушения функции головного мозга (лобный синдром психической расторможенности).
Смех в семье всегда присутствует, но если он подменяет собой большинство тем, в том числе и те, над которыми обычно не смеются, то можно предполагать, что в доме существуют серьезные подсознательные проблемы.
Смех – естественная реакция на шутки, и в умеренных количествах благоприятен для здоровья. Люди часто используют подходящие к ситуации шутки, чтобы пережить неприятности. Это так называемый «юмор выживания», в котором шутки выполняют функцию снижения уровня стресса.
В шутках юмор часто строится на неожиданном нарушении табу (при этом они могут содержать что-то несимпатичное или социально неуместное), или играть на стереотипах и других культурных убеждениях.
В современной семье зачастую есть представители различных этносов, культур и национальностей. Иногда кто-то из членов семьи питает скрытую симпатию к отдельным знаменитостям, политикам, представителям профессий или религий. Потому шутки могут иметь серьезное травмирующее влияние на людей, особенно в детском и подростковом возрасте, или на взрослых людей, чьи ценности совершенно не совпадают с ценностями шутника.
Особенно стоит обратить внимание на ситуацию, когда всем заметно произошедшее отрицательное воздействие шутки, и когда данную сцену намеренно кто-то повторяет, чтобы добиться того же эффекта. Семейные отношения в таком случает могут превратиться в непрерывную травлю одного из членов семьи, и шутками он будет загнан в угол, и даже вытеснен за пределы дома и жизни.
Шуток, гораздо меньше, а стёба и розыгрышей вовсе нет в семьях людей верующих в бога, так как связь с бессознательным через молитвы и религиозные ритуалы у них лучше, а души чище.
В шутках проявляется та часть бессознательных инстинктов, которые противятся настоящему положению вещей и желают разрушить сложившуюся ситуацию, а другим приемов в атеистических душах нет. Другими словами за шутками, стёбом и розыгрышами может стоять инстинкт разрушения и смерти Танатос.
Вывод
Обобщая, можно сказать, что неопределенность ролей вызывает состязательность в семье с целью определить эти роли. Но даже при ясности ролей, базовые установки к себе, людям и миру определяют отношения отдельных членов семьи ко всем остальным.
Семья и дом – не место для воинственности, так как в результате будут победители, побежденные и обломки семьи и дома, затаенная обида, подавленность, злость и подготовка очередной войны, или желание покинуть место боя.
Диалог не исключает споров, но ссор – лучше избегать. В диалогах Платона есть знаменитое изречение: Сократ мне друг, но истина дороже! Видимо к этому же периоду относится и изречение: «В споре рождается истина».
Диалоги изначально не исключают ни споров, ни ссор. Если мы хотим добиться прогресса в наших диалогах, то в споре об истине не следует переходить на личности и затевать ссору. Я часто являюсь свидетелем диалогов, где люди забывают о различии спора и ссоры, смешивая предмет спора с личностью спорящего. Важно уметь разделять человеческие отношения и отношения к истине. Подчеркивая, сохраняя и развивая близкие и дружественные отношения в семье и доме, участники диалога могут вести спор об истине. И это наиболее оптимальное взаимодействие.
Идеальная семья является свидетелем наших внутренних диалогов и помогает нам усовершенствовать их, тем самым совершенствуя наш диалог с внешним миром.
Осознание ценности живущих рядом людей сглаживает все шероховатости семейных отношений.
Здоровая первопричина состязательности приводит только к развитию.
Противоречия вскрывают проблемы и способствуют их решению.
Идеально, когда мы точно понимаем, что воинственность в поведении – единственно правильный выход в экстренном случае, и умеем быть таковыми.
«Юмор выживания» снижает уровень стресса.
4. Тень семьи
Мы ненавидим в людях то, чего не любим в себе. Все, что мы в себе не любим, уходит в тень нашего сознания. Борьба с собственной тенью порождает насилие в семье.
Война в душе не может помочь создать мир в доме.
Насилие в семье может формировать в жертвах стокгольмский синдром,2 механизм психологической защиты, который был впервые описан Анной Фрейд в 1936 году, когда и получил название «идентификация с агрессором».
Тень души подчеркивает ее свет и дает нам возможность на внутренних диалогах испытать опыт взаимодействия с тенью жизни.
Физическое насилие
Физическое насилие по отношению к ребенку может быть продиктовано благими намерениями, но часто приводит к отрицательным последствиям.
Например, дед воюет с внуком подростком только потому, что не хочет чтобы он был так похож во всем на него в молодости. А в молодости дед не хотел учиться и бросил школу. Потом зарабатывал на каких-то сомнительных сделках на рынке и, сколотив свой первый капитал, уничижительно отзывался о педагогах с высшим образованием, которые получают маленькие зарплаты. Злоупотреблял алкоголем, был в конфликте с законом и полицией, плевал на советы родителей.
Теперь дед увидел все это в своем внуке и решил его исправить. Пытался внушить ребенку ценности, которые сам в свое время ценностями не считал. Но самое страшное было в том, что во внуке проявилось все, что дед в себе не любил. И старший пытался физически выбить из младшего отражение своей тени.
Внутренние конфликты, нелюбовь к себе и к людям, противопоставления себя миру в полной мере впитал в себя наследник.
Девизом таких отношений «педагога» с воспитанником могут быть слова: «Не делай так, как в свое время делал я».
Что же касается физического насилия ко взрослым внутри семьи, то оно проистекает от стремления безраздельно властвовать в семье, наказывать «провинившихся», вершить суд, навязывать свои ценности и цели, подавлять волю и инициативу других. Внутренние конфликты неосознанно становятся внешними, внутренние диалоги проявляются в диалогах внешних. Субличности ведут войну внутри души, терзая индивидуальную душу, и у нее нет возможности, мудрости или смирения для устранения внутреннего насилия.
В моей практике есть яркая иллюстрация к вышесказанному.
В новогодние праздники ко мне в кабинет пришел старый друг С. и заявил, что у него есть сейчас полтора месяца времени и он хотел бы сделать свой автопортрет с целью самопознания и объединения сил личности.
С. – практикующий психотерапевт, сильный и решительный мужчина зрелого возраста. Я согласился ему помочь и мы начали создание его терапевтического скульптурного автопортрета.
Все, что происходило на первоначальных этапах было довольно предсказуемо. Более того, так как С. давно занимался самоанализом, я даже не предполагал, что будет выявлено в его душе что-то такое, что может нас удивить. Но я ошибался. Когда портрет уже приобрел натуральную величину, однажды, при вечернем освещении, он увидел в своем портрете образ Сталина.
Эта ассоциация вызвала в нас замешательство, но просто отбросить ее и забыть было невозможно. Принцип маскотерапии гласит, что ассоциации у портрета не бывают случайными, они отражают черты субличностей. С. вначале никак не мог объяснить сходство своего портрета с личностью Сталина, так как сам давно сознательно сформировал стойкое, как ему казалось, отрицательное мнение об этом диктаторе. Но на следующий день С. пришел с записями, которые сделал ночью. Вот они.
«Увидел в своем портрете образ Сталина. Поражен этим. Такого не должно было быть, так как я его ненавижу, как мне казалось ранее. И первоначально думал, что это нелепая случайная ассоциация. Но всматриваясь в черты незавершенного портрета, вижу вновь и вновь образ Сталина. Он словно ожил в настоящем, проявился в пластилине с помощью моих рук и возник между мной и другими людьми. Особенно между мной и моим отцом, который выжил в фашистском плену во время войны, а потом выживал во время сталинского режима после войны. Палач и жертва – в одном лице. Накануне я отчетливо видел в своем лице черты моего отца. Отца во мне много, как и в любом другом человеке, но чтобы наряду с самым близким и родным человеком в тени души присутствовала еще и такая зловещая фигура как Сталин, я не мог себе даже представить. По прошествии нескольких часов начинаю осознавать трагическую реальность структуры моей памяти и души. В ней всегда присутствовали эти два образа – отца моей семьи и „отца народов“. Мой отец и я долгое время жили в стране, пропитанной образом Сталина, я видел его в старых книгах, под лобовыми стеклами автомобилей, на телах людей в виде наколок. Сталин был в душах окружавших меня людей, и сейчас он по прежнему присутствует в тени и моей души в виде субличности, накладывая отпечаток на мой стиль мышления и поведения, конфликтуя с другими субличностями и определяя стиль взаимодействия с моей семьей.»
На осознанном опыте взаимодействия наших субличностей мы познаем сложность внешней жизни. Зло неминуемо приходит в мир, но горе тому, через кого оно приходит. Внутренняя склонность к физическому насилию всегда будет востребована жизнью и она не может не присутствовать в человеке как данность мира.
Идеально, если мы используем природную склонность к насилию в благих целях, например, чтобы усмирить преступника или предотвратить несчастный случай, выполнить свой долг по защите отечества во время войны или обуздать любую тень в мирной жизни.
Психологическое насилие
Прежде чем подробно описать феномен психологического насилия, важно заметить, что многие приемы этого вида насилия не изобретаются дома, а привносятся в семью из других социальных сообществ, например, из прежней семьи, рабочего коллектива, школы и даже из детского сада. Еще более травмирующими приемами члены семьи могут запастись в уличных группировках, в армии, на войне или в тюрьме.
Яркий пример мне рассказала учительница из начальной школы.
В третьем классе был мальчик, который не просто шалил на урока и переменах, но и плохо реагировал на замечания педагога. А так как педагогом была молодая женщина без достаточного опыта работы, то она обратилась к опытному педагогу. Таковым оказалась дама из городского управления образованием, которая иногда наведывалась в школу с целью обучения педагогическим приемам молодых специалистов. Дама была крупная, энергичная и с очень выразительным голосом. Она подозвала к себе маленького шалунишку, наклонилась над ним, взяла его двумя пальцами за отворот маленького пиджачка и приблизила к своему лицу вплотную. После небольшой паузы, когда ребенок окончательно замер с открытыми широко глазами и ртом, она тихо и медленно произнесла ему внушение быть дисциплинированным и послушным. А потом, выровнявшись над ним, добавила, что еще наведается сюда и узнает, как он себя ведет.
Эмоциональное насилие может быть намеренным или неосознанным и может перерастать в психологическую пытку.
Последствия эмоционального насилия существенно не отличаются от последствий физического насилия, но многие пережившие психологическое насилие не опознают совершённые в отношении них злоупотребления как насилие.
Психологическое насилие (эмоциональное или моральное) – это форма насилия, которая может приводить к психологической травме (тревожности, депрессии и посттравматическому стрессовому расстройству) и к затруднениям в различении и проживании своих эмоций.
Такое насилие характерно в семьях, где доминирует кто-то один, или где, например, двое объединились против третьего для насильственных отношений.
Выделяется около 20 проявлений психологического насилия, объединённых в три категории: вербальная агрессия (например, высказывания, имеющие целью вызвать у человека обиду или раздражение); доминантное поведение (например, ограничение общения человека с его родственниками); проявления ревности (например, обвинения в супружеской неверности).
К проявлениям психологического насилия также относят действия, направленные на подрывание самооценки и самоуважения человека (например, постоянную критику, преуменьшение способностей человека, оскорбления), запугивание, угрозы причинения физического вреда самому себе, партнёру, детям, друзьям или родственникам партнёра, убийство домашних животных, уничтожение личных вещей партнёра, насильственную изоляцию от семьи или друзей.
В отличие от физического и сексуального насилия, единичный инцидент не является эмоциональным насилием. Для психологического насилия характерно формирование климата или повторяющихся действий.
Основной причиной совершения психологического насилия является стремление к власти и контролю над другими людьми.
Для людей, склонных к эмоциональному насилию, характерны такие черты, как подозрительность и склонность к ревности, внезапные и резкие перепады настроения, недостаток самоконтроля, склонность к оправданию насилия и агрессии, расстройства личности.
Нередко насильники избегают выполнения домашних обязанностей или стремятся полностью контролировать семейный бюджет. Они могут манипулировать жертвой, привлекая на свою сторону друзей и даже родственников и возлагая на жертву вину за совершённое ими насилие.
Идеальная семья не имеет во внутрисемейных отношениях элементов психологического насилия, и только потому, что отдельные ее члены знают о нем достаточно много и защищают семью от внешнего психологического насилия.
Сексуальное насилие
Причина сексуального насилия кроется в том, что животный уровень индивидуальности затмевает человеческий, и страсть к сексуальному удовольствию берет над человеком верх. В такой ситуации человеческое уходит на второй план, а ведущими являются животные инстинкты. Более того, в момент сексуального насилия ведущим инстинктом является часто не Эрос, а Танатос.
Личность с высоким уровнем самоорганизации не может себе позволить руководствоваться только животными инстинктами. Другое дело человек, не достигший личностного уровня самоорганизации и в полной мере зависящий от сложившихся обстоятельств, которые и стимулируют его животную природу.
Возможно, именно по этой причине насилий сексуальных больше там, где насилие любого рода (физическое, психологическое) доминирует над другими видами взаимодействия, например, в социальных структурах всецело построенных на подавлении человека человеком. Это не обязательно должна быть тюрьма или войсковая часть. Такой структурой может быть предприятие или образовательное учреждение с авторитарной структурой управления, или семья, где основной вид взаимодействия – насилие.
Таким образом, можно утверждать, что вероятность сексуального насилия будет большей там, где не высокий уровень самоорганизации и нет условий формирования личности, где процветает авторитаризм и насилие разного рода.

