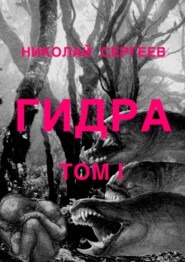скачать книгу бесплатно
Обещанное фашистами устранение неразрешимых до этого политических, экономических и социальных конфликтов привлекало в 1919—1939 годах политиков, учёных, писателей и журналистов, расхваливавших наступающую на мир коричневую чуму, стоившую человечеству миллионы загубленных жизней.
Двадцатилетие победного шествия фашизма по планете, называемое историками «золотой эпохой фашизма», было временем восторгов, ожидания чуда, которое спасет цивилизованный мир от ужасов большевизма. Точно так же, как всего несколько десятков лет назад мировая интеллигенция была увлечена коммунистическими идеями, с 1919 года она стала бредить идеями фашизма.
Только в 1946 году, после оглашения приговора Нюрнбергского военного трибунала, процессы романтизации масштабных социально-политических преобразований, происходивших в фашистских странах, распространявшиеся как пожар среди интеллигенции и политических элит мира фашистские идеологии, обретут своё точное, но мрачное определение в известном афоризме – «За красным рассветом над Европой, последовал коричневый закат».
Во всех существовавших в первой половине XX века фашистских идеологиях главной общественной идеей было самопожертвование и служение отечеству, беспрекословное подчинение отдельного человека воле большинства (фактически воле фашистской партии, которая отождествляла себя с народом).
Фашизм настаивал на отказе человека от собственной индивидуальности, на принятие ценностей народной массы.
Коренная модернизация мира, в особенности его политическая карта и экономическое устройство, без повсеместной победы фашизма, в 1922—1939 годах представлялась европейским, американским, азиатским, австралийским и африканским «прогрессивным» политикам нереализуемой.
Единственным внеконфессиональным, наднациональным, общим для всех видов фашизма прошлого, настоящего и будущего, подлинным врагом является либерализм, с его стремлением к неограниченной свободе и индивидуализму.
В 1920—30 годы само слово «либерал» стало ругательным в большинстве европейских стран. «Либеральная гадина» – любимое ругательство нацистов, наравне с «жидомасон» и «жидобольшевик».
В либерализме фашисты видели прежде всего эгоизм, подтачивающий народное единство, разрушающий государственный механизм и мешающий «правильным» отношениям в обществе.
Не ограниченный государством либеральный капитализм, основанный на экономической и личной свободе, с его несправедливым распределением благ, объявлялся злом, мешающим наступлению социального равенства. Конкуренция и естественное желание личного финансового благополучия, выставлялась как обогащение за счёт других, разрушающие моральные устои общества.
По мнению фашистов, капиталистические свободные конкурентные экономические отношения либо, вообще, следует устранить, установив государственную монополию (государственный капитализм), или в крайнем случае, поставить их под жёсткий государственный контроль, для чего необходимо контролировать любую экономическую деятельность. Отсюда во всех фашистских доктринах, в том или ином виде, присутствует антикапитализм и антилиберализм.
Либералы выступают за максимально возможную государственную защиту свободной конкуренции. Они озабочены защитой мелкого и среднего бизнеса от экономического давления монополистов, защитой потребителей товаров и услуг от необоснованного повышения и удержания высоких цен монопольными производителями.
Экономическая свобода делает граждан менее зависимыми от государства и неизбежно порождает в народных массах требования личных свобод, что расходится с целями фашистов и мешает построению тоталитарного государства.
Политический плюрализм либерального капитализма порождает политическую конкуренцию. В условиях такой конкуренции, граждане могут выбирать себе представителей и защитников их интересов из большого числа борющихся за их внимание политических организаций и независимых политиков.
Получая контроль над рынками, правящая политическая группировка получает, ни с чем не сравнимую, абсолютную власть над обществом. Никакие другие, включая политические, полицейские, государственно-административные меры не дадут в результате такой власти. Фашисты заинтересованы в максимальной монополизации экономики. Невозможно эффективно контролировать тысячи, десятки или сотни тысяч мелких производителей в условиях свободного рынка.
Они понимают, что монополистов проще контролировать. По их логике, крупные предприятия за счёт оптимизации производства могут значительно снизить производственные издержки и, следовательно, снижать конечные розничные цены на свои товары и услуги. На деле же монополия всегда оборачивается необоснованным ростом цен, значительно опережающем увеличение производственных издержек. В этом напрямую заинтересованы фашисты, с увеличением цен увеличивается часть прибавочной стоимости, которую присваивают фашисты в виде налогов или прямых отчислений в партийную кассу, коррупционной «дани», взимаемой контролирующими экономику внутрипартийными группами или отдельными партийными функционерами с крупных промышленных и финансовых монополий.
Другой способ получить непосредственный доступ к деньгам и производственным мощностям – национализация наиболее прибыльных и наиболее значимых отраслей или создание государственных монополий. Без кубиков Рубика и кружевных занавесок население может прожить, а без электричества и продуктов питания – нет.
Одураченные фашистской пропагандой граждане, поддерживая революционные лозунги против капитализма и либерализма, по сути, выступают за монополизм, часто даже не понимая этого.
Народные массы, находясь под гипнотическим действием фашистской пропаганды, не осознают, что прямое государственное управление экономикой всегда в итоге приводит к монополизму, который характеризуется наиболее серьёзным социальным расслоением общества, ещё более сильной эксплуатацией трудящихся, в отличие от классического капитализма, с присущей ему конкуренцией, решению трудовых споров посредством соглашений с профсоюзами и правового регулирования.
Монополизм непременно ведёт к милитаризму и хищническому разграблению национальных богатств, к ущемлению не только экономической свободы граждан, но также иных гражданских прав и свобод.
Монополисты заинтересованы в фашистах, так как их целью является максимально возможное увеличение своей прибыли путём устранения экономической конкуренции, уменьшения или вообще исключения роли профсоюзов в трудовых отношениях, а также в устранении государственными административно-полицейскими методами стихийных трудовых и социальных конфликтов.
Мобилизованное средствами пропаганды население не только не пытается отстаивать свои трудовые, экономические, политические права, но и добровольно идёт на любые жертвы, встречая ухудшение своего положения как должное, часто расценивая это как личный героизм во благо государства и народа.
Если вычесть из конкретного фашизма, существовавшего когда-либо в истории, все его специфические составляющие, в остатке мы увидим фашизм в чистом виде. Именно это общее «ядро» в идеологии, внутренней и внешней политике видели современники в фашистских режимах первой половины XX века. Именно эти свойства и вызывали восторг по всему миру.
Находя в своих движениях эти же основные свойства, фашисты считали, что все они имеют нечто общее. Этим объединяющим всех фашистов признаком являются базовые принципы в идеологиях, экономических и социальных программах совершенно различных на первый взгляд политических движений. При этом совершенно неважно, что все эти разные формы фашизма имели какие-то свои специфические черты.
Тем более неважно, что после 1946 года оставшиеся незатронутыми войной и последовавшими после её окончания политическими процессами денацификации и дефашизации, не участвовавшие в мировой войне фашистские государства, такие как фалангистская Испания, португальское клерикально-корпоративное «Новое государство», Аргентинский режим Перона и им подобные, демонстративно отмежевались от скомпрометировавших себя немецкого нацизма и итальянского фашизма.
Несмотря на их идеологическое разнообразие, эти режимы не перестали быть фашистскими после разгрома Третьего Рейха, фашистской Италии и милитаристской Японии. Большинство этих фашистских режимов существовали ещё долгие годы и десятилетия после разгрома стран Оси, оглашения приговоров на Нюрнбергском международном трибунале и Токийском процессе. В Нюрнберге были осуждены отдельные лица и организации, но не был осуждён сам фашизм, его человеконенавистнические принципы.
То, что в начале века понимали большинство образованных людей на земле под термином «фашизм», по прошествии десятилетий нам, живущим в конце XX века уже не кажется таким определённым, в отличие от наших предшественников, живших всего каких-то 50—70 лет назад.
Идеальное вечное тоталитарное фашистское государство видится теоретикам как не требующая постоянного интенсивного развития законченная система, где за каждой ее составляющей закреплена строго определенная функция.
В такой системе нет места новому, спонтанному, не укладывающемуся в рамки, установленные архитекторами системы. Функционирование всех подсистем строго регламентировано и направлено на достижение великой цели. Для изменения такой системы каждый раз требуется изменение правил, пересмотр концепции фашистского государства.
Именно по этой причине, меняя политический курс, фашистам приходится менять идеологию, это одно из слабых мест фашизма. Лишь те фашистские режимы, которые способны серьёзным образом меняться сами, менять свою идеологию, способны выжить и существовать десятилетиями. Те режимы, которые меняться не способны – нежизнеспособны в долгой исторической перспективе.
Фашизм представляет собой исторически новую форму господства правящего класса, отличную от старых форм автократии, для него важной становится идеология определенного типа, с утопическими целями построения идеального государства, с помощью которой фашисты пытаются мобилизовать массы.
Фашизм можно охарактеризовать, как политические учения, политические движения и организации, государства и их объединения, способы государственного управления, которые характеризуются наличием следующих обязательных признаков:
1.Провозглашение перманентной борьбы за выживание единственной целью существования человека, общества и государства.
2.Провозглашение в качестве привилегированной какой-либо группы людей, численно доминирующей на определённой территории (прим.– далее в тексте «привилегированная группа»).
3.Историческое, антропологическое, теологическое или любое другое, в том числе псевдонаучное обоснование исключительности привилегированной группы.
4.Экстремальный антилиберализм и этатизм. Стремление создать тоталитарное государство в интересах конкретной привилегированной группы. Этой привилегированной группой может быть всё население страны, за исключением некоторых малочисленных категорий, объявленных врагами.
5.Насаждение в обществе культового сознания, поддерживающего идеи социального дарвинизма, мифы об исключительности привилегированной группы, принципы примата государственных интересов перед личными.
6.Создание единой системы взглядов на государство и общество, на нравственность и мораль, на социальные, экономические и любые другие отношения между людьми – универсальной фашистской тоталитарной идеологии. Цель такой идеологии – стандартизация массового сознания, моделей поведения и общественных реакций, манипулирование общественным сознанием с целью мобилизации членов привилегированной группы, для захвата и последующего удержания манипуляторами власти. Манипулирование общественным сознанием может сочетаться с завуалированным или открытым контролем над жизнью граждан.
7.Отрицание серьёзного значения и принципиальной неустранимости социального неравенства, естественно возникающего из-за различий между людьми.
8.Отрицание или значительное принижение значимости для общественных и экономических отношений, иных различий людей (культурных традиций, образования, профессии и прочего), кроме самого факта принадлежности к численно доминирующей привилегированной группе. Единственным действительно значимым отличием людей провозглашается принадлежность к привилегированной группе.
9.Заявления о возможности решения любых политических, экономических, социальных и любых других проблем административными методами и вытекающие из этого: откровенная политическая и социальная демагогия, административные способы управления экономикой.
10.Создание массового общественно-политического движения (фашистского движения), декларируемое предназначение которого являются защита интересов привилегированной группы, общественная поддержка и прямое содействие получению конкретной фашистской политической организацией властных полномочий с целью защиты интересов этой же привилегированной группы. Истинная цель создания такого массового движения – захват и последующее удержание власти фашистской политической организацией.
11.Создание политической организации с иерархической структурой (фашистской организации, политической партии) декларируемое предназначение которой является получение властных полномочий с целью защиты интересов привилегированной группы. Истинная цель создания такой политической организации – исключительно захват и последующее удержание власти.
12.Использование массового фашистского политического движения для получения тотального контроля над всеми проявлениями экономической, общественной и политической жизни, а также над личной жизнью людей. Максимально возможное, для конкретных сложившихся политических и экономических условий, подчинение фашистской организации и (или) фашистскому массовому политическому движению государственных органов и общественных институтов.
13.Использование в политической борьбе за власть, а также в государственном управлении методов манипулирования массовым сознанием с помощью пропаганды, построенной на политических, псевдорелигиозных или религиозных культах, как одновременно с методами физического или психологического принуждения, так и без принуждения. Идеология, методы и цели пропаганды могут меняться со временем, с целью сохранения их эффективности в изменившихся условиях.
14.Антикапитализм в идеологии в явной (отрицание необходимости свободы конкуренции) или скрытой форме (требования ограничений свободы конкуренции в интересах государства, создания новых или укрупнение сложившихся финансовых и промышленных монополий, создания государственных монополий). Признание государственно-монополистических методов регулирования экономики в качестве единственно приемлемых, с точки зрения социальной справедливости. Как результат – максимально возможная, в конкретных сложившихся условиях, монополизация экономики через методы принуждения экономического и неэкономического характера.
15.Антилиберализм в идеологии всегда в явной форме. Приписывание либерализму не свойственных ему признаков или значительное преувеличение имеющихся у него недостатков – принижении роли государства, стремлению к декоративности и декларативности демократии, ведущей к всевластию и безнаказанности имущих классов. Утверждения о том, что в основе либерализма лежат исключительно эгоцентризм, эгоизм и алчность, которые подрывают основы государства и общества, наносят ущерб социальной справедливости. Установление в качестве базового постулата невозможности, без вмешательства государства, никакими общественными соглашениями достичь гармонии между личными и экономическими свободами граждан, и общественными интересами.
Только наличие всех, перечисленных выше, пятнадцати обязательных признаков фашизма, является необходимым и достаточным условием для определения политического движения, партии или государства в качестве фашистских.
Остальные признаки фашизма имеют факультативный характер и органично возникают из его основных свойств.
Факультативные признаки обязательно должны происходить непосредственно из основных свойств фашизма.
К примеру, основные теоретические положения конкретной фашистской доктрины должны не только утверждать об исключительности какой-либо доминирующей группы и необходимости для её защиты создания тоталитарного государства, но и обязательно иметь реальное отражение такой доктрины в идеологии, а также в виде религиозного, псевдорелигиозного или политического культа исключительности.
Когда нормальные естественные стремления вроде сохранения традиций, почитание национальных героев, здоровый национализм, государственность, патриотизм и подобные им понятия, смешиваются в идеологии с социальным дарвинизмом, экстремальным этатизмом, идеями исключительности и превращаются в объединяющий огромные массы людей культ, тогда возникает фашизм.
Наиболее распространённые фашистские культы: ненависти, исключительности, корпоративизма, традиционализма, отдельной личности, государства, войны, героя, Нового человека.
Фашизм, используя отдельные психологические свойства толпы в своих политических целях, манипулирует понятиями морали и нравственности. На самом деле, к морали, а тем более к нравственности, это явление не имеет никакого отношения. Общественная мораль в фашизме выступает лишь как инструмент для манипулирования.
Современный фашизм может провозглашать своей целью защиту природы (экологический фашизм) или бесправного большинства (борьба с апартеидом, например). Какими бы благими целями он ни маскировался, под что бы он не мимикрировал, он всегда имеет определённые, легко вычленяемые из его политической программы и из его идеологии родовые признаки.
Многие путают фашизм и политический популизм. Действительно, все фашисты являются популистами, но не все популисты фашисты.
Популисты так же, как и фашисты отождествляют себя с народом, они такие же ярые противники либерализма, политического плюрализма. Популисты противопоставляют народные массы существующим в стране элитам, в основном политической, считая её насквозь коррумпированной и неспособной воспринимать интересы народа. Как и фашизм, популизм – это всегда политика консолидации общества, определения национальной или иной идентичности, с претензией на исключительность. У фашистов и популистов одна и та же социальная база.
Целью популистов, как и фашистов является власть. Но первую категорию политиков интересует лишь краткосрочная политическая игра, короткая выборная гонка, наградой за победу в которой – выгода от нахождения во власти. Популисты преследуют тактические цели, фашисты – стратегические, так как они рассчитывают на масштабные изменения в государстве и обществе.
У популизма также есть существенные отличия от фашизма. Популисты, утверждая, что только они единственные в стране представляют весь народ, объявляют прямое народное волеизъявление в виде референдумов и выборов неприкосновенной священной коровой демократии. Популисты не могут существовать вне демократической системы, где всё зависит от избирателей, так как все их методы состоят в обмане, раздаче невыполнимых обещаний, потаканию низменным желаниям толпы, в принципе в любых морально нечистоплотных действиях, в стремлении понравиться народным массам. Популизм представляет собой сильно деградировавшую или даже полностью выродившуюся демократию, которая стремится к хаосу, но никак не к тоталитарному государству.
В основе политических программ популистов лежит не социальный дарвинизм и борьба за выживание, а моралистический принцип – народ носитель нормы, он высокоморален, он труженик и созидатель, а существующие элиты безнравственны, развращены, делают всё только для своей выгоды, они не создают ничего полезного для государства и общества, а лишь отравляют жизнь простым избирателям.
Популисты не пытаются обосновать исключительность народа с помощью псевдонаучной, теологической, исторической или иной теории. Они полагают, что народ и так ясно понимает свои желания, из-за чего нет необходимости каким-то образом обосновывать потребности и желания этого народа.
Никак не обосновывая, популисты могут объявить что угодно, исходящим якобы от народа, т.е. тем, что требует от них народ. У популистов нет и не может быть идеологии, все их лозунги являются простым ответом либо на вечные вопросы, не имеющие ответа, либо на сиюминутно возникшие животрепещущие острые проблемы или не стоящие того шума, который популисты вокруг них создают.
Можно сказать, что популисты не предлагают, в отличие от фашистов, каких-то решений проблем, они лишь реагируют на изменчивые настроения в обществе и на возникающие конфликты народа с властью (нередко создаваемые самими же популистами). Им не требуется создание долгосрочных политических культов, они используют лишь те политические, экономические и социальные противоречия, которые либо уже достигли своей верхней точки, либо ожидается их обострение в ближайшем будущем.
Популисты ограничиваются лишь отдельной политической частью реальной жизни, они не склонны к тоталитаризму. Конечно, захватив власть, они могут создать авторитарное государство, провозгласив себя новой властной элитой, но тогда они уже перестанут быть популистами.
Находясь во власти, популисты могут легко переродиться в фашистов, но для этого необходимо серьёзное качественное изменение. На этих двух стульях усидеть невозможно.
Как правило, популисты, придя во власть, сразу всю теряют свою привлекательность для народных масс, по причине того, что примитивные популистские способы решения проблем сразу обнаруживают свою несостоятельность. Популисты рождены протестом, созданы для протеста и живут протестом против власти. А протестовать, находясь самим во власти, как-то проблематично. Поэтому популисты, дорвавшись до власти, становятся частью политической элиты, растворившись в ней. Они появляются на политической сцене лишь перед очередными выборами, высыпая перед избирателями очередной красочный набор из агрессивных критических нападок на власть, к которой сами же и принадлежат и заведомо невыполнимых предвыборных обещаний.
Популисты не выдвигают идею создания нового общества, нового государства. Они вообще не склонны критиковать устройство политической системы, поэтому не предлагают серьёзных системных изменений, а лишь указывают на то, что во власти находятся безнравственные корыстные люди.
По утверждению популистов, достаточно сменить этих «неправильных» людей на истинных представителей народа (которыми популисты, разумеется, считают только самих себя), то сразу всё изменится.
Отдельные исследователи, называя фашизм одновременно антидемократическим и антилиберальным, имея в виду крайний этатизм и ограничения прав граждан в тоталитарном государстве, смешивают два разных понятия. Либерализм и демократия не одно и то же.
Либерализм предполагает защиту прав любых граждан, в том числе разных меньшинств. Основной принцип либерализма – личная свобода любого человека заканчивается лишь там, где начинается свобода другого.
Демократия – это власть большинства, а либерализм провозглашает главенство личных прав и индивидуальных свобод человека, независимо не только от их социального и политического статуса, от влияния и обладания реальной силой, но и от принадлежности к большинству, любому большинству, включая религиозное, национальное, расовое и прочее.
Существует точка зрения, что демократия противоположна истинному либерализму. В либерализме даже существуют течения, сторонники которых считают, что бесконтрольная формальная демократия непременно ведёт либо к фашизму, либо к охлократии.
Основными тезисами подобных либеральных теорий являются утверждения, что массы слишком иррациональны, так как подвержены сильным эмоциям, чтобы быть способными к разумному выбору и слишком эгоистичны, чтобы сдерживать самих себя в своих желаниях. Поэтому предлагается создание сдерживающих механизмов, которые защитили бы меньшинство от произвола со стороны большинства и не позволили бы демократии выродиться в фашизм или охлократию. Это может быть суд, наделённый правом отменять решения большинства, общественные институты, имеющие право вето и тому подобное.
Некоторые современные политологи, по большей части радикальные социалисты, называют эти теории «либеральным фашизмом», так как они предполагают существенное ограничение демократии. Наклеивание подобного идеологического ярлыка, по моему скромному мнению, несправедливо. Эти либеральные теории не имеют никакого отношения к фашизму, ни к термину, ни к явлению.
В принципе, существование тоталитарного государства с формальной декоративной демократией, построенного на фашистских принципах, представить себе несложно. Это может быть страна, где большинство граждан, находясь под влиянием фашистской пропаганды, не управляемое непосредственно, но направляемое фашистской партией, добровольно и с положенным в таких случаях энтузиазмом самостоятельно осуществляет все пункты фашистской доктрины. Начиная от огосударствления и монополизации экономики, развития солидаризма и созданию иерархических государственных управленческих структур с централизованным управлением, заканчивая полным контролем над жизнью граждан и геноцидом меньшинств.
Таким образом, совместить фашизм и симулякр демократии возможно, но сосуществование фашизма и либерализма невозможно по причине того, что фашизм изначально включает в себя антилиберализм, в составе своих основных базовых принципов.
Муссолини в 1923 году утверждал: «В России и Италии доказано, что можно править помимо и против либеральной идеологии. Фашизм и коммунизм пребывают вне либерализма».
Не всегда простому обывателю бывает заметен переход к фашистской модели тоталитарного государства. Резкая смена внутриполитического курса, которая могла бы вызвать негодование у части населения, происходит редко, чаще граждане вообще не замечают ползучей тоталитаризции государства и фашизации общества.
Фашисты сначала устанавливают контроль над средствами массовой информации, потом над правительством, подчиняют себе армию и полицию, следующей жертвой становятся муниципалитеты и различные структуры гражданского самоуправления, организации образования и культуры, которые из независимых (частных или общественных) становятся либо государственными, либо попадают под тотальный государственный и партийный контроль.
Многочисленные исторические примеры показывают один из распространённых способов захвата власти – фашистами создаётся надгосударственный исполнительный орган (фашистский совет в Италии, политбюро в СССР и пр.), в статусе, не определённом правовой системой государства. Такой орган сначала наделяется незначительными, часто совещательными полномочиями, потом в своём развитии становится всё более могущественным и со временем начинает делать первые уверенные шаги к реальной абсолютной власти. Когда стремление такого органа к абсолютной власти становится уже очевидным для всех, то помешать ему, как правило, бывает уже поздно.
Этот феномен можно условно назвать политической слепотой, вызванной психологической неспособностью обращать внимание на небольшие изменения политической ситуации в собственной стране, если она не затрагивает напрямую человека, не связана с его личным опытом и по этой причине не вызывает у него сильных переживаний.
Вспоминается высказывание бывшего узника концлагеря Дахау немецкого священника Мартина Нимёллера, объяснявшего в 1955 году равнодушие немцев двадцатью годами ранее: «Сначала они пришли за социалистами, и я молчал – потому что я не был социалистом. Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал – потому что я не был членом профсоюза. Затем они пришли за евреями, и я молчал – потому что я не был евреем. Затем они пришли за мной – и не осталось никого, чтобы говорить за меня».
Иногда подобная слепота вызвана тем, что во время прихода фашистов к власти и последующей постепенной тоталитаризации государства, ползучей фашизации общества, из-за череды других ярких исторических событий, происходящих одновременно и вследствие этого отвлекающих внимание, становится невозможным следить за всеми происходящими вокруг переменами.
Следует признать, что значительное большинство людей вообще не способны заметить медленных перемен в своей стране, не в состоянии разглядеть опасность происходящих вокруг них политических процессов и исторических событий.
Такое состояние может возникнуть у любого человека, независимо от пола, возраста, профессии, образования и уровня умственного развития. Тот, кто подвергается такому эффекту, как правило, не имеет даже малейшего понятия о существовании феномена «политической слепоты», что многократно увеличивает сам эффект от феномена.
Часто фашисты, как опытные фокусники, манипулируют вниманием толпы и умело пользуются этим феноменом, намеренно создавая ситуации, отвлекающие общественное внимание от их действий.
Несмотря ни на какие ухищрения идеологов, фашизм всегда узнаваем, он всегда остаётся самим собой. Опасность фашизма не только в том, что в современном мире он пытается маскироваться под что-то иное и становится от этого трудно распознаваем.
Фашизм опасен, прежде всего, тем, что очень привлекателен для миллионов людей своей простотой и радикальными методами решения проблем.
1.3. Использование термина «тоталитаризм» в отношении фашистских политических режимов
Путаницу в использовании терминов внесла сознательная замена с 1946 года в политическом лексиконе и научных публикациях, распространённого в первой половине XX века, термина «фашизм» в некоторых случаях на другой, более узкий термин – «тоталитаризм», который означает лишь стремление государства к полному контролю над политической, общественной и личной жизнью людей. Именно так определил значение термина «тоталитаризм» его автор антифашист Джованни Амендола, а в последствии так же его понимали фашисты Джентиле и Муссолини.
Некоторые фашистские государства, в самом конце Второй мировой войны, предчувствуя развязку, переметнулись в стан противников фашистской Италии и нацистской Германии. Такие страны после дискредитации понятия «фашизм» и осуждения немецкого нацизма на Нюрнбергском процессе, ангажированные историки, публицисты и политики стали стыдливо именовать «государствами с тоталитарными режимами».
Вроде как сотрудничать с фашистским режимом нельзя, а с тоталитарным можно. Сложилось мнение, что достаточно, любой фашистский режим назвать просто тоталитарным и это, по мнению западных политиков и государственных политологов, всё сразу меняет.
Этот приём получит своё продолжение в истории дипломатии второй половины XX века, когда сотрудничество с откровенно фашистским режимом оправдывалось защитой демократии или диктовалось якобы предотвращением вооружённых конфликтов, гражданских войн и гуманитарных катастроф. Самым известным примером может служить так называемая рейгановская «доктрина Киркпатрик», согласно которой, допускается поддержка правительством США авторитарных и тоталитарных режимов ради продвижения американских интересов и защиты демократии в остальном мире.
Чтобы отличать своих военных союзников от противников, а также чтобы не «обижать» нейтральные страны и участников антигитлеровской коалиции, европейские дипломаты и публичные политики целых 10 лет (с 1946 по 1956 год) избегали любого сравнения союзных стран, включая СССР, а также не участвовавших в последней мировой войне нейтральных фашистских государств с нацистским режимом и фашистской Италией.
Тем не менее, некоторые из наиболее совестливых и принципиальных журналистов, историков и политологов, как и раньше, продолжали использовать термин «красный фашизм» по отношению к СССР, а также не стеснялись употреблять слово «фашизм» в своих статьях и книгах по отношению к фашистским европейским государствам, таким как Португалия и Испания.
Дипломаты старались не напоминать о своих заслугах и заслугах своих коллег в создании и победном шествии фашизма по всей Европе в 1919—1939 годах, в сохранении фашизма в целом ряде европейских государств после окончания Второй мировой войны, вплоть до 1970-х годов. Они стали проявлять особую деликатность в проведении внешней политики своих стран по отношению к фашистским политическим режимам, благополучно переживших войну. Перемены также касались не только дипломатии, но и отношения к фашистским странам в историческом и культурном контексте.
Финляндии в 1946 году простили геноцид славянского населения в Карелии и создание на своей территории десятков концлагерей, в которых погибли не только несколько тысяч комбатантов (советских военнопленных), но также огромное количество гражданских лиц, включая женщин и детей «нетитульных» национальностей. Все ограничилось наказанием отдельных финских высших руководителей, инициаторов заключения союзнического договора с Гитлером и нападения на СССР, включая Рюти и Таннера.
Испанский фалангизм, в награду за нейтралитет в войне, стал после 1946 года считаться западными политиками вполне прогрессивным. И неважно, что все основные признаки фашизма были налицо.
Устойчивое выражение «фашистская Испания», использовавшееся до этого целых 10 лет, попало под негласный запрет. Из западных газет на несколько лет исчезли фотографии фалангистов со вскинутыми вверх в фашистском приветствии руками. Никого ни в Европе, ни в Америке уже не смущали испанские флаги со свастикой и связка стрел, наподобие итальянских фасций. В СССР уже к концу 1946 года также благополучно «забыли» о добровольческой испанской «Синей дивизии», воевавшей в составе вермахта против СССР.
Следует отметить завидную живучесть некоторых европейских фашистских режимов. Испанская фаланга прекратила своё существование лишь 20 ноября 1975, со смертью своего вождя. По продолжительности нахождения у власти (с 1926 по 1974 год), фашисты в Португалии превзошли всех других европейских фашистов.