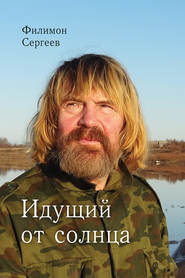скачать книгу бесплатно
Сон в одежде покойника
Марья Лиственница уже подоила корову и растопила русскую печь, когда Вера пришла домой. Отец тоже уже занимался делами, сидел у телевизора, пил пиво и клеил резиновые сапоги. На экране телевизора мелькал известный эстрадный певец. Глаза у него горели, как у дьявола, и в них, кроме лукавства и праздной сытости, Михаил Афанасьевич ничего не обнаружил, а голос певца напомнил ему, может, из-за того, что плохо работали антенны, визг старой, сильно заезженной кобылы. Михаил Афанасьевич выключил телевизор, включил радиоприемник.
«Мы настоящие, мы настоящие. – твердило „Русское радио“. – Мы настоящие».
– Если б настоящими были, скотный двор и щас бы стоял, а его разорили такие же настоящие. А ведь он деревяшка. Деревяшке все равно, какая власть, какая вера, зачем портить ее?.. Теперь нет ничего настоящего, кроме солнца, звезд, тайги. Тайга разве виновата, что нашему Третьякову дом нужен, трехэтажный, из рудовой сосны. Вчера я на охоту ходил, за весь день только одного глухаря подстрелил, и тот сидел на елке, спиленной браконьерами. Тайгу губят, черти, губят. Эти настоящие. на словах. законопослушники бандитского разума.
– Хватит брюзжать, – одернула его Мария.
Михаил Афанасьевич как будто не слышал.
– Нынче каждый русский мужик только в одну щель смотрит, ни звезд не видя, ни света белых ночей… Ха! Ха! Ха! Детишек плодить старается, а зачем?! Для чего они?! В Чечню или еще куда. Может, в охрану… А кого охранять – паразитов! От кого?! Может, от народа?
– Нашу Верку ни в Чечню, ни в Ирак, ни в Америку не пошлют. По здоровью не пройдет да и по менталитету. «Ей где тепло, там и Родина». Всех продаст: и друга, и Христа, потому что ради денег живет.
– А ты что, не такая же кукушка?! Хоть Верка непохожа на тебя, да полет тот же. Не в одном гнезде любите свои яйца попарить.
– А тебе что? Мы как белки крутимся. У меня поле картофельное, глазом не охватишь. Коровушек холмогорских полдюжины, одна другой лучше. Куда денешься? А Верка теперь не чета нам, деревенским. Девушка городская, воспитанная, потому у нее каждый день, каждый час, как на сенокосе – год кормит.
– Ты лучше спроси, где она работает.
– А тебе не все равно? Видишь, сколько подарков навезла. Крутится девка и с головой дружит. Ты сам у нее спроси, где она работает. Может, на Лубянке или в Думе. Оттого и молчит про работу, а ты дознайся, ведь ты отец ее.
– Что-то я сомневаться стал.
– Ух, довыламываешься, Миша! После обеда страховщик должен приехать. Закрой рот. Нынче языки у всех длинные. Заберут, как в тридцать седьмом.
– А я не боюсь, при Петре тоже сажали. Особенно тех, кто бороды не брил. Да и при Галилее – за инакомыслие. Забыла, отчего силен русский мужик?
– От водки, Миша, от водки.
– Фу ты, глупость какая. От водки лихо только алкоголикам, а русскому работнику с кувалдой или топором правда нужна, а где правда, там и сила, и мудрость. У лжи мудрости нет, оттого и непобедим наш мужик, что правда за ним.
Вера влетела в горницу словно туча на поляну. Мать хотела поговорить с ней, но та погрозила кулаком и, словно глухонемая, прошла в спальню. Отец только развел руками.
– Маша, в кого она?! Всю ночь где-то блудила, а вместо извинения – кулак.
После его слов дверь спальни неожиданно распахнулась, из нее вышла Вера в поролоновой куртке и, сбросив ее, оказалась в нижнем мужском белье.
– Видите, на мне мужская безрукавка.
– Как это понять? – удивилась мать.
– Очень просто. Меня и здесь вычислили, облюбовали, и, по-моему, очень успешно. До сих пор в себя прийти не могу. – Она опять набросила поролоновую куртку и, уйдя в спальню, закрыла дверь на ключ.
Вере хотелось спать, но уснуть она не могла, и вовсе не от петухов, которые все утро кукарекали под окном, как недорезанные, и не потому, что в доме было угарно, а от того, что в сердце возникла такая боль, такая беда, что хотелось лезть на стенку и кричать на весь мир: «Господь, я гибну от безумных мужиков, от их беспредела, наглости! Неужели я такая красавица, что все прыгают на меня, как на шимпанзе?! Я не хочу больше жить, потому что, кроме Юры, меня никто не любил, а прыгают все, один выше другого, словно я на пальме живу!»
Она разделась догола, легла в теплую постель, которую ей приготовила мать задолго до приезда, но вдруг почувствовала какое-то легкое, едва уловимое покалывание в разгоряченной груди. Она поднялась с кровати и подошла к зеркалу. Грудь ее, воспаленная, раскрасневшаяся, светилась в утренних лучах солнца, особенно розовые разбухшие соски. Вера вгляделась в них и увидела, что они покрыты какой-то еле заметной не то пыльцой, не то паутиной, похожей на тонкие, почти невидимые золотисто-серебряные нити. На кончиках сосков они светились ярче, чем на остальной части груди. Ужас охватил ее, когда она обнаружила, что блестящий золотисто-серебряный слой, похожий на паутину, покрывает все ее тело. «Что это?! – вздрогнула она. – Приворот или еще что?! Я вся покрыта словно мелкой рыбьей чешуей». Она достала мамины очки, лежавшие под большим зеркалом комода, и, увеличив золотисто-серебряные нити в несколько раз, внимательно рассмотрела их. Нити имели определенную симметричную форму, находились без движения, но как только она касалась их ногтями или пальцами, они мгновенно рассыпались, превращаясь в пыль, а потом снова обретали прежнюю форму. Прекратив наблюдение, Вера взяла в руки безрукавку Ивана и принюхалась к ней. Ароматы весеннего утра, перемешанные с ароматами зеленого вереска и багульника, сначала остановили ее дыхание, а потом захотелось дышать еще больше и глубже. «Какая прелесть, – подумала она. – На кладбище я, наверно, плохо ощущала этот лесной запах, потому что рядом находился Иван, который пропитан этими ароматами насквозь, а сейчас это дыхание кажется настоящей сказкой». Она опять надела мужскую безрукавку, но блестящий налет на ее теле, похожий не то на пыльцу, освещенную солнцем, не то на мелкую рыбью чешую, не давал ей покоя. «Нет, я лучше сниму ее». Она сняла безрукавку, положив ее подальше от кровати, и легла опять в постель. Полежав в какой то растерянности несколько минут, Вера вдруг почувствовала, что ей не хватает воздуха. «Может, мама рано закрыла трубу в русской печке, и от этого угарно»? Она открыла окно, проветрила комнату, опять легла на кровать, но состояние ее не улучшалось. Какая-то непонятная тяжесть не давала дышать свободно, и голова, да и все тело становились от этого ватными. Тогда она опять взяла одежду Ивана и приложила ее к лицу. Удивительно. Ей вдруг стало лучше, и она вновь надела безрукавку. Не прошло и нескольких минут, как она куда-то провалилась и уснула.
Яркий утренний сон охватил ее юное тело. Снилась ей земляничная поляна, на которой много, много цветов, бабочек и света. И Вера, легкая, хрупкая, скользит в белом подвенечном платье по солнечной поляне, и сердце ее колотится от счастья, радости. Друзья и приятели провожают ее в другую, новую жизнь, в которой она будет любить и наслаждаться одним-единственным человеком, радоваться, молиться на него, помогать ему во всем, а главное – порхать с ним по этой земляничной поляне, а может, и по другим полянам, по другой, еще неведомой, земле, в любую сторону, куда он захочет, вместе, рядом, навсегда. Что может быть прекраснее – летать среди цветов, трав, солнечных тайн с любимым человеком? Ее провожают в этот путь прежде всего те люди, с которыми она когда-то спала, и они были счастливы с ней, пусть несколько мгновений, несколько минут, пусть только одну ночь или несколько ночей, но они испытали блаженство. Иначе они бы не пришли к ней на свадьбу и не принесли столько подарков, от которых кружится голова. Мужчин на земляничной поляне, конечно, больше, чем цветов, и она радуется тому, что пришли все, даже те, кто заплатил когда-то за мимолетную близость с ней огромные деньги, потому что прошла хорошая реклама, и те, кто организовывал близость, тоже находились с ней в интимных отношениях, хотя и рассчитались с ней «деревянными». Некоторые мужчины пришли со своими женами и подругами, и Вера от души радовалась тому, что у этих славных импотентов, которых она помнила по разным особенностям, есть женщины, и довольно симпатичные. «Наверно, такие же импотентки, – подумала она. – Но богатые, очень нарядные и очень похожие на благополучных депутаток». Да и сами мужчины в этот торжественный день, не все конечно, но многие, походили на депутатов разоренного государства. Только один не был похож: худой, ясноглазый, с лицом, горящим как свеча, даже шрамы на котором потрескивали словно от жара. Это был, конечно, Иван Петрович. «Я чувствую всем телом, что ты любишь меня, – шепчет она ему, – поэтому я не возьму с тебя ни копейки, сокол мой призрачный, и не потому, что ты мой муж теперь…» «Почему?» – спрашивает он. «Деньги разделяют людей, – опять шепчет она, – хотя многие думают наоборот, но это самообман, потому что, взяв деньги, люди становятся заложниками их». Иван не соглашается, но она настаивает на своем. Она знает, что, заплатив ей большую сумму, клиент всегда был чем-то недоволен, потому что он ждал от нее чего-то необыкновенного, сверхъестественного, а это происходит лишь тогда, когда есть любовь. А в «элитном» доме строгого расписания, с бесконечным потоком клиентов, слово «любовь» заменяется обычным выражением – «окучить с двойной тягой». Гости подходят к свадебному столу, играет удивительный вальс, и музыканты, слетевшиеся на свадьбу как мухи на мед, аплодируют ей за каждую улыбку, потому что они в курсе дела и хорошо знают, сколько стоит ее улыбка, особенно в центре Москвы, да еще в постели. Тем более что самый виртуозный из музыкантов был с ней в интимных отношениях, когда она еще только начинала свою столичную карьеру, поступив в театральную академию, а вечерами подрабатывала на Тверской с такими же приезжими девчатами, взявшись за руки и солируя песню Булата Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». «Какой удивительный сон», – радуется Вера и, срывая на поляне самые нежные цветы, дарит их прежде всего мужчинам, потому что она еще не забыла их внимание, их чувственный трепет, деньги, подарки. Они разного возраста, и есть очень старые, с бамбуковыми палочками и в очень толстых очках, словно у сталеваров, даже есть плохо говорящие, с признаками болезни Паркинсона, но все они рады ее видеть и с доброй улыбкой принимают цветы из ее дрожащих рук. И вот к ней, словно ангел, подлетает президент очень раскрученной фирмы, которая выпускает самые крепкие и высококачественные предохранители, пользующиеся спросом даже за рубежом. Он строен, красив, и голубым отливом светятся его перстни на обеих руках. В ладонях он держит свою продукцию, которой нет равных. «Они надежны, – рекламирует он свой товар. – Наденьте, к примеру, вот этот, красный, хотя и тонкий, как крылья бабочки, на хобот любого слона, и он не порвется! – восклицает президент. – Или этот, трехцветный, последнего поколения, самый популярный в престижных домах и недоступный в глубинке, так как стоит сто долларов за штуку». «Это классно, это классно, – хлопает в ладоши Вера. – Вы, господин президент, очаровательны. И очень похожи на ваш товар, на эту самую эксклюзивную резинку, которая помогла нам встречаться без всяких последствий». Теперь все хлопают в ладоши и смеются, а президент хмурится, садится в мягкое кресло, которое ему предоставляют телохранители, словно в самолет, и протягивает Вере бокал шампанского. «Березка наша, – говорит он. – Я желаю тебе и твоему мужу долгой любви, и буду мочить каждого, кто помешает вашему счастью. – Используйте мой сертифицированный товар, наше будущее за ним!» Все опять смеются, и какой-то молодой человек говорит, что если бы не Иван, то он бы просил Вериной руки. Кто это?! Вера не может узнать его, потому что у него длинные волосы и он наклонил голову. Такого парня она не встречала. По всем признакам, его не было ни на Тверской, ни на Садовом кольце, ни в богатом доме. Она вглядывается и, когда он поднимает голову, узнает Юру.
– Вера, иди обедать! – кричит мать за дверью, и она просыпается. «Какой сладкий и красивый сон», – размышляет она и снова закрывает глаза, чтобы уснуть, но ей хочется есть, и от голода немного кружится голова.
– Сейчас, сейчас, мама… – отвечает она уставшим голосом. – Я только переоденусь и сделаю прическу.
Вера сняла рубашку Ивана и опять внимательно осмотрела раскрасневшуюся грудь. Она вдруг обнаружила, что золотисто-серебряные нити на сосках ее груди не только не исчезли, а наоборот, стали еще ярче, еще ослепительнее. «Кто он, этот странный человек-призрак?! Умом не могу понять. – Она схватилась за голову и глаза ее опять стали мокрыми. – Откуда он взялся здесь, в глухом поселке, в котором живут одни пенсионеры да малые дети?!»
Поднявшись с постели, она вышла в столовую.
– Мама, – с тревогой в голосе спросила она, – ты не знаешь Ивана Петровича?
– Какого Ивана Петровича? – насторожилась мать. Потом перекрестилась и тяжело вздохнула.
– Голубоглазого, со светлыми волосами, со шрамом на лбу?..
– А зачем он тебе?
– Просто. Так.
– Нынче, Верушка, просто так и ворона не каркнет. Ты лучше, Верушка, топленого молочка выпей с творогом. Шанег поешь картовных. На тебе лица нет.
– Спасибо, мамочка… – Вера посмотрела на стол, и на душе у нее потеплело.
На столе стоял старинный самовар, каргопольские чашки брусничного цвета, румяные рыбники в деревянных лотках, в берестяной посуде красовались свежие пироги с морошкой и осенними сигами.
– И все-таки, мамочка, кто такой Иван Петрович?! – не унималась она, заварив крепкий кофе.
– Не спрашивай, Верочка, все равно не скажу, – на этот раз, словно топором, отрубила Марья Лиственница. – Не надо тебе знать про него.
– Почему?
– Беда к беде липнет. Вон, папка-то наш, как познакомился с этим Петровичем, уж пять лет прошло, а все книжки о России ворошит да по ночам ими бредит… Где было крепостное право, где нет, в каких масонских ложах царь сидел. Кто пропивал Россию, кто по крохам собирал. А я тебе так скажу: была Россия, да пропала. Как там у Пушкина? Будто вовсе не бывала. – Марья Лиственница тяжело вздохнула и подвинула к Вере самый румяный рыбник. – Поешь, дитя мое беспризорное. Рыбничек из палтуса. Папка на море сам поймал.
Вера сделала несколько глотков крепкого кофе и, отодвигая рыбник, вдруг заметила, что кожа на ее руке стала еще золотистее и какого-то странного цвета.
– Сколько лет Ивану Петровичу? – на этот раз строго спросила она. – Говори, мама, иначе я в милицию пойду.
– Ты что, спятила?! На кой леший он сдался тебе?!
– Дело в том, мамочка. Как бы поделикатнее тебе объяснить. Не ругай меня, не брани. Но от судьбы не убежишь. Ночью я познакомилась с ним. Близость имела.
Марья Лиственница выронила из рук все, что находилось в них, и бросилась к божнице.
– Мамочка, что с тобой?
– Ты что, Верка, с ума сошла?! Или ветром надуло?! Ивана Петровича уже четыре года нет. – Она молилась и плакала, и глаза ее горели каким-то безумным блеском, наполненным негой и страстью.
– Как нет?
– Вот так. Он похоронен рядом с Юрой, только могила без оградки, потому что людей много к нему приходит… Ломают, черти…
– Не может быть, мама! Или мы о разных людях говорим?! Иван, высокий такой, с бородкой, блаженный, словно Иисус.
– Замолчи! Был голос, приятный, светлый, как у Христа, и руки, как будто из горячего воска, мягкие, нежные, как у нашего дьякона. Но все это теперь прах, который рядом с твоим Юрой покоится. Пятый год идет, как похоронен.
Вера не выдержала ее слов и, недопив кофе, поднялась из-за стола. Глаза ее вспыхнули, округлились. То ли от слов матушки, то ли от «колдовской» одежды, руки потянулись к сигаретам.
– Ничего не понимаю, – прошептала она, войдя в спальню. – Может, это совпадение?! Мало ли Иванов…
– Мама! – она опять вошла в столовую. – А наколки на правой руке у него были?
– Ну да. В виде перстня – он их, вероятно, в зоне нажил.
– Значит это он, – Вера вновь вошла в спальню и стала быстро одеваться.
– Ты куда?! – мать всплеснула руками, не зная, как помочь дочери.
– На кладбище. Хочу сама во всем убедиться.
У нас, в северной России, кладбище всегда рядом, всегда по возможности на сухом месте, а если на сыром, то от безысходности, потому как прижились не к сухим, а к сырым землям. Новгородцы, все глубже переселяясь на север, искали прежде всего пушнину, птицу, рыбу, лес, растительную пищу, а на сырых равнинах располагались эти земли или на сухих песчаниках – не главное. Поэтому некоторые деревни оказались в таких болотинах, в таких непролазных топях-косоражинах, что можно диву дивиться. Вот уж точно, там Макар телят не пасет, но зато и куница, и лось, и медведь прямо в дом идут. Зверь любит тишину леса, озер, да прелые, как топленое молоко, таежные болотины. А погост всегда рядом, и люди посещают его, как в больших городах театры, музеи, библиотеки. И в каждое время суток он имеет свою декорацию, свое освещение, своих посетителей. Днем на кладбище приходят в основном старушки и старики, молодежь – реже, прилетают вороны, сороки, сойки, синички поклевать кутью и оставленную на могилах закуску. Вечером и ночью его посещают волки, лисы, совы и разбойники. Служба на таких кладбищах ведется очень редко, да и не всегда есть церковь, но зато каждый житель поселка или деревни знает, кто где похоронен, и о мертвых говорят как о живых, с любовью, со вниманием или с неистребимой ненавистью. «Колька-то Дроздов три бутылки водки за раз может выпить и на работу как огурчик бежит». А Колька Дроздов двадцать лет уже на кладбище. Или: «Англичане малых ребят тушенкой угощали да шоколадом, заморское лакомство, вкуснятина». А те в этих местах были сто лет назад. Или вот еще: «Ты из Новгорода?» «Да нет, я из Великого Устюга». А приехали эти собеседники на Беломорскую землю четыреста лет назад.
Стоял воскресный солнечный день, и на кладбище собрались люди. Вера многих знала. Но каково было ее удивление, когда три нарядные незнакомые женщины с цветами и один мужчина в яркой белоснежной ветровке подошли к той же могиле, которую разыскивала Вера, сняли головные уборы и положили на могилу цветы.
– И ты сюда пришла, Вера? Не успела приехать, и сразу к нему? – сказала одна из женщин, узнав Веру.
Вера ничего не ответила, ступая прямо по весенней грязи, разлившейся теплым днем, робко подошла к могиле без оградки и оцепенела. Над могилой возвышался деревянный крест с маленькой черно-белой фотографией, прибитой к сосновому брусу, а под ним была надпись «Кузнецов Иван Петрович». И дата смерти. Веру сразу затошнило, тело ее покачнулось, ноги подкосились, и перед глазами, словно на каруселях, поплыли церковь, кресты, часовня, черемуха над могилой, и она потеряла сознание. Очнулась через несколько минут. Мужчина в белоснежной ветровке, засучив рукава, делал ей искусственное дыхание и приговаривал: «Ничего, ничего, девушка, все пройдет, все перемелется, я по твоему телу вижу, что ты пропиталась солнцем Ивана Петровича, а это знак святого русского духа, и русской крепости тебе не занимать».
Вера хотела подняться, но после слов мужчины глянула на кожу своих рук, которая буквально светилась, и опять потеряла сознание.
Очнулась она в своей спальне на деревянной кровати, сделанной ее прадедом, монахом Соловецкого монастыря плотником Никодимом. Кровать сосновая, сильно скрипела, и, как только Вера подняла голову, в комнату вошла мать.
– Верушка, наконец-то! Слава тебе, Господи, очнулась. За фельдшером поскакали уже, да в пути, видно, застряли… Весна на дворе, разливы.
– Мама, ты мне сказала все как есть. Иван и в самом деле давно покойник. – Вера приподнялась с постели, раздвинула занавески окна, которое находилось над головой, и опять уткнулась в подушку. – Значит я всю ночь была с призрачным Иваном? – сквозь слезы сказала она. – Такого со мной еще не случалось. Интересно, кого я рожу, если рожать надумаю, дьявола или еще кого? Может, я теперь не в курсе вашего криминала. Может, такое здесь бывает?
– Только во сне, – строго ответила мать и перекрестилась. – Иван пять лет как скончался. Царство ему небесное.
– Вот что, мамочка. Никаких фельдшеров, никаких врачей. Не надо. Прошу тебя, не надо.
– Почему?
– Как бы тебе объяснить. Мне стыдно перед ними. Я в шоке.
– Чего стыдно?
– Картинок. И ноги у меня синие от его рук.
– Каких картинок? От чьих рук?
– От рук усопшего. – Вера еле сдерживала слезы. – Прости меня, мамочка, у меня все интимные места картинками исколоты, похожими на порнографию.
Марья Лиственница растерянно всплеснула руками, задумалась.
– Горе мое упущенное. Сейчас по телевизору каких только картинок не насмотришься. А ноги, может быть, от коня синие. Оперативник сказал, что на таком коне, как у нас, можно и мозоли натереть…
– Какой оперативник?
– Который привез тебя на «Жигулях». Он удостоверение показал. Хотел на машине съездить за фельдшером, да я его отговорила. В такую распуту туда только на лошади доберешься.
– Мамочка. Никаких оперативников мне не надо. Я их как черт ладана боюсь! Тем более с фельдшером, который наверняка за наркотой гоняется.
– Ну и что?!
– Ничего. В пределах разумного это стиль моей новой жизни.
– Как это понять?
– Как хочешь понимай, только никаких оперативников в дом не приводи. Тем более фельдшеров с образованием тысяча девятьсот лохматого года.
– А ты откуда знаешь?
– Я ее в белом халатике и в белых тапках видела, когда на рабочем поезде мимо ее дома проезжала. Крыса старорежимная. – Вера опять глянула на свои золотистые руки, хотела снять с себя рубашку, но почему-то передумала. Металлические нитки придавали безрукавке богатый вид, и пахла она отменно. – Мамочка, что-то знобит меня после бессонной ночи.
– Градусник принести?
– Постой.
– Что, Верушка?
– Подойди ко мне.
– Ну что, гулена моя?..
– Наклонись и протяни мне свои костлявые ладошки. Ох, как мне плохо без них! Ох, как тяжело. Помнишь, как ты шлепала меня, когда я в соседнем саду клубнику воровала? Они у тебя горячие, даже жгучие. С ними я всегда знала, что хорошо, что плохо. А теперь.
– Что теперь?
– Теперь у меня одно искусство на уме…
Марья Лиственница суетливо и как-то растерянно подошла к дочери, чуть наклонила голову, и та крепко ухватилась за нее, словно за спасительную лодку, и вдруг громко завсхлипывала.
– Дорогая моя мамочка, как ты непохожа на моих московских «мамочек», сделавших из меня человекоподобную куклу. Прости меня, за все прости. Я виновата перед тобой. И перед папкой виновата, и перед бабушкой, и перед дедушкой, который меня даже видеть не хочет… Милая моя, драгоценная мамочка, я по-прежнему люблю тебя и сделаю все, чтобы ты с папкой не жила в бедности и была счастлива со мной. – Вера прижалась к матери обессиленными и какими-то еще совсем детскими руками, и та обняла ее и не отпускала до тех пор, пока не обратила внимания на золотисто-светлую кожу дочери.
– Верочка, ты горишь вся, словно в лихорадке, – тихо сказала она и тоже прослезилась. – У тебя лицо светится, как фонарь. Доктор необходим.
– Мама, еще раз повторяю: никаких докторов, никаких оперов. Пусть будет все как есть. Принеси мне стакан водки и соленый огурец. Я выпью и, может, усну. А там что Бог даст.
– Сейчас, сейчас. А фельдшеру что сказать, когда приедет?