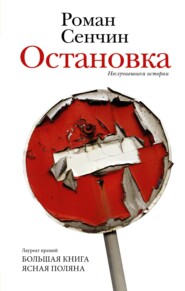скачать книгу бесплатно
Колька смотрел в мутное, маленькое оконце. Морщился и поводил плечами, как бы выбирая подходящий вариант. Выбрал:
– Туда. В армию обратно.
– Не понял.
– Что? Контракт заключу. Нас уговаривали, но никто не повёлся – домой сильно хотели. А что тут? Картошку тяпать и потом ее есть, чтоб весной посадить и снова тяпать? Жил бы в городе, там хоть какие-нибудь варианты, а тут…
– Да ну, Колян, какая армия? – Илья испугался, точно забирали его самого. – Ты же ее ненавидел.
– Ну и дурак… Нормально там. Одет, сыт, да и делать ничего не надо особого. Не картошку тяпать, мошку кормить.
– А родители в курсе?
Колька покривился. Ответил с усилием:
– Нет пока.
– Они офигеют. Они ведь сами тебя прятали, а теперь…
– А что они?.. Что могут предложить? – Колька стал злиться. То ли на Илью, то ли на родителей, а может, на себя самого.
– А почему они должны предлагать? Ты колледж закончил, диплом есть…
– И куда я с ним?
– На стройку.
– Ага, ждут меня там… Я узнавал, – другим уже голосом, упавшим, продолжил Колька. – Там киргизы одни. Не нужны мы. Нет вакансий… Короче, уйду на контракт – двадцатка в месяц плюс жратва, жилье, одежда.
– Обмундирование, – едко поправил Илья, надеясь этим бездушно-казенным словом изменить его решение. Да и не верил, впрочем, что это решение. Скорее всего, депрессуха после года в казарме. Говорят, она часто случается: едешь из армии и чувствуешь себя королем жизни, весь мир у твоих ног, а на самом деле ты песчинка и куда-то надо прибиваться, чтоб не утащило в открытое море.
6
Колька не предложил погулять, пивка выпить, и Илья об этом не заикнулся. На самом деле, не хотелось. А хотелось спать. Уснуть надолго, встать другим. Сильным, бодрым, знающим, как жить дальше…
Проспал до девяти – в первые дни здесь спалось всегда глубоко и сладко; родители наверняка давно уехали, сестры в доме не было. Побродил по комнатам, посидел на кухне перед столом, на котором что-то ждало его, прикрытое полотенцем. Так всегда делала сначала мама, когда кто-нибудь не приходил на завтрак, обед или ужин, а потом эту привычку переняла Настя. Она теперь в основном готовила. Вкусно готовила, и даже из мясной обрези могла сделать отличное жаркое или рагу. Или как это там называется.
Сидел, прислушивался к себе, как к постороннему. Нет, сильным и бодрым не стал. Решение не появилось. Вернее, знание… Да, для решения нужно знание. Без него любое решение будет ошибкой.
Есть не хотелось. Надел треники, вышел во двор. Запрыгал на задних лапах, радуясь, Пират. Его лет пять назад завели вместо умершего Трезора. А до этого был Буран. До Бурана, кажется, Топаз…
Прошел мимо. Пират опустился на все четыре лапы. Наверно, обиделся… Через хоздвор – на огород. Да, сестра там. Конечно, полет грядки. Летом, каждое лето, это главное занятие – полоть. Рвать, рвать, рвать траву…
– Насть, ты собаку кормила? – крикнул, чтоб показать, что проснулся, включился в хозяйственные заботы.
Сестра поднялась с корточек – полола, слава богу, не как большинство, кверху задом, а присев, – кивнула:
– Да… Доброе утро!
– Доброе… А куриц?
– И куриц. Иди сам поешь. Там оладьи на столе, варенье. Молоко в холодильнике.
– Спасибо.
Медленно, натужно втягивался в ту жизнь, что была когда-то привычной, естественной. Никакой другой он и не знал. Но теперь за четыре с лишним месяца отвыкал, и она казалась не то чтобы тяжелой, а неправильной, что ли, устаревшей. Цивилизация давно ушла вперед, а такие вот островки остались.
Нет, не так. Совсем не так. Их поселок был новой цивилизацией – коттеджи и многоэтажки, центральное отопление. Участки земли воспринимались не как источник пропитания, а… Как там англичане, американцы называют? – газоны, лужайки. Вот именно. Земля под мягкую красивую травку, а не под картошку. Но жизнь повернула так, что эти сотки – гарантия не умереть с голоду. Редиска, огурцы, морковка. Помидоры и перцы в тепличках. И картошка, картошка. Вареная картошка с молоком, с редиской и редькой в сметане, жареная, печеная, тушеная, пюре…
Илья застал время, когда родители держали свиней, кроликов, но потом с кормами стало туго – местная ферма закрылась, покупать комбикорм, зерно стало негде. Нет, его продают на окраине города, но по таким ценам, что кормить ими скотину – в убыток. А на траве и морковке даже кролики не протянут… Есть у них теперь десяток кур, и те вечно полуголодные – овес или пшеничные отруби сыплют им буквально по две-три горсти утром и вечером, остальное – трава, иногда недоеденное собакой, муравьиные яйца из обнаруженных на огороде муравейников…
Илья жевал оладьи, запивал голубоватым, со снятыми сливками, молоком, вспоминал, готовился к двум месяцам полузабытой и на самом-то деле чуждой ему теперь жизни. Боялся, что не выдержит и скажет: «Не могу. Всё». И этим убьет последние силы родителей.
Но пошли дни, и мышцы постепенно привыкали к физическому труду, кожа – к укусам, руки – к крапиве и иглам осота, мозг – к однообразной работе. Да и удачи родителей на рынке помогали. В первую поездку заработали пусть не шесть тысяч, как планировал папа, но почти четыре, во вторую – снова повезли в основном землянику – три семьсот. Пошла жимолость, потом черника, «виктория» на огороде. Постепенно созревала клубника на увалах.
– Ничего, соберем, – бодрился отец, глядя, как мама кладет в конверт очередные тысячные бумажки. – Там брусника будет, грибы, ковыль… – Смотрел на Илью просящим поддержки взглядом, и Илья кивал, тоже бодро отзывался:
– Да, получится.
Уверенности, что всё у них тут прочно и надежно, добавляли известия из большого мира: в Иркутской области наводнения, есть погибшие, сотни домов разрушены, в Баренцевом море сгорела подводная лодка, в Киеве обстреляли здание телеканала, в Швеции упал самолет, в Африке вспышка вируса Эбола, много умерших… Погудины ужинали под программу «Время» и сочувствовали…
С Валей Илья встречался редко. У нее тоже хватало дел, да и не рвался он встречаться – не знал, как перешагнуть ту грань, что отделяет до сих пор полудетскую их дружбу от взрослых отношений. Понимал, пора перешагнуть, и не мог. А может, и не хотел. Не признавался в этом себе, даже мысли не допускал, что не хочет, но где-то там, в самой глубине того, что называют душой, тлело: «Не надо, ведь тогда придется навсегда с ней, а иначе станешь предателем».
Злился на себя, гасил это тление: «Валя – моя, и мы с ней навсегда вместе. Мы с ней – вместе. – Но тут же добавлял: – Просто сейчас не время. Доучусь, получу диплом, устроюсь работать. Тогда». Да, вот тогда и можно начинать взрослые отношения.
И в то же время очень хотелось Валю. Или вообще девушку, женщину. В двадцать лет оставаться девственником, тихим инцелом было – кроме всего прочего – стыдно. Тем более ему казалось, что все это видят. И он несколько раз объявлял в компаниях, что на родине у него невеста… Но невеста ли?
В прошлый приезд был уверен – да. Когда ехал сюда, тоже. А теперь… Теперь сомневался. Не хотел, запрещал себе, но – сомневался.
Оставшиеся в Кобальтогорске одноклассники, приятели не заходили. Не звали посидеть в единственной кафешке или просто на природе. Колька тоже не показывался. И Илья никуда не ходил. Лишь с Валей гулял, да и то раз-два в неделю. Заставлял себя. И во время прогулок тяготился ее молчанием, не знал, что сказать. Когда обнимал и целовал, она не сопротивлялась, но почти не отвечала губами, руками. И желание пропадало…
Как-то в свободный вечер решил перебрать скопившиеся еще со школы бумаги в ящиках письменного стола.
Стол был большой, основательный. Когда-то стоял в управлении комбината, но во время разорения дед, с разрешения уходящего начальства, его забрал. Сначала сам за ним сидел, а потом передал ему, Илье. Своего рода подарок на начало школьной жизни. И уроки за этим столом хорошо делались.
В ящиках было много всего. Школьные дневники с оценками, редкими замечаниями учителей, тетради, отдельные листочки с контрольными и диктантами, рисунки, журналы про историю и географию… А вот несколько соединенных веревочкой ватманов – доклад семиклассника Ильи Погудина «Мой родной Кобальтогорск». Имя и фамилия написаны синим фломастером, название – красным. Под названием распечатанная на цветном принтере фотография – панорама их поселка.
Илья перевернул лист и стал читать, иногда буксуя на самому себе непонятных и неясным почерком написанных словах, – учительница географии всегда требовала, чтобы доклады были от руки, а не набранные на компьютере:
«Кобальтогорск – поселок металлургов и горняков. Основан в 1953 г., чуть севернее реки Огнёвки, в красивом месте у подножья гор. Местный металлургический комбинат в советское время был главной достопримечательностью и гордостью области. В этом образцовом социалистическом поселке имелись больница на 125 коек, профилакторий, трехэтажная школа, Дворец культуры металлургов, Дом быта, современный по тому времени универсам, спортивная и музыкальная школы.
История основания Кобальтогорска очень интересна. В 1913 г. пастухи из рода Кыргысов в своем кочевье в предгорье Ханского хребта нашли разноцветные камни, которые служили игрушками для их детей, а потом внуков. Лишь в 1947 г. пастухам представилась возможность показать свои находки знатокам подземных богатств – геологам. Камни оказались кобальтовыми минералами. С этого времени началась разведка месторождения. Люди работали с большим энтузиазмом: удача сопутствовала им – открывались все новые залежи богатых руд кобальта, никеля и меди.
Пастухи вместе с группой геологов были удостоены за свою находку Сталинской премии. Деньги они отдали на строительство школы.
Сюда потянулись люди с разных концов страны. В 1953 г. началось строительство поселка для разведчиков недр. Сперва соорудили землянки. Так зародили “Копай-город”, служивший в то время временным жильем».
Илья усмехнулся. Помнится, почти всё он слизал из интернета, энциклопедии, но вот кое-что пытался написать сам.
«Кобальтогорское месторождение известно людям уже давно. Еще в эпоху бронзы здесь добывали медь. Наши руды оказались уникальными и по составу, и по содержанию металлов – кобальта, мышьяка и др. По содержанию кобальта это месторождение в десятки раз богаче известных отечественных кобальто-никельных месторождений, а по разнообразию минералов оно представляет собой “естественный геологический музей”. В нем насчитывается около 59 рудных минералов. Впервые обнаружено 2 ранее не известных минерала кобальта.
Разведка указала на большое месторождение, выходящее прямо на поверхность и простирающееся вглубь на 300–400 м».
– Простираться вглубь, – повторил Илья, чувствуя, что щеки зажгло от стыда. – Да ладно, сколько мне было тогда… Лет двенадцать.
«Первенец цветной металлургии области – наш комбинат – вступил в строй в июне 1970 г. Возникла трудность – недостаток специалистов. Из утвержденного перечня комбинату незадолго перед пуском не хватало больше половины профессионалов.
И тогда вся стройка превратилась в своеобразный учебный комбинат. После работы строители шли на курсы, которые находились прямо в общежитиях, постигали азы кобальтового производства».
Да, дед как раз из таких – кто днем строил комбинат, а вечерами учился на нем работать…
«В 1990 г. в связи с общим политическим и экономическим кризисом, повлекшим за собой распад СССР, производство на комбинате было остановлено. Сегодня принимаются меры по его возрождению, разработаны новые технологии, позволяющие получать из руд месторождения соли и металлические порошки кобальта. Второго подобного месторождение на Земле еще не найдено, лишь руды Бу-Аззера (Марокко) по своему характеру близки к нашим. Уникальность месторождения диктовала особые способы добычи и переработки руд».
Илья решил, что это конец доклада, хотел было убрать обратно в стол, но заметил, что два листа слиплись. От долгого лежания, что ли. Осторожно отделил, обнаружил там «Заключение».
Оно было написано иначе, чем предыдущий текст – как-то официально, совсем по-взрослому. Папа, что ли, помогал?
«Проведенная мною исследовательская работа показала, что несмотря на то, что наш Кобальтогорск когда-то процветал, на сегодняшний день существуют несколько проблем в его развитии – восстановление комбината, нехватка врачей узкой специализации, нехватка учителей. Без помощи государства наш поселок не сможет решить эти проблемы. Они ведь проблемы не только Кобальтогорска, но и всей страны. А историю поселка нам обязательно надо знать и помнить, для того чтобы не исчезло бесследно прошлое, чтобы наше подрастающее поколение знало свою культуру, традиции, обычаи, свое прошлое. Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории. И буду надеяться на светлое и прогрессивное будущее моей малой Родины – Кобальтогорска».
Илья вышел во двор, забрался на верх прислоненной к чердачной дверце лестницы и долго смот-рел на бетонный прямоугольник на склоне горы – то, что осталось от их комбината. Он знал его только таким. В виде руин.
7
Товара становилось всё больше, и вот родители взяли с собой Настю. Не для того даже, чтоб обязательно стояла на рынке, а просто побыла в городе.
– Одичала девчонка что-то, – сказал папа, когда ее не было рядом. – Ни за ограду, никуда…
«Ну а куда тут», – чуть не вырвалось у Ильи; вовремя прикусил язык. Кивнул сочувствующе.
Но, может, и еще была причина, почему повезли Настю, – мама раза два спрашивала Илью, как Валя. Илья буркал: «Так». Вот решили оставить дом в его распоряжении…
Он догадался об этом, только когда закрыл ворота за Филкой. Постоял, держась за щеколду. Вспыхнуло желание сейчас же пойти за Валей, привести сюда. Сначала остановило то, что слишком рано – восьми нет, – а потом вернулось сомнение: надо ли, не совершит ли он ошибки…
И весь день, то слоняясь по двору, то играя с собакой, то пытаясь расколоть комлистые или сучковатые березовые поленья, то скашивая крапиву вдоль забора, он боролся с желанием. Желал пойти и боролся. Представлял, как это будет… Он, конечно, заглядывал на порно-сайты, испытывая любопытство и отвращение, и там часто было страстно, девушки сами срывали с мужчин майки, нападали, бились и стонали. С Валей наверняка не так. Даст раздеть себя, позволит делать все, что ему хочется. Потому что верит ему. Но сама не поможет. Ни сегодня, ни через год. Никогда… Как говорят про некоторых парни: «Бревно». Может, она не такая, но сейчас ему хотелось себя в этом уверить. Защититься этим…
Родители и Настя вернулись довольные – заработали почти пять тысяч.
– Ну куда с добром, – повторяла мама, – куда с добром.
– А ты чего такой кислый? – заметил папа.
Илья ощутил, что лицо его обмякшее и насупленное. Улыбнулся, подтянулся:
– Да нет, нормально. Устал немного.
Мама понимающе-одобрительно кивнула.
– Забор обкосил, – добавил Илья, – у малины сухие будылья срезал. Там уже ягодки наливаются…
– У! Значит, и таежная вот-вот пойдет.
– Завтра-то куда едем?
– Жимолость брать. Видел же, сколько ее. Такой момент упускать нельзя.
Да, жимолости было много – все кусты синие. И это Илью, конечно, радовало, и в то же время хотелось, чтоб было меньше. Когда часами стоишь на одном месте и берешь, берешь – крыша начинает ехать. Не в психическом даже смысле, а в самом прямом. Теряешь равновесие, словно подлетаешь и опускаешься, но опускаешься не на твердую почву или камень, а как в подушку, в гамак какой-то. И хватаешься за ветки, чтоб не упасть.
Подростком можно было часто отдыхать, переходить от куста к кусту, оправдываясь тем, что решил найти место поряснее, а теперь – нет. Теперь не схитришь. Теперь стой и сдергивай сизовато-голубые ягоды. Ведь собираешь ты для себя – для своей учебы. Не ты помогаешь родителям, а они тебе…
Дни сливались в один. Конечно, было разнообразие, много всяческих дел, но график жесткий: вчера сбор ягоды, черемши, грибов, сегодня поездка на рынок, завтра – сбор, послезавтра – поездка. Между этими делами полив огорода, прополка, еда…
Пару раз Илья был с папой у бабы Оли. Она встретила их без радости, почти неприветливо. Наблюдала, как они заносят пластиковые пятилитровые бутыли с водой. Ни отопление, ни водопровод с канализацией в их четырехэтажке так и не восстановили. На все жалобы приходили ответы, что пока нет средств, и следом – предложения переселяться в пустующие ведомственные коттеджи. Некоторые переселились, но баба Оля упорно держалась за некогда благоустроенную квартиру. Посуду мыла в тазике, нужду справляла в ведро с крышкой и выносила в вырытую во дворе выгребную яму. Но в квартире стоял запах сортира.
– Ты всё учишься? – спросила у Ильи подозрительно и строго.
– Конечно!
Каждые полгода перед его отъездом она давала ему пятнадцать-двадцать тысяч. Стоило надеяться, даст и теперь. Поэтому Илья ответил так молодцевато.
– Давай, – кивнула баба Оля. – Учись.
– Мам, может, придешь, – сказал папа просящим голосом, – в бане хоть помоешься?
– Зачем мне баня? У меня ванна есть.
– Но ведь…
Она перебила:
– Всё хорошо. Нагреваю, наливаю и моюсь.
– А потом? Спускать ведь запрещено…
– Вычерпываю и выношу.
Илья почувствовал, что у него заслезились глаза. Нет, не от жалости к бабушке, а от досады. Но не на нее, а на другое. На такую жизнь, что ли… А папа вздохнул – тихо и бессильно.
Илье не хотелось здесь находиться. Было больно. Квартира и весь этот большой, с двумя подъездами дом подтверждали его мысль об отступлении цивилизации. Лопнувшие, словно сверхмощным ножом располосованные батареи-гармошки, разодранные, как от взрывов, трубы, сухой унитаз, приспособленный под склад старых тряпок и губок сливной бачок.
Из такого городского жилища хотелось скорее уйти, вернуться к земле, к первобытности. Уж лучше так…
С родителями на рынок Илья не просился. Оправдывался перед собой тем, что отдыхает от огромного города, рядом с которым учился. А на самом деле знал – там, среди многоэтажек, сотен автомобилей, всей этой многолюдности и суеты тоска навалится всей своей душащей, колющей тяжестью.
Утром или перед сном открывал интернет – тот грузился медленно, натужно, – смотрел профили однокурсников, приятелей в фейсбуке, и становилось тошно. Может, завидовал, что почти все они отдыхают на море или на дачах, а некоторые и за границей – вот Наташка Лучанкина вовсе в Америке на родео, – а может, и другое какое-то чувство выворачивало душу.
Иногда он был уверен, что все они живут неправильно, преступно пусто, в отличие от него. Он занимается делом, полезным, важным, а они – паразиты. Вспоминался эпизод из какой-то книги – как шахтеры идут на смену. Крепко ступают по земле, руки в карманах, спины слегка согнуты. И с ухмылками поглядывают на окна зажиточных, которых обогреет их уголь. «Без нас вы замерзнете, вы не сможете вскипятить воды», – думают шахтеры, ощущая себя чуть ли не господами тех, кто считает их полурабами.
И Илья вбивал в себя убежденность: мы собираем эту землянику, жимолость, черемшу, клубнику, грибы, рвем ковыль не столько для того, чтобы заработать мне на очередной семестр, а чтобы вы жрали что-то кроме сосисок и макарон, белили стены не пластмассой, а тем, что создала для этого сама природа.