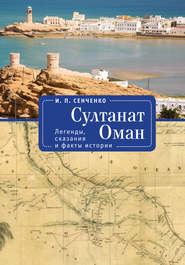скачать книгу бесплатно
Богатый материал об истории Омана, обычаях и традициях его народа, в том числе о нравах жителей Внутреннего Омана, собрал и опубликовал в книге «Страны и племена Персидского залива» (1919) полковник Сэмюэл Баррет Майлс (1838–1914), прослуживший 14 лет британским политическим агентом и консулом в Маскате (1872–1886). Исполнял также по совместительству обязанности британского политического резидента в Персидском заливе, генерального консула в Багдаде (с 1879 г.), политического агента и генерального консула на Занзибаре (с 1881 г.).
Из биографии Сэмюэла Майлса известно, что, будучи сыном генерал-майора, он решил пойти по стопам отца. И в 1857 г., во время прогремевшего на весь мир восстания сипаев, поступил на военную службу в Ост-Индскую компанию, прапорщиком в 7-ой батальон Бомбейского полка пехоты. За девять лет дослужился до командира батальона (1864). В ноябре 1866 г. вместе со своим батальоном был переброшен в Аден, где впервые и ступил на землю Аравии. По прошествии 12 месяцев занял должность помощника политического резидента. Оставался в Адене до марта 1869 г.
За время нахождения на посту британского политического агента и консула в Маскате выучил арабский язык. Много путешествовал по стране. В сентябре 1874 г. на судне «Philomel» посетил Эль-Ашхар (для проведения разборки одного «пиратского дела», как отмечал в своем дневнике) и Калхат. В январе 1875 г. побывал в Сухаре, а затем и в оазисе Эль-Бурайми. В 1876 г. познакомился с обитателями Джабаль-эль-Ахдар и взошел на вершину этой горы. Ярко описал жилища местных жителей, термальные источники. Будучи в Эль-Аваби, видел, как женщины использовали хну и шафран «для наведения красоты» – окраски волос и росписи кистей рук и ступней ног. В конце 1884 г. на судне «Dragon» хаживал на острова Куриа-Муриа и в Дофар. Наведывался в Мирбат, древнюю столицу «ладаноносной земли». В 1885 г. предпринял путешествие по землям Внутреннего Омана. Дошел до границ великой аравийской пустыни Руб-эль-Хали.
После окончания службы в Аравии (1886) возвратился в Индию, где в 1887 г. получил звание полковника. Женился на Эллен Мари, старшей дочери сэра Брука Кея, и был назначен политическим резидентом в Мевар (раджпутское княжество на юге Раджастана). Прослужив в Индии до 1893 г., возвратился в Англию. Умер 28 августа 1914 г.
Когда он прибыл в Маскат, рассказывает С. Майлс, то властвовал в Омане сеййид Турки ибн Са’ид (правил 1871–1888), подавивший при поддержке англичан мятеж, поднятый ‘Аззаном ибн Кайсом. Во владениях этого шейха вино и табак находились под строжайшим запретом. Оманцы должны были посещать мечети в строго установленное для молитв время и тщательно следить за своими усами и борадами. Ранние годы правления сеййида Турки, сообщает С. Майлс, ознаменовались острыми междоусобицами племенных объединений гафири и хинави, а также набегами племен Внутреннего Омана и ваххабитов на Маскат и другие города на Оманском побережье. Поездки С. Майлса по стране и собираемая им информация о положении дел в Омане имели чрезвычайно важное значение для английских колониальных властей в Индии, дабы должным образом и своевременно реагировать на все происходившее как в самом Омане, так и в его доминионах.
С. Майлс оставил интересные заметки о заттах, оманских циганах, и о байасирах, как коренные жители называли потомков персов-завоевателей и детей от связей мужчин-оманцев с африканками-наложницами, «расах презренных» в словаре оманцев.
О заттах пишет, что, широко расселившись по землям Аравии, от Маската до Месопотамии, они образовали несколько многочисленных коммун в Омане. Держались обособленно, и в брачные отношения ни с кем, кроме собственных кланов, не вступали. На арабов взирали свысока, как на расу, стоящую ниже них. Среди оманцев, вместе с тем, пользовались уважением, ибо были «людьми рукастыми». Слыли умелыми ремесленниками: кузнецами, жестянщиками, плотниками и ткачами, а также отменными ветеренарами и маститыми цирюльниками – брадобреями и «стригунами» усов. Большая часть этой сферы деятельности в Омане находилась в их руках. Разговаривали они между собой на трудно понятном для оманцев диалекте, замечает С. Майлс, представлявшем собой смесь индийского, арабского и персидского языков. Стилем жизни, манерами и поведением походили на циган Европы[42 - S. B. Miles, On the Route between Sohar and el-Bereymi in Oman, with a note on the Zatt, or gipsies in Arabia, Journal of the Asiatic Siciety of Bengal, 46 (1877), p. 57-59.].
Слово «затт», объясняет С. Майлс, происходит, от индийского слова «джатт», которым в Аравии индусы именовыли коммуны своих соотечественников. В Омане словом «затт» зачастую окликали и всх тех, кто плохо говорил по-арабски.
Что касается байасиров, то С. Майлс характеризует их, как людей миролюбивых, трудолюбивых и прилежных. Были среди них и лица состоятельные, говорит он. Но никто из них никаких административных постов в Омане не занимал. Оманцы относились к байасирам крайне настороженно, и никому из них ни в чем не доверяли. Когда байсар (множествнное число – байасир) встречал на пути арабского шейха, то приветствуя его, непременно целовал ему руку. Однако, прежде чем сделать это, то есть приблизиться к шейху и приложиться губами к его руке, непременно должен был сбрость с ног сандалии. И разуться как можно дальше от шейха. Все это, согласно бытовавшему тогда обычаю, указывало на то, что он среди оманцев – никто, и звать его никак[43 - S. B. Miles, Across the Green Mountain of Oman, Geographical Journal, 18 (1901), p. 468.].
Известный востоковед-исследователь Уилкинсон, в своей работе, посвященной родоплеменным кланам Омана, рассказывает, что поскольку предки оманских байасиров, пленные воины-персы, были мусульманами, то рабами, в полном понимании этого слова, не стали. Жили обособленно, на окраинах городов, в населенных только ими кварталах. Ал-Хамадани, сообщает Уилкинсон, повествуя о байасирах Омана, относил к ним и жителей Райсута, портового города в Дофаре. Считал их ранними поселенцами тех мест, отодвинувшимися в Дофар из Хадрамаута еще до прихода туда ‘аздов, которые их не признали и не приняли[44 - J. C. Wilkinson, Bayasirah and Bayadir, Arabian Studies, 1 (1974), p. 75-85.].
Крупная коммуна байасиров-персов, по словам С. Майлса, проживала в местечке Эль-Шерайджи, что в окрестностях Джабаль Ахдар. Со временем персов-дейлемитов, вторгшихся в X в. в Оман и захвативших Джабаль Ахдар, оттуда изгнали. Но вот некоторые из них Оман не покинули, остались в Эль-Шерайдже, и стали называть ее Малым Ширазом.
Доминировало среди племен в районе Джабаль Ахдар племя бану риам. Поглотило оно и население Эль-Шерайджи, превратившееся в одно из колен этого племени. Персы, которые довольно долго удерживали за собой отдельные части Омана, сообщает С. Майлс, ассимилировались с арабами, переняли у них язык, одежду и привычки. Но жили отдельными коммунами и брачные союзы с арабами заключали крайне редко. Оманцы считали их «расой испорченной». Те из них, кто остался в Эль-Шерайдже, с гор в долины никогда не спускались. Занимались в основном сельским хозяйством. Именно они, со слов С. Майлса, стали выращивать на оманской земле многие персидские фрукты: гранаты, виноград, грецкие орехи, персики и миндаль[45 - S. B. Miles, Across the Green Mountain of Oman, Geographical Journal, 18 (1901), p. 484, 485.].
Повествуя о племенах Омана, С. Майлс отмечает, что все они принадлежали к двум крупным межплеменным конфедерациям: гафири (так именовали тех, кто мигрировал в Оман с севера Аравийского полуострова) и хинави (это название закрепилось за арабами-йеменитыми, теми, кто отодвинулся в Оман из Йемена). Рассказывает, что они постоянно враждовали друг с другом. Вместе с тем, когда над страной нависала угроза, то о междоусобицах своих они на время забывали, и объединялись, чтобы дать отпор врагу.
Упоминает С. Майлс и о существовавшем в Омане обычае хафир (смысл этого слова – «защитник», «стражник»). Суть данного обычая заключалось в том, что, передвигаясь по землям Омана, поделенным между племенами, чужестранцы, торговцы и путешественники, дабы избежать неожиданностей и неприятностей со стороны племен, места обитания которых они собирались пересечь, непременно должны были обзавестись хафиром (защитником), исполнявшим в то же самое время и роль проводника[46 - S. B. Miles, On the Route between Sohar and el-Bereymi in Oman, op. cit., p. 44.].
Поведал С. Майлс и о том, что в каждом из оманских сел непременно имелась сабла, то есть открытый со всех сторон помост с крышей из пальмовых листьев. Располагалась сабла в центре села и служила местом для ежедневных собраний старейшин семейно-родовых кланов. На этих собраниях, проходивших по вечерам, обсуждали то, что произошло в селе за день, все волновавшие сельчан вопросы и докатывавшиеся до них слухи и новости. Всем собиравшимся на встречу обязательно подавали кофе. А вот турецкие курительные трубки, популярные в тех частях Аравии, что прилегают к Месопотамии, хождения в Омане не имели[47 - S. B. Miles, Across the Green Mountain in Oman, op. cit., p. 471.].
Поделился С. Майлс и своими наблюдениями за тем, как обучали грамоте (счету и письму) оманскую детвору в одном небольшом местечке. Занятия проводили на открытом воздухе, под манговыми деревьями. «Учителями выступали старые муллы с розгами в руках». Ребятишки рассаживались прямо на земле, у ног своих «педагогов». В другом месте, где букве, цифирю и чтению по Корану учили тоже муллы, совместные занятия мальчишек и девчонок проходили при мечети. Поспешая по утрам в школу, детишки несли в руках мирфы, то есть деревянные подставки для Корана, и выкрашенные в белый цвет дощечки или верблюжьи лопатки, служившие им «тетрадками», на которых они, макая тростниковые палочки в миски с золой, учились письму[48 - Там же. С. 467, 471.].
Повествуя о рынках Омана, С. Майлс говорит, что посещал эти места, «людные и бойкие», в Маскате и Сумаиле, в Бахле и Сухаре, и во многих других городах. Но самое большое впечатление на него произвел все же рынок в Низве с его широко известными в Южной Аравии мастерскими медников, котельщиков и красильщиков. Там он наблюдал за работой изготовителей верблюжьих седел и оружейников, серебряных дел мастеров и сапожников, ткачей полотен для шатров, плотников и гончаров, кузнецов и каменотесов, вязальщиков циновок и рогожек, и «творцов», как их величали оманцы, национальных сладостей – халвы и патоки[49 - S. B. Miles, On the Border of the Great Desert: A Journey in Oman (part I), The Geographical Journal, vol. 36, № 2, Aug. 1910, p.159-178.].
Рассказывая о знаменитых оманских финиках, С. Майлс пишет, что вывозили их в Индию и в Османскую империю, и даже в Америку. На рынки Бостона и Нью-Йорка торговцы поставляли финики сорта «фард» («единственный», «неповторимый»), одного из лучших в Омане[50 - S. B. Miles, Across the Green Mountain in Oman, op. cit., p. 495.].
Упоминает С. Майлс и об изготовлении виноградного вина в Джабаль Ахдар, большими охотниками до которого были, по его словам, проживавшие в горах ассимилировавшиеся с арабами персы.
Уделил несколько слов С. Майлс в своих заметках и традиционному архитектурному стилю домов оманцев. Обратил внимание на входные резные деревянные двери и на окна, «не застекленные, но закрывавшиеся на ночь столь же искусно выполненными резными деревянными ставнями». Балконы домов, откуда женщины наблюдали за тем, что происходило на улицах, укрывали от взоров прохожих решетчатые деревянные конструкции. Потолки в жилищах горожане делали из бревен тикового дерева. Полы устилали коврами и циновками. И никакой мебели в комнатах – ни столов, ни стульев. Только мощные деревянные резные сундуки по углам для хранения ценных вещей, да широкие полки на стенах с расставленными на них кофейными принадлежностями и изделиями из китайского фарфора[51 - S. B. Miles, Journal of an excursion in Oman, in south-east Arabia, Geographical Journal, 7 (1896), p. 533.].
Высоко отзывался С. Майлс о гостеприимстве оманцев. В какой бы деревне он не бывал, везде его встречали и принимали как почетного и дорогого гостя – под выстрелы из ружей и бой барабанов. От околицы села и до жилища шейха сопровождали с песнями и танцами. Должный прием гостя, его безопасность и комфорт, подчеркивает С. Майлс, – непременные атрибуты оманского гостеприимства.
Холодно к нему отнеслись, замечает С. Майлс, только в Ибри, крупнейшем в Омане в его время «рынке ворованных вещей», где распродавалось все награбленное местными племенами в ходе их набегов на Эль-Батину. Город этот, сообщает с. Майлс, пользовался дурной славой не только среди чужеземных купцов и путешественников, но и среди самих оманцев. Жительствующие там племена славились разбоем. Каждый взрослый и дееспособный мужчина имел оружие, искусно владел мечом и кинжалом, был хорошо обучен военному делу и готов к тому, чтобы по первому же сигналу выступить в набег. Частенько и сам Ибри, свидетельствует С. Майлс, из-за скапливавшихся там богатств, изъятых у населения ограбленных городов и отобранных у торговых караванов, подвергался набегам со стороны ваххабитов, подчистую обиравших ибрийцев[52 - S. B. Miles, On the Border of the Great Desert: A Journey in Oman (part II), Geographical Journal, 36 (1910), p. 414.].
Интересным представляется и краткий обзор сведений об Аравии древних греков, приведенный Сэмюэлем Майлсом в его сочинении «Страны и племена Персидского залива». Первым из них, кто составил описание Аравии, отмечает С. Майлс, был Эратосфен (276–194 до н. э.), греческий астроном и географ, служивший в знаменитой библиотеке Александрии и там же скончавшийся. Он достаточно много рассказал о Древнем Йемене, уточняет С. Майлс, но ничего об Омане. И добавляет, что из числа племен-переселенцев с севера Аравии на юг, упомянутых Эратосфеном, только одно отметилось в Омане – племя бану хуза’а, расселившееся вплоть до Маската. Более расширенный объем информации о Южной Аравии, пишет С. Майлс, содержался в пятитомном сочинении Агатархида, античного автора II века, историка и географа, известного своими описаниями Персидского залива и Красного моря. Некоторое время он также жил и трудился в Египте. К сожалению, все его работы, за исключением нескольких фрагментов из них, как и труды Эратосфена, не сохранились. Из того немногого, что дошло до наших дней, следует, что уже в тогда коммуны торговцев-аравийцев имелись во всех сколько-нибудь крупных портах Индии.
С ростом египетской торговли, продолжает С. Майлс, знания древних греков об Аравии пополнились, но вот что касается Омана, то они по-прежнему оставались скудными. Клавдий Птолемей (ок. 100 – ок. 170), к примеру, позднеэллинский астроном, астролог и географ, дает уже довольно аккуратное описание Оманского побережья, но не приводит о нем никаких исторических сведений. «Перипл Эритрейского моря», написанный в 80 г. н. э., информирует мореходов о крупнейших портах на побережье Южной Аравии от Баб-эль-Мандебского пролива до мыса Фартак, что в Эль-Махре (Йемен), но ни слова не говорит ни об одном порте между Маскатом и Персидским заливом. Данные об Омане, которыми располагали древние греки, заключает С. Майлс, были мизерными. Ведали они только о том, что в землях Омана, где властвовали некогда парфяне, имелись благовония. Даже в трудах Клавдия Птолемея, замечает С. Майлс, мало что сказано об истории раннего Омана. Многие из тех городов на юго-восточном и восточном побережьях Аравийского полуострова, о которых он повествует, угасли и не дожили до наших дней. Городок Рабана Раджиа, к примеру, где располагался «дом власти» (резиденция шейха) ушедшего в предания и легенды племени бану раббан ибн хальван ибн мирван, крупной когда-то ветви племени бану хуза’а. Давным-давно оно мигрировало из Неджда через Йамаму в Оман, где часть его осела рядом с ‘аздами, арабами-йеменитами. Птолемей, делает вывод С. Майлс, сообщает об Омане лишь то, что край этот очень зависел от внешних ресурсов, особенно от продовольственных поставок из Индии и Месопотамии, и считался землями мореходов, вовлеченных в доставку ценных товаров с Востока через Персидский залив на Запад. Самих же оманцев Птолемей именует пионерами морской навигации в Индийском океане[53 - Colonel S. B. Miles. The Cuntries and the Tribes of the Persian Gulf, London, 1919, vol. I, p. 9-11.].
Интересные заметки о крупных портовых городах Омана, некоторых его внутренних районах и о шейхствах в землях Аш-Шамал (нынешних ОАЭ) оставил сэр Перси Захария Кокс (1864– 1937), британский политический агент в Маскате (с 1899 г.).
За годы своей службы в Омане он предпринял несколько экспедиций по стране. Так, в 1902 г. на судне прошел вдоль Оманского побережья от Маската до Абу-Даби. Шейх Заид ибн Халифа, тогдашний правитель Абу-Даби, прозванный в народе Заидом Великим, не только тепло и радушно принял его, но и обеспечил всем необходимым – продовольствием, верблюдами, проводниками и даже небольшим отрядом охраны – по пути из Абу-Даби в Эль-Бурайми, а оттуда – через Захиру – в Мазун и Ибри. Перси Кокс высоко отзывался о личных качествах шейха Заида, человека мудрого, щедрого и внимательного по отношению к соплеменникам, их горестям и нуждам.
Возник Абу-Даби в 1761 году. Толчком к его появлению на свет стал один эпизод, который произошел во время охоты шейха племени бану йас, Дийаба ибн ‘Исы из рода Аль Нахайан. Выдвинулись охотники из оазиса Лива. Приблизившись к побережью, обнаружили следы газелей, которые привели их к броду у лежавшего неподалеку острова. Перейдя брод и попав на остров, погнались за грациозной белой газелью, и оказались у источника с пресной водой, где собралось на водопой целое стадо животных. Остров шейху понравился. На нем имелось достаточно растительности для выпаса домашнего скота – верблюдов и овец. В память о газели, приведшей охотников на этот остров, шейх назвал его Абу-Даби, что в переводе с арабского языка значит «Отец газели» или «Земля газели». Вскоре там возвели дозорно-сторожевую башню (для охраны источника). Затем построили крепость, вокруг которой и возник со временем город. Так о «рождении Абу-Даби», сообщает сэр Перси Кокс, рассказывали ему бедуины-кочевники, ссылаясь на предания предков.
Что касается самого племени бану йас, то рождением своим, как повествуют своды «аравийской старины», оно обязано легендарному Йасу, сыну Амира ибн Сааса. Сказания гласят, что бедуин-кочевник Йас, воин и поэт, вырыл в оазисе Лива, одном из мест расселения племен Древней Аравии, первый там колодец. И в знак благодарности за содеянное им все семейно-родовые кланы, жительствовавшие в той округе, стали именовать себя йасами. Были они мужественными и бесстрашными. Совершали дерзкие набеги на обширные владения правителей Омана и на земли соседнего с ними Катара. В течение 5–6 дней воождь племени бану йас мог собрать под свое знамя до 20 тысяч воинов на верблюдах.
Делясь впечатлениями о бедуинах, обитавших в землях Аш-Шамал, будь то в Абу-Даби, Шардже или Ра’с-эль-Хайме, английские и русские дипломаты, обращали внимание на такую, «общую для всех них черту характера», как «сочетание решимости и мужества, чувства собственного достоинства и гордости за свой род и племя». Основополагающим правилом их повседневной жизни было строгое следование обычаям, традициям и заветам предков. Самым драгоценным в ней они считали свободу. Превыше всего ставили честь – семьи, рода и племени.
В том же 1902 г. сэр Перси Кокс побывал в Низве, и через оазис Тануф возвратился в Маскат. За время службы там хорошо изучил город и его окресности. Вспоминал, что на скальных отвесах в бухте Маската видел начертанные на них названия заходивших туда боевых кораблей, тех из них, кто особо запомнился населению.
В 1904 г. сэр Перси Кокс был назначен исполняющим обязанности английского политического резидента в Персидском заливе и генеральным консулом в персидских провинциях Фарс, Лурестан и Хузестан, а также в Линге. Перед тем, как покинуть Маскат, совершил еще одно путешествие в Эль-Бурайми. Проследовал туда через Ра’с-эль-Хайму. Согласно преданию, в начале XVIII столетия в районе одноименной столицы этого эмирата верховный шейх племенного союза ал-кавасим поставил огромный шатер, служивший неплохим ориентиром для мореходов Южной Аравии. Они-то и нарекли эти земли Ра’с-эль-Хаймой, что в переводе с арабского языка значит «Верхушка шатра». На территории Ра’с-эль-Хаймы располагался некогда именитый Джульфар, крупный центр морской торговли Древней Аравии. Легенды гласят, что город этот был связан с бухтой каналом, прорытым по приказу царицы Зенобии, правительницы блистательной Пальмиры, города-царства в землях Сирии. И все для того, чтобы корабли негоциантов могли подходить прямо к ступеням ее дворца в Джульфаре. В сказаниях местных жителей говорится о том, что Зенобия, или «владычица За’аба», как ее величали арабы Аравии, «воспротивившаяся могущественному Риму», имела в виду – в случае поражения в схватке с римлянами за Восток – «укрыться от их гнева» в далеком от них Джульфаре.
Увлекательные рассказы об Омане, в том числе о внутренних районах этой страны, а также об обычаях и традициях оманцев, содержатся в книгах («Счастливая Аравия», «Арабы») и научных статьях Бертрама Сиднея Томаса (1892–1950). На протяжении почти семи лет (1924–1931) он служил вазиром (премьер-министром) при султане Маската и Омана. Занимался изучением арабского языка. Также, как и Сэмюэл Майлс, много путешествовал по Оману и землям Аш-Шамал. В ряде случаев – совместно с правителем Омана. Пользовался уважением среди местных племен, ценивших «усердие и прилежание инглиза» в познании жизни и быта оманцев, истории их края, сказаний и преданий предков. Исследовал и описал побережье Эль-Батины. Побывал, пройдя через горы, в Шардже (в наше время этот эмират входит в состав ОАЭ). Оттуда, уже на судне, добрался до Сухара. В 1927 г. неоднократно посещал районы Восточного Омана. Зимой 1927–1928 гг. совершил 650-мильный переход из Ра’с-эль-Хадда до Дофара; а зимой 1929–1930 гг. – 400-мильный переход из Дофара в Мугшен (вдоль границы песков) и обратно. В 1930 г. высаживался на полуострове Мусандам. Участвовал в карательной операции британских бригов «Lupin» и «Cycloman» в подавлении бунта шихухов, не пожелавших, чтобы английское судно «Ormonde» исследовало побережье земель их проживания. Во время этой экспедиции собрал много интересных сведений о самих шихухах, одного из самых загадочных племен Омана, их нравах и обычаях. В октябре 1930 г. морем дошел из Маската до Дофара, имея в виду, отправившись оттуда, пересечь пустыню Руб-эль-Хали и добраться до Катара. Оставался в Дофаре до декабря; побывал на горе Кара и в ее окрестностях. Готовясь к переходу пустыни, отрастил бороду, переоделся в одежду бедуинов и стал вести жизнь кочевника.
10 декабря 1930 г. караван Бертрама Томаса, состоявший из 15 верблюдов, покинул Дофар. Маршрут на север, к пустыне, пролегал через горы Кара и долину с плантациями благовоний. Там, между долиной и песками, лежал, по словам проводника, древний караванный путь. Арабы Южной Аравии называли его дорогой в Убар, в ушедший в легенды город, в «земную обитель ‘адитов», автохтонов Аравии, «арабов угасших».
Арабские историки прошлого писали об Убаре, как о «земном рае». Убар, город колонн и башен, повествуют сказания южноаравийцев, прославился своей великолепной архитектурой, накопленными в нем богатствами несметными и роскошными садами. Дворцы его – из золота и серебра, говорится в Коране, колонны дворцов – из хризолита и алмазов, люди его – гиганты. И не было на земле другого такого города, как Убар.
По мнению археологов, Убар – это Ирам Многоколонный, утерянный богатый город, основанный Шаддадом ибн ‘Адом. Легенды гласят, что, отстроив Ирам, «осколок рая на земле», возгордился Шаддад без меры. Возомнил себя, человека смертного, Богом. И возжелал, чтобы и люди поклонялись ему, как Богу. За что и был наказан Господом – «сражен молнией, пущенной в него с небес», когда намеревался торжественно въехать в чудный город свой. Народ же его, последовавший за ним, как за Творцом-Вседержителем, умертвил «крик ужасный, коим Бог разразился с небес». И сделал это Господь, согласно преданиям арабов Южной Аравии, в назидание людям, дабы не не боготворили они никого из смертных, ни деяния их земные. И исчез Ирам Многоколонный с «лица земли». Пески занесли его. И сделался он легендой.
Многие именитые исследователи Аравии, в том числе и Бертрам Томас, который первым из европейцев пересек (с юга на север) великую аравийскую пустыню Руб-эль-Хали, сходятся во мнении, что Убар был крупным перевалочным пунктом аравийской торговли, где ежедневно размещались на отдых 2 000 верблюдов и 500 погонщиков. Находился город этот в районе плодородного оазиса. Существовал в период с 2800 г. до н. э. по 100 г. н. э. Жители Убара занимались посреднической торговлей, сбором ладана и оптовой продажей благовоний, считавшихся у многих народов прошлого символом богатства. Ладаноносные деревья произрастали вблизи гор Кара. Здесь же располагался и таможенный пост. Известно, что вынашивались даже планы насчет сооружения Великой дофарской стены с дозорно-сторожевыми башнями, которая оградила бы земли Дофара, «кладовую благовоний» в речи южноаравийцев, от вторжений бедуинов с континентальной части и от набегов пиратов с моря.
Ладан по «пути благовоний», о котором повествует Бертрам Томас, шел в легендарную Герру, также утерянную (располагалась на Восточном побережье Аравии), а оттуда – в царства Древней Месопотамии. Другой маршрут пролегал в Петру, столицу Набатейского царства, и через нее – в Палестину, Сирию и Средиземноморье.
Убар, он же Ирам Многоколонный, один из блистательных городов Древнего Омана, как считали Бертрам Томас и Уилфред Тезигер (1910–2004), знаменитый британский путешественник, был занесен песками. Подтвердили это предположение и две археологических экспедиции в Оман, организованные в 1991 г. американским кинорежисером Николасом Клэппом, а также раскопки в оазисе Шисур, проведенные археологами, участвовавшими в тех экспедициях. Они привели их к выводу о том, что Убар стоял именно в том месте[54 - Nicholas Clapp. The Road to Ubar: Findingthe Atlantis of the Sands, London, 1999; Ranulph Fiennes, Atlantis of the Sands: the Search of the lost city of Ubar, London, 1993.].
Итак, возвращаясь к рассказу о путешествии Бертрама Томаса по Руб-эль-Хали, отметим, что сначала, оставив земли Шу’аита, что на границе с пустыней, он в течение девяти дней пути находился под защитой шейха Салиха ибн Клута из племени бану расиди. Затем тот передал его в руки шейха Хамада ибн Хади, вождя легендарного племени ал-мурра, славившегося своими следопытами или «лучшими чтецами следов на песке», как о них говорили бедуины Аравии. Передвигаясь по пустыне, от Омана до Дохи (Катара), замечает Бертрам Томас, он пил только верблюжье молоко. Вода в колодцах, что попадались им на пути, была такой соленой, что, несмотря на жажду, ею даже ополаскивать рот и то не хотелось.
Познал Бертрам Томас во время этого путешествия и губительную силу нескольких страшных аравийских песчаных бурь (хамсинов).
В феврале 1931 г. прибыл в Доху. Путешествие завершилось. Из Катара он проследовал на Бахрейн (там располагалась ближайшая телеграфная станция). Оттуда отправил телеграмму (22.02.1931) в Королевское Географическое Общество. Сообщил, что пересек пустыню Руб-эль-Хали. И уже на следующий день информцию об этом напечатала газета «Таймс», подчеркнув, что Бертрам Томас стал первым европейцем, кто преодолел великую Аравийскую пустыню. Статья, опубликованная в «Таймсе», вызвала огромный резонанс во всем мире. С успешным завершением экспедиции Бертрама Томаса поздравили Лоуренс Аравийский и Филби. А вот американский консул в Багдаде, Александр Слоан, усмотрел в путешествии Бертрама Томаса по пустыне некий тайный умысел. В депеше, отправленной в Вашингтон, высказал предположение, что главная цель и этой экспедиции Бертрама Томаса, и его работы в Омане в должности советника султана состояла в том, чтобы исследовать земли Внутреннего Омана и прилегающие к ним пески. И собрать информацию для Англо-Персидской нефтяной компании о местах проступления нефти, которые были обнаружены в той части Аравии бедуинами-кочевниками[55 - Muhammad Morsy Abdullah. The United Arab Emirates: A Modern History, London, 1978, p. 60.].
Рассказывая о женщинах Дофара, Бертрам Томас сообщает, что для «украшения тела» они использовали краску индиго. Черной сурьмой обводили брови, ноздри и подпородок; прочерчивали прямые линии от ноздрей к ушам, и расписывали шеи. Носили множество колец – на пальцах рук, в ушах и даже в левой ноздре. У женщин, проживавших в горах Кара, что в Дофаре, существовал, по словам Бертрама Томаса, интересный, нигде в другом месте Омана не встречавшийся обычай, а именно: они обрезали волосы у лба, дабы держать брови, один из символов женской красоты по-омански, полностью открытыми.
Мужчины Дофара, в свою очередь, внимательно следили за своими усами и бородами. Усы аккуратно подрезали и даже сбривали. Но вот бороды холили и содержали в порядке. Лишиться бороды в Аравии считалось позором. Такую процедуру непременно совершали над поверженным в бою и захваченным в плен противником. Борода являлась настолько важным аксессуаром костюма бедуина, что лишавшийся ее мужчина становился посмешищем в глазах соплеменников. Поэтому сторонился людей, и ни в коем случае не появлялся на рынках, пока не отрастала новая. Волосами своей бороды, так же, к слову, как и своим верблюдом, в Аравии клялись. И клятву эту, надо сказать, держали крепко. Что касается волос на голове, то во многих племенах Дофара их вообще никогда не стригли, а скрепляли головными лентами. Бытовало поверье, что мужчину, лишившегося своих волос, ожидают горести и несчастья[56 - Bertram Tomas, Among Some Unknown Tribes of South Arabia, Journal of the Royal Authropological Institute of Great Britain and Ireland, 59, № 32 (1929), p. 101.].
Повсеместно в Омане вообще и в Дофаре в частности исполнялся обычай обрезания: у мужчин – при достижении половой зрелости, а у женщин – при рождении. И если у женщин Северного Омана обрезали только верхнюю часть клитора, то у женщин Дофара его вырезали полностью.
Не так как в Европе, а с точностью наоборот, приветствовали друг друга в Дофаре мужчины и женщины. Встречаясь на улицах, женщины здоровались друг с другом за руку, как мужчины в Европе. А те свидетельствовали свое почтение друг к другу поцелуем в левую щеку, положив, правда, при этом левую руку на правое плечо. С мужчинами своего семейно-родового клана женщины здоровались легким касанием пальцев их рук[57 - Bertram Tomas, Arabia Felix: Across the “Empty Quarter” of Arabia, London, 1932, p. 71, 72.].
Женщины в Дофаре, по наблюдениям Бертрама Томаса, были более свободными, чем где бы то ни было в других частях Омана. Во время работ, к примеру, на полях или в садах им даже разрешалось петь, за что в других районах Омана их могли побить. Несмотря на свободу, которой они пользовались, замечает Бертрам Томас, адюльтеры и внебрачные отношения женщин с мужчинами в Дофаре случались крайне редко.
В северных частях Омана, если женщина совершала прелюбодеяние, то ее могли убить, ибо такой поступок, согласно обычаям предков, марал честь и достоинство семьи и рода. Наказание блудницы исполняли либо ее отец, либо братья. При этом мужчина, что интересно, соблазнивший женщину, никакой ответственности не нес.
В Дофаре все было иначе. Девушку, уличенную в прелюбодеянии, из племени изгоняли. Покровительства и защиты своего племени она лишалась, раз и навсегда. Соблазнителя девушки полагалось убить, либо взыскать с него за то, что он совершил, – овцами и верблюдами.
Дойкой домашнего скота, а в некоторых племенах Дофара даже и приготовлением пищи, занимались мужчины. Обязанности жены сводились к выпасу скота, сбору хвороста для очага, доставке воды в дом, пряже тканий, изготовлению рогожек, уборке жилища и воспитанию детей.
Дофарцы, отмечает Бертрам Томас, были людьми очень суеверными. Верили в джиннов и духов, в силу оберегов и заклинаний. В целях умилостивления грехов совершали жертвоприношения. Бытовало поверье, что половину своих коров мужчина непременно должен был принести в жертву – во спасение его души после смерти[58 - Bertram Tomas, Arabia Felix, op. cit., p. 55, 56.]. Дабы уберечь себя, свой скот и урожай от «глаза дьявола» дофарцы воскуривали благовония. Перед жатвой забивали коров; кровью их окрапляли землю, а куски мяса разбрасывали по полям, – чтобы и в следующем году земля дала им урожай[59 - Там же. С. 42.]. Потерю животными молока относили к «козням дьявола». Чтобы они поправились, окуривали головы животных благовониями. Делали это на рассвете или при заходе солнца. Когда дофарец строил дом, то непременно вколачивал в его углы 4 длинных гвоздя. Так, согласно поверью, он мог защитить жилище от «глаза дьявола». По завершении работ, чтобы стены дома стояли долго, совершал жертвоприношение – забивал овечку; и делал это на пороге его нового жилища[60 - Там же. С. 94, 95.].
Человек, подозревавшийся в убийстве, но отрицавший это, проходил «испытание огнем». «Дознание» проводили между предрассветной и полуденной молитвами. Люди собирались у костра, разведенного на центральной площади поселения, и старейшина, поднеся лезвие клинка к огню, приказывал обвиняемому открыть рот и высунуть язык. Затем одной рукой брал кончик его языка своим головным платком, а другой раскаленным лезвием клинка делал два молниеносных прикосновения к языку обвиняемого. Если по прошествии двух часов следы опухоли на его языке обнаруживались, то он признавался виновным. И в соответствии с традицией должен был быть «лишен жизни», либо же «выкупить жизнь» – в зависимости от желания тех, кто обвинял его в совершении убийства. Если же опухолей на языке не оказывалось, то обвиняемый признавался невиновным[61 - Там же. С. 84-86.].
О бедуинах пустыни Руб-эль-Хали, Бертрам Томас отзывается, как о людях с непоколебимой силой духа и абсолютной верой в неизбежность судьбы. Отсюда, говорит он, и такие их аксиомы-поговорки, как: «Надеяться можно только на Бога» и «Что предначертано судьбой, того не избежать». Жизнь бедуинов в безлюдной пустыне и отчужденность от внешнего мира, свидетельствует Бертрам Томас, отражалась на их характере. Они были абсолютно безразличны ко всему тому, что вне мира пустыни. Их не интересовали ни восходы, ни падения цивилизаций, ни наука, ни культура, ни образование. Все это в их жизни отсутствовало, и поэтому для них не существовало[62 - Там же. С. 154, 155.]. Самой дикой, по выражению Бертрама Томаса, и хищной расой среди бедуинов Руб-эль-Хали он называет племя бану авамир.
Бедуин – человек свободолюбивый. Гордость бедуина – его родословная. В чести у бедуинов щедрость. Свято чтут они обычай гостеприимства.
В обычае у бедуинов, замечает Бертрам Томас, – словословить своих верблюдов: слагать в их честь стихи и даже сочинять гимны. Такое воспевание верблюдов кочевники именуют словом «ванна».
Во время маджалисов, вечерних посиделок за чашечкой кофе, оманцы, по словам Бертрама Томаса, как бедуины, так и горожане, частенько состязались в цитировании стихов прославленных златоустов, то есть поэтов. В особой чести у них были оды (касиды) выдающегося арабского поэта ал-Мутанабби (915-965). У султана Маската имелся даже личный чтец стихов, некто Сайф, а также знаток сказаний и преданий арабов Аравии.
Все разговоры бедуинов-проводников во время их путешествия по пустыне, рассказывает Бертрам Томас, вращались вокруг трех тем: верблюдов, женщин и оружия. Часы, похоже, кочевники видели впервые в жизни. И радовались, как дети, когда он разрешил им взять его часы в руки и послушать, приложившись ухом к циферблату, как те тикают. С неменьшим восторгом, по его словам, взирали бедуины и на вынутый им из сумки электрический фонарик, огонь в котором, как они с удивлением говорили, совершенно не жег их руки.
Упомянул Бертрам Томас и об алчности бедуина, когда в оплату своих услуг он мог потребовать все что угодно. Отметил и постоянно сопровождавшие кочевников раздоры – семейно-родовые, клановое и межплеменные, которые, похоже, были «солью их жизни».
Описывая пустыню Руб-эль-Хали, указал на наличие в ней гигантских песчаных дюн, «песчаных топей» и «поющих песков», издававших звуки, подобные гудкам пароходов. Обратил внимание и на цвет песков, менявшийся в дневное и ночное время, – от розово-красного до белоснежно-бриллиантового.
Повествуя о быте оманцев, Бертрам Томас, пишет, что ели они только руками, что ни вилок, ни ложек не было у них и в помине. Пищу с медных огромных подносов брали и клали в рот с помощью «абу хамсы» («отца пятерни»), то есть пятью пальцами правой руки, и с именем Господа на устах.
Угости бедуина всего лишь несколькими финиками и напои чашечкой кофе, свидетельствует Бертрам Томас, и он всю жизнь потом будет отзываться о тебе, как о человеке гостеприимном. А попотчуй его отменно, рисом с мясом, но не подай напоследок кофе – и он сочтет тебя человеком скаредным, а себя – глубоко оскорбленным. Вот какое важное место в повседневной жизни кочевников Омана, сообщает Бертрам Томас, и в обычае гостеприимства оманцев вообще занимает кофе.
Неизгладимое впечатление, судя по всему, произвел на Бертрама Томаса, обычай буруз или бурза, как его еще называли оманцы (смысл слова «буруз» – появление на людях). Три раза на день, объясняет он, утром, в полдень и вечером, шейхи племен и главы родоплеменных кланов встречались у своих жилищ с соплеменниками, чтобы лично выслушать то, что беспокоило каждого из них, и разобрать жалобы[63 - Bertram Sidney Tomas, Alarms and Excursions in Arabia, London, 1931, p. 117, 118.]. Бертрам Томас присутствовал на нескольких таких встречах, когда сопровождал султана Маската в поездках по стране. Все они непременно заканчивались кофепитием. Разносчик кофе, обходя собиравшихся на встречу людей, держал в одной руке кофейник, а в другой – с полдюжины маленьких чашечек, финджанов.
Рассказал Бертрам Томас в своих путевых заметках и о военном танце азва. Исполняли его в племенах Омана во время встреч почетных гостей, свадебных и праздничных торжеств. Мужчины с мечами и щитами, с ружьями и кинжалами, и с развернутыми боевыми знаменами, выстраивались в две линии, друг напротив друга. И затем, попеременно, под бой барабанов, надвигались волнами, одна на другую, паля из ружий в воздух и издавая боевые кличи.
На полуострове Мусандам, вспоминал Бертрам Томас, подбрасывание мечей над головами и выкрикивание боевых кличей, именуемых шихухами, тамошними жителями, словом «надаба», являлось непременным атрибутом свадебных и других церемониалов[64 - Bertram Tomas. The Musandam Peninsula and its People the Shihuh, Journal of the Royal Antropological Institute of Great Britain and Ireland, 59 (1929), p. 104.].
Интересуясь в разговорах с оманцами, кто привнес в их земли искусство сооружения афладжей, то есть древних оросительных систем, Бертрам Томас слышал в ответ много интересных историй. При этом подавляющая часть дофарцев считала, что первые афладжи в Омане построили ифриты, то есть джинны ада, сверхъестественные существа, проклятые Аллахом и служащие Иблису (сатане), которых царь Соломон подчинил его воле. Пожаловал же он в Оман, дабы лично узреть «край благовоний». Восседал, когда передвигался, на ковре, разостланном на крыльях подвластного ему ветра. Наблюдая за тяжелым трудом оманцев в их пальмовых рощах-кормилицах, и повелел царь Соломон ифритам проложить в те рощи афладжи, дабы воды, стекающие с гор после дождей, равно как и бьющие из хранящихся в них источников, поили и деревья, и огороды, разбитые между ними[65 - Bertram Sidney Tomas, Alarms and Excursions in Arabia, op. cit., p. 168.].
Болезни в глухих районах Омана лечили тогда, рассказывает Бертрам Томас (напомним читателю, что речь идет о конце 1920-х – начале 1930-х годов), все теми же дедовскими способами: прижиганиями и «настойками» на листках с текстами из Корана, привезенными из Мекки. Многие болезни приписывали заклинаниям, которые накладывали на людей колдуньи. Снимали заклинания чтением айатов («стихов») из Корана. В целях избавления от болезний женщины наведывались к целительницам-вещуньям. Если выздоравливали, то должны были вновь побывать в местах обитания целительниц-вещуний, которые вели уединенный образ жизни, и оставить там либо курицу, либо горшок с мукой, либо корзинку с яйцами, или же воскурить благовония[66 - Там же. С. 178.].
Многие оманки, как и их далекие предки, повествует Бертрам Томас, верили в предсказание судьбы человека по звезде, под которой тот рождался, и по отпечаткам следов, что оставлял на песке. Так, во время одной из поездок по стране, он, по его словам, был свидетелем того, как к почитаемому в тех местах старцу явилась женщина с истощенным и изнуренным ребенком, и поинтересовалась, поправиться ли ее сынишка, если она изменит имя, данное ему при рождении. Женщина полагала, пишет Бертрам Томас, что звезда, под которой родился ее малыш, затаила обиду в связи с данным ему именем. И потому хотела выяснить у старца, слывшего к тому же искусным звездочетом, поможет ли она мальчику выздоровить, если назовет его другим именем?![67 - Там же. С. 278.].
Из биографии Бертрама Томаса известно, что родился он в Бристоле. Карьеру начал в 1914 году. Два года служил в Бельгии, затем в Месопотамии. Проработал там 6 лет. Был награжден, и в 1922 г. направлен в Трансиорданию, на должность помощника английского политического агента в Аммане. В 1924 г. получил предложение перейти на работу к султану Маската, стать его вази-ром. Покинув Маскат и оставив службу, занялся научной деятельностью. В 1935 г. получил степень доктора наук в Кембриджском университете. Во время 2-й мировой войны исполнял обязанности офицера по связям с общественностью на Бахрейне (1942–1943). В 1944 г. возглавил основанный им Ближневосточный центр арабских исследований (The Middle East Centre of Arabic Studies), располагавшийся сначала в Палестине, а потом в Ливане. Умер в Бристоле, в 1950 г.
Делясь с журналистами впечатлениями от путешествий по Оману, Бертрам Томас непременно упоминал о том, что прославивший его переход через пустыню Руб-эль-Хали он совершил при поддержке султана Маската. Зная, что Бертрам Томас не женат, и что очень хотел бы побывать в пустыне Руб-эль-Хале, султан на одной из их встреч как-то сказал, что «в ближайшие несколько дней поможет ему жениться на той, кто ближе всего его сердцу». А секретарь султана, улыбнувшись, тут же добавил: «И, конечно же, на девственнице». Так, говорил Бертрам Томас, и состоялось его незабываемое путешествие по пустыне Руб-эль-Хали[68 - Там же. С. 119.].
Интересные заметки об Омане принадлежат перу Эдварда Фирса Хендерсона. Родился он в 1917 г., в Южной Африке. Образование получил в колледжах Бристоля и Оксфорда. Изучал историю стран Ближнего Востока и арабский язык. В конце 2-ой мировой войны, в течение двух лет, служил в Арабском легионе в Иордании. Легион этот слыл отменно подготовленным воинским подразделением иорданского короля, состоявшим из 4500 человек, под командованием Глэбба-паши (так арабы называли командира легиона, английского генерала Глэбба). Побывал с британской армией в Палестине. Видел, как в 1948 г. еврейские нерегулярные военизированные формирования, используя оружие, ввезенное в Палестину контрабандным путем, выдавливали палестинцев из их домов в Хайфе. Ни британская армия, ни Арабский легион никак тому не препятствовали, и на защиту палестинцев, бежавших в Иорданию, не встали, ибо имели приказ в происходившее не вмешиваться. Именно британское правительство, как считал Эдвард Хендерсон, организовало захват арабских земель евреями.
Демобилизовавшись в 1948 г. из армии, поступил на службу в Иракскую нефтяную компанию. Получил назначение на работу в штаб-квартире этой компании на Бахрейне (тогда она располагала концессиями по всему побережью Аравийского полуострова от Катара до Омана). Со временем сделался представителем компании в Дубае. Главная задача его состояла в том, чтобы установить с шейхами Договорного побережья (нынешних ОАЭ) и сейййдом Са’идом ибн Таймуром, тогдашним султаном Маската и Омана, доверительные отношения, и склонить их к заключению соглашений о предоставлении Иракской нефтяной компании прав на поиск и добычу нефти в их землях.
В 1959 г. Эдвард Хендерсон был назначен на пост британского политического агента в Абу-Даби, а в 1960-м – переведен на службу в Иерусалим, консулом, где и встретил мисс Джозелин, на которой вскоре и женился. В 1970 г. Эдвард Хендерсон стал первым британским послом в независимом Катаре.
После ухода на пенсию, в 1974 г., его пригласил в Абу-Даби шейх Заид ибн Султан Аль Нахайан (1918–2004) – для организации Национального исторического архива, бессменным руководителем которого он являлся до конца своей жизни.
В течение года (1980–1981) Эдвард Хендерсон возглавлял Совет по развитию британо-арабских отношений со штаб квартирой в Лондоне. Затем отправился в Вашингтон для создания там аналога британского совета и чтения лекций об арабах Аравии в американских институтах.
По завершении этой работы возвратился в Абу-Даби, где и умер, в 1995 г., в возрасте 78 лет.
Супружеская пара Хендерсон (автору этой книги довелось знать их лично во время работы в российском посольстве в ОАЭ) искренне любила Абу-Даби. И местные арабы отвечали им тем же. Неслучайно, думается, с 1975 г., со времени прибытия в Абу-Даби по приглашению шейха Заида, супруги Хендерсон проживали там в качестве почетных гостей правящего семейства Аль Нахайан, людей гостеприимных и щедрых, высоко ценящих в иностранцах открытость, честность и желание понять арабов Аравии, познать их язык, обычаи,традиции и нравы.
Делясь с журналистами воспоминаниями об Абу-Даби 1970-х – 1980-х годов, Джозелин Хендерсон рассказывала, что в то время в нынешней красавице-столице ОАЭ, имелся один-единственный магазин, торговавший кое-какими импортными товарами из Европы. Но обожаемые ими «пахучие сыры из Англии» они с мужем получали с дипломатической почтой, вместе с документами и газетами. Зато морепродуктов было много, и стоили они очень дешево. Цена за один килограмм отборных свежих креветок, к примеру, не превышала трех дирхамов, что составляло около 50 центов.
Свободное время женщины английской колонии в Абу-Даби проводили в основном на территории британского посольства, где дипломаты разбили небольшой парк и обустроили теннисный корт. Англичанок нарасхват приглашали в гости местные знатные дамы, желавшие услышать что-нибудь интересное как о самой Англии, так и о принадлежавших ей колониях. Впоследствии, когда аравитянки свободно уже путешествовали по всему белу свету, говорила миссис Джозелин Хендерсон (сами англичане, к слову, величали ее Дамой Абу-Даби), прежнего интереса к британкам, их единственному некогда источнику новостей о «мире женщин в чужих землях», они уже не проявляли.
Что касается самого Эдварда Хендерсона, то во время его служебных командировок в Оман он встречался с шейхами многих племен, в том числе с племенем бану дуру, и от имени Иракской нефтяной компании вел с ними переговоры о получении согласия на поиск нефти в их землях. Участвовал даже в совместной оманско-британской операции по освобождению оазиса Эль-Бурайми от саудовцев в 1952 г.
Побывав в Эль-Батине, а также в горах и долинах Внутреннего Омана, и познакомившись с этими землями Южной Аравии, пишет Эдвард Хендерсон, он очень заинтересовался ими. О горцах-оманцах Хендерсон отзывается, как о людях гостеприимных и смышленых. Рассказывает, что большинство из них никогда в жизни не видело ни машин, ни радиоприемников, и не имело ни малейшего представления о том, что такое современная медицина или даже консервированные продукты. Их не интересовало ничто, что было «вне круга их жизни». Богатством, доставшимся им от предков, которым они, действительно, дорожили, являлись их обычаи и традиции, возделываемые ими земли и источники пресной воды[69 - Там же. С. 115.]. Образ жизни жители гор вели патриархальный. Довольствовались самым малым. Пищи, как говорили, то есть лепешек, мяса и молока, фиников, меда и кофе, им хватало. Да и все остальное их устраивало. Всем они были довольны. И ничего больше им не требовалось. Хотели только одного, – чтобы не мешали им жить спокойно.
Жителей Омана Эдвард Хендерсон называет людьми толерантными. Даже в Ибри, замечает он, в месте по отношению к чужеземцам-иноверцам неприветливом, и там их команду геологов принимали тепло. Разместили на ночлег в одном из помещений мечети, несмотря на то, что были они христианами[70 - Там же. С. 185, 186.].
По землям обитания племени дуру, вспоминал Эдвард Хендерсон, геологи передвигались на автомобилях. Появление чужестранцев, да еще на «железных и плюющихся дымом чудищах», как арабы тамошние называли впервые увиденные ими автомобили, они посчитали вторжением в удел племени с целью его захвата. И, ничтоже сумняшеся, стали готовиться к схлестке с незваными пришельцами. Свернули становища, и начали созывать родоплеменные кланы под знамя войны. Урегулировать ситуацию удалось благодаря имевшемуся на руках у англичан рекомендательному письму султана Маската и Омана, адресованному вождю племени[71 - Там же. С. 154, 155.].
Заметную лепту в информирование европейцев о землях Омана 1960-х годов, абсолютно отрезанных тогда от внешнего мира и именуемых журналистами «аравийским Тибетом», внес английский офицер Дэвид Гвинн-Джеймс (род. 1937).
С 1957 по 1970 гг. он служил в британской армии. В составе ее подразделений находился в Кении, а затем в Радфане, что на границе тогдашнего британского Адена и Йемена. В 1963 г. со специальным заданием прибыл в Оман. О повседневной жизни оманцев тех лет, об их обычаях и нравах оставил увлекательные заметки.
Оман, повествует он, – это край приморских портовых городов, парусных судов, оазисов, финиковых рощ и, конечно же, гор и множества племен. Оман – это земля и люди, живущие жизнью, давно ушедшей в прошлое в Европе, жизнью, столетиями отстоящей от времени нынешнего, жизнью Средневековья. Взять, к примеру, Ибри, древний мегаполис с его домами и фортами, с водоводами (афладжами) и пыльной немощеной дорогой, ведущей к рыночной площади, уставленной верблюдами и ослами, все теми же и единственными у оманцев, как и у их далеких предков, «средствами» передвижения и перевозки грузов.
В городе женщины лица свои не скрывают. Паранджу надевают только тогда, когда выходят за стены города. Занимаются сбором хвороста, доставкой питьевой воды в дом, приготовлением еды и воспитанием детей. Женские встречи-посиделки в своих жилищах проводят отдельно от мужчин, в специальных женских комнатах. Там же, раздельно с мужчинами, принимают и пищу. Влияние на мужчин, вместе с тем, судя по всему, имеют большое[72 - Gwynne-James, David, Letters from Oman: A Snapshot of Feudal Times as Oil Signals Change, UK, 2001, p. 63, 80.].
Поделился Гвинн-Джеймс в своих заметках и впечатлениями от посещений жилищ оманцев в губернских городах. Попотчевать гостя по-омански, пишет он, значит усадить его на разостланный на полу ковер у огромного медного подноса с рисом и мясом, вареными яйцами и даже с целыми овечьими головами. Едят исключительно руками, и только правой. Левая рука считается у них «нечистой». Ею они пользуются в отхожих местах и при совершении омовений интимных мест перед молитвами. Кусок мясо, который хозяин жилища положит на тарелку гостя, не только попробовать, но съесть надлежит непременно, будь то мозги барана или его глаза, считающиеся у арабов Аравии деликатесом. Мух, слетающихся на запах пищи, отгоняет опахалом стоящий сзади гостя слуга.
По окончании трапезы слуга подносит гостю кувшин с водой и ставит перед ним таз, дабы сполоснул он руки перед приемом кофе. Угощение кофе – это венец гостеприимства по-аравийски. Церемониал кофепитий настолько почитаем в Аравии, что нарушение его считается не просто признаком дурного тона, а оскорблением памяти предков. При разносе кофе покидать встречу ни в коем случае нельзя, так же, как и отказываться от него. Пьют кофе в Омане с финиками, халвой и медом. Подают кофе в маленьких чашечках, и наполняют их обычно по три раза. Покачивание чашечки из стороны в сторону означает, что напитком этим гость насладился[73 - Там же. С. 77, 78.]. По завершении трапезы гостя окуривают благовониями и, проводив до дверей, обрызгивают при расставании духами.
Время в Омане, отмечает Гвинн-Джеймс, местные арабы не ставят ни в грош. Дни там – долгие и жаркие, жизнь – простая и размеренная. «Бог дал, Бог взял, – говорят они. – Спеши, не спеши, но что предначертано судьбой, то и сбудется!». Пунктуальности, как таковой, нет среди них и в помине. Пунктуальны они, пожалуй, только в одном – в точном соблюдении времени, установленного для молитв.
О чем бы оманцы не говорили, замечает Гвинн-Джеймс, во всем у них наблюдалась «полярность мышления», «срединных понятий» не существовало. Все они окрашивали в черный или белый цвет. Поступки соплеменников, к примеру, в их понимании, были либо благородными, либо низкими, и никакими другими. Поведение – либо честным, либо подлым, а жизнь – достойной, либо марающей честь человека, его семьи, рода и племени.
С самого детства, рассказывает Гвинн-Джеймс, полагаться оманцев учат не на удачу, а на трезвый расчет и жизненный опыт; поучают тому, чтобы «копилку знаний жизни» они пополняли непременно и постоянно. Давая такой совет, старейшины семейно-родовых кланов, часто ссылаются на популярную среди жителей Омана присказку предков, гласящую: «Имей достаточно воды и еды на все время пути, до того места, куда отправляешься».
Яркий портрет Омана времен сеййида Са’ида ибн Таймура оставил в своих заметках об этой стране Ян Скитт. Также, как и Уилкинсон, он сказывал о том, что сеййид Са’ид ибн Таймур не просто отрезал страну от внешнего мира, а наглуго запечатал ее, и притом надолго – на целых 36 лет[74 - Ian Skeet, Muscat and Oman: The End of an era, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 38, 1 (1975), p. 156.]. Самого этого правителя Ян Скитт называл властелином жестким и прямолинейным, упорным в достижении поставленной перед собой цели и абсолютно уверенным в том, что только он, и никто другой, точно знал, что и когда надлежало делать в интересах его народа. На подданных своих, сообщает Ян Скитт, сеййид Са’ид Таймур взирал как на детей, обязанных повиноваться ему во всем и всегда[75 - Там же. С. 168.].
О наличии начального школьного образование в Омане, даже в конце 1960-х годов, свидетельствует Ян Скитт, можно было говорить с большой натяжкой. В стране насчитывалось только три школы. Лучшая из них, «Са’идиййа», построенная еще в 1940 г., представляла собой в 1968 г. жалкое зрелище – невзрачное здание с покосившимися оконными рамами, разбитыми стеклами и слоем песка на полу. Начальное образование во всех этих школах за годы их существования получили только 640 учеников. Дело в том, объясняет Ян Скитт, что сеййид Са’ид ибн Таймур опасался, как черт ладана, того, что с привнесением образования в массы могут последовать «непоправимые», по его выражению, трудности. Ведь единственными учителями в то время в Аравии, за неимением местных, как он пояснял, были египтяне и палестинцы, которых сеййид Са’ид называл «бешеной стаей революционеров-националистов».
Однажды, пишет Ян Скитт, советник султана, полковник Хью Бустед, попытался, было, убедить сеййида Са’ида ибн Таймура открыть начальные школы во всех провинциях Омана, дабы позволить получить образование сыновьям шейхов племен и губернаторов провинций, которые со временем могли бы принять деятельное участие в управлении делами на местах. На что султан заметил: «Вы, англичане, потеряли Индию именно потому, что дали образование людям»[76 - Hough Bousted. The Wind of Morning, California, 2002, p. 223.].
Рассказывают, что в 1970 г., накануне дворцового переворота, сеййид Са’ид ибн Таймур решил закрыть в Омане и те три начальных школы, что там имелись, ибо они, по его мнению, превратились в ничто иное, как в «центры-рассадники коммунизма»[77 - Fred Halliday, Arabia Without Sultans, Manchester, 1974, p. 276.].
Единственным медицинским учреждением в землях Омана в конце 1960-х годов был, по воспоминаниям работавших там англичан, небольшой госпиталь Аравийской миссии Датской реформаторской церкви Америки, располагавшийся в Матрахе. Оманцы называли его Домом милосердия. Население Омана повсеместно болело трахомой, а в стране, как информировала своих читателей газета «Таймс», имелся тогда лишь один доктор. Об отсутствии элементарного медицинского обеспечения в Омане упоминал, к слову, и Дэвид Холден, который посещал Оман десятью годами ранее Яна Скитта, то есть в конце 1950-х годов. Кроме повсеместной среди населения Омана трахомы, отмечал он, широкое распространение там имели также малярия, туберкулез, ревматизм и гниение зубов[78 - David Holden, Farewell to Arabia , New York, 1966, p. 236; Jan Morris, Sultan in Oman, London, 2000, p. 153.].
Подход сеййида Са’ида ибн Таймура к здравоохранению англичане деликатно называли странным. По словам полковника Дэвида Смайли (1916–2009), британского спецназовца и офицера разведки, командовавшего с 1958 по 1961 гг. армией султана, во время одной из их встреч, тот высказывался на эту тему так. Госпитали нам ни к чему. Мы – страна бедная, и ресурсы наши в состоянии поддержать только немногочисленное население. Сейчас, говорил он, много детишек умирает еще в младенчестве, и численность населения не увеличивается. Если же мы построим клиники, то ситуация изменится, и многие из них выживут. Но, спрашивается, зачем? Чтобы умереть с голода?[79 - David Smiley, Arabian Assignment, London, 1975, p. 40, 41.].
Карательная система в Омане во времена сеййида Са’ида ибн Таймура была, по мнению тех же англичан, одной из самых жестких в Аравии. Заключенных в тюрьмах содержали в нечеловеческих условиях, тяжелых даже для зверей, практически без воды и пищи. Тех, к примеру, кто попадал в темницы крепости Джалали, приковывали цепями к стенам. Спали они на голых камнях. И, как правило, там и заканчивали свой жизненный путь. Умирали от обезвоживания, истощения и болезней[80 - Там же. С. 29.].
Жители Омана времен сеййида Са’ида ибн Таймура, рассказывает Ян Скитт, страдали от множества введенных им ограничений. Без разрешения султана никто из оманцев не мог выехать за границу. Режим выдачи въездных и выездных виз находился под его личным присмотром. Действовали жесткие правила на ввоз в страну не только автомобилей, но даже мотоциклов и велосипедов, и радиоприемников. Тех, у кого в конце 1960-х годов имелись в Маскате мотоциклы, можно было пересчитать на пальцах одной руки. Обладателями их становились только с личного разрешения султана[81 - Ian Skeet, op. cit., p. 195, 196.]. У водителей грузовиков английской компании, занимавшихся доставкой грузов, притом только из Матраха в Маскат, имелись специальные на то разрешения, опять-таки лично утвержденные султаном.
Маскат второй половины 1960-х годов, сообщает Ян Скитт, окружала мощная оборонительная стена с тремя въездными воротами, отворявшимися по утрам и закрывавшимися через три часа после захода солнца. Малые ворота предназначались для прохода в город пешеходов и осликов; Большие ворота (главные) – для торговых караванов и торжественных въездов в Маскат султана; и третьи, Баб Масаиб, – для проезда автомобилей с грузами (работали они, повторимся, только на линии Матрах – Маскат).
После того, как въездные ворота затворяли, «любые механические средства передвижения», как говорилось в указе султана, могли попасть в город или выехать из него только с личного разрешения губернатора Маската.