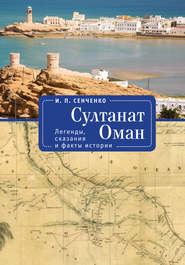скачать книгу бесплатно
Деньги в землях Омана, по его словам, ходили в то время разные. За сто немецких крон, например, в меняльных конторах давали 217 бомбейских рупий. Однако цены на товары на рынках тамошних торговцы устанавливали только в местных мухамиди; 20 медных монет мухамиди равнялись одному испанскому доллару. Местные мелкие монеты назывались гузами; 20 гуз составляли один мухамиди, а полтора мухамиди приравнивались к одному франку[20 - Там же. С. 9.].
Важной статьей собственного вывоза Омана были финики. В Маскате их ежегодно продавали на сумму 90–120 тыс. долларов США, а в других портах Омана – еще на 40 тыс. долларов. Неплохой доход в казну приносила торговля солью, поступавшей в Оман с принадлежавших тогда Маскату «соляных полей» Ормуза. Хороший спрос имела сера. Ее добывали в шахтах Хумира, что в Южной Персии, находившихся в то время в управлении Маската[21 - Там же. С. 16.].
Основу жизнедеятельности Маската составляла торговля. Город традиционно являлся важным местом складирования товаров и обмена ими. В 1821 г. только в личном распоряжении правителя Омана насчитывалось пять военных кораблей, в том числе два фрегата: «Шах Аллум», с 50 орудиями на борту, и «Керолайн», оснащенный 40 пушками. Принадлежавший ему транспортный флот состоял из 6 большегрузных судов (2 бугал и 4 батил), совершавших в сопровождении боевых кораблей торговые экспедиции в Индию, на Мадагаскар и в земли Восточной Африки.
Полицейские функции в городах выполняли бедуины-наемники из нескольких племен, обитавших в приграничных районах страны.
Большая часть средств из казны расходовалась на содержание членов правящего семейства и конюшен правителя, а также на проведение карательных экспедиций против мятежных племен на суше и пиратов на море. Ежегодные доходы владыки Омана превышали его расходы примерно на сто тысяч долларов.
В собственности у него имелись обширные земельные угодья, пригодные для ведения сельского хозяйства, а также крупные стада верблюдов и другого домашнего скота. За сдачу земли в аренду он брал 1/10 часть с собиравшегося на ней урожая; в дела арендаторов не вмешивался. Немалый доход приносила торговля верблюдами. Процветала работорговля. Невольников доставляли с Занзибара («охотники на рабов» свозили их туда со всей Африки).
Славился Оман своими ткачами, оружейниками и кондитерами. Знаменитые оманские плащи аббас пользовались повышенным спросом во всех племенах Прибрежной Аравии. Также, к слову, как и холодное оружие, порох и халва (в переводе с арабского языка слово «халва» значит «сладость»).
За время нахождения миссии Английской Ост-Индской компании в Маскате стороны обменялись протокольными визитами. Аудиенция англичан у правителя проходила на открытой веранде дворца, стоявшего на берегу бухты. Угощали гостей фруктами, аравийскими сладостями и кофе. В качестве памятного подарка британцы поднесли владыке Омана меч в дорогих ножнах.
Затем с ответным визитом на английский корабль пожаловал и сам правитель – на 10-ти весельной самбуке, в сопровождении вазира (министра) и племянника. Пробыл на судне около часа.
В Омане тогда свирепствовала холера, заканчивает свое повествование об этой стране Дж. Фрейзер, жертвами которой стали более 10 тыс. человек.
В 1824 г. в Омане побывал и рассказал о нем в своих книгах Джордж Кэппел (1799–1891), человек знатный и именитый, шестой граф Албемарл. Служил в Индии, занимал должность помощника генерал-губернатора индийских владений Британской империи. В 1823 г. подал в отставку и вернулся на родину. Во время пути посетил Оман, Персию Ирак и Россию. Познакомился с Маскатом, Исфаханом, Баку, Москвой и Санкт-Петербургом. В 1829 г. принимал участие в походе английской эскадры в Константинополь.
Улочки древнего Маската, где он провел несколько дней, Дж. Кэппел описал как невероятно узкие и довольно грязные, а жителей города – как людей приветливых и гостеприимных. Отметил, что зрение у многих из них из-за яркого солнца сильно к старости ухудшалось, и «1/10 населения была вообще слепа на один глаз».
Особо впечатлили его, судя по всему, ежедневные маджлисы (встречи) правителя в диваниййи (специальном дворцовом помещении для собраний) с подданными. На них мог пожаловать, пишет Дж. Кэппел, зная, что непременно будет принят и внимательно выслушан, любой человек, «даже голодранец»[22 - Kappel, George, Personal Narrative of a Journey from India to England, … in the Year 1824, London, 1827, 2 vols, vol. I, p. 15, 18, 20.].
Дабы не нарушить хронологию повествовния об исследователях-портретистах Омана, расскажем и об американце М. Расченбергере, перу которого принадлежат увлекательные очерки о Маскате первой половины XIX столетия и о подвластных султанату землях в Африке. Состоя хирургом американской дипломатической миссии, направленной в 1832 г. в страны Азии президентом США Эндрю Джексоном, он посетил Маскат и Занзибар. Миссию возглавлял особый правительственный агент Эдмунд Робертс. С султаном Маската ему удалось заключить договор о торговле, и зафиксировать в нем размер таможенной пошлины на товары, завозимые американскими торговыми судами в порты Омана и его доминионов (договор вступил в силу 30.06.1834).
Делясь впечатлениями о Занзибаре, подвластном тогда Оману, куда миссия прибыла в сентябре 1835 г. на шхуне «Enterprise» по пути в Маскат, М. Расченбергер сообщает, что поскольку султан на острове отсутствовал, то принимал членов миссии его 16-летний сын, в сопровождении Хасана ибн Ибрахима, начальника военного флота султана. Затем принц нанес ответный визит главе американской миссии, а потом прислал и подарок – парусник, «доверху груженный финиками, с тремя откормленными овцами в придачу».
Первое, что бросилось в глаза, говорит М. Расченбергер, когда они сошли на берег, так это огромная деревянная клетка у здания таможни со 150 рабами. Торги невольниками там, свидетельствует он, проводились ежедневно. Как правило, по вечерам, после захода солнца. Ежегодно на Занзибар, как он узнал из беседы с таможенником, доставляли из Африки не менее семи тысяч рабов. За ввоз их на остров для последующей продажи работорговцам взимали пошлину: от 50 центов до 4 долларов «за голову», в зависимости от «порта отгрузки раба». Некоторые жители Занзибара владели, по словам М. Расченберга, двумя тысячами невольников и более, по цене от 3 до 10 долларов «за голову»[23 - W.S.W. Ruschenberger M.D., A Voyage Round the World including Embassy to Muscut and Siam in 1835, 1836 and 1837, Philadelphia, 1838, p. 34.]. Пять дней в неделю рабы трудились на своих хозяев, и два – на себя, возделывая выделенные им участки земли.
Весомое место в торговле на Занзибаре, также как в Маскате, принадлежало общине индусов из клана банйан, пишет М. Расченбергер. Занимались они тем же, чем и евреи в городах Йемена и в портах Южной Аравии, а именно: ростовщичеством и коммерцией. Давали под процент деньги в ссуду, владели торговыми лавками и меняльными конторами на рынке и складскими помещениями в порту. Насчитывалось их в ту пору на Занзибаре человек 350. Проживали на острове посменно, в течение 4–5 лет. На место отъезжавших сразу же прибывали другие представители этого клана. Кстати, когда Васко да Гама оказался в Индии, то вся торговля там, как он вспоминал, находилась в руках банйанов. Конкуренцию им составляли только купцы-южноаравийцы, главным образом из Омана.
Делясь впечатлениями о Занзибаре, М. Расченбергер рассказывает, что дворец султана маскатского, сооруженный из коралловых блоков, располагался вблизи небольшого форта, возведенного еще португальцами и оснащенного пушками тех лет. Стражники-африканцы, дежурившие при входе, были вооружены копьями, а гвардейцы-арабы, которые несли службу внутри дворца, – мечами, щитами и «кинжалами искусной работы». У многих из них рукоятки холодного оружия, сделанные из рогов диких животных, «украшали драгоценные камни».
Обратил внимание М. Расченбергер и на «подчеркнуто уважительное» отношение арабов-оманцев к Корану. Брали они Священную книгу только «чисто вымытыми и надушенными руками». «Прибегали к Корану за советом», когда нужно было принять решение по тому или иному важному для них вопросу. Писали айаты («стихи») из Корана на бумаге и, вложив записки со словами из Священного текста в кожаные мешочки, вешали их на двери своих жилищ в качестве амулетов-оберегов. Брали с собой такие амулеты, отправляясь на войну[24 - Там же. С. 41.].
Неизгладимое впечатление, судя по всему, произвел на М. Расченбергера обычай арабов-оманцев, за поведением которых он наблюдал на Занзибаре, снимать при входе в жилище не головной убор, как это принято в Америке или в Европе, а обувь. Необычной показалась ему и «система судопроизводства» тамошнего. Вершили суд на острове так. Каждый вечер, перед заходом солнца, жители острова собирались у ворот форта, где в присутствии трех судей султан маскатский, если он находился на острове, разбирал жалобы своих подданных и выносил по ним решения.
Остров Занзибар, отмечает М. Расченбергер, богат источниками пресной воды. Повсюду там – продавцы бананов и кокосов. По традиции, сложившейся на Занзибаре, гостя, приглашенного в жилище островитянина, встречают у порога с кокосовым орехом в руках. Испив сок кокоса, гость входит в дом[25 - Там же. С. 42.].
Очень понравилось М. Расченбергеру и другим членам миссии блюдо из крабов, поданное им во время обеда. Местные жители, замечает он, крабов между собой именовали «пиратами», так те, как они поясняли, «изгоняли рыб из щелей в подводных скалах и селились там сами». Когда в 1449 г. Васко да Гама останавливался на Занзибаре, то, по свидетельствам португальских хронистов, «взял на заметку» бойкую торговлю золотом на местном рынке, которое торговцы завозили на остров из Момбасы и Софалы. По этой причине на Занзибар часто наведывались иностранные негоцианты. В период с сентября 1832 г. по май 1834 г. , согласно отчету американской миссии, остров посетило 40 торговых судов, в том числе 32 американских, 7 английских, одно французское и одно испанское[26 - Там же. С. 47.].
Неизменными «постояльцами» удобных бухт острова М. Расченбергер называет доу, то есть крупнотоннажные океанские парусники арабов Аравии, водоизмещением до 400 тонн. Суда эти, говорит он, не изменившиеся, похоже, со времен Римской империи, встречались в Индийском океане повсюду.
Весомый вклад в исследование Омана внес лейтенант Английской Ост-Индской компании Джеймс Реймонд Уэллстед. Известно, что родился он в 1805 году. В 1828–1829 годах состоял секретарем сэра Чарльза Малкольма, суперинтенданта (управляющего) Бомбейского флота. В 1830 г. был назначен вторым лейтенантом на судно «Palinurus», занимавшееся в то время топографией Акабского залива и северной части Красного моря. В 1833 г. перешел в распоряжение капитана Стаффорда Хэйнса, принявшего командование этим судном и получившего задане тщательно, насколько можно, изучить южные и юго-восточные земли Аравии, подвластные тогда Оману. В мае 1833 г. он впервые посетил Маскат. Провел там месяц. Сходил морем на Ормуз. В очередной раз появился в Маскате в ноябре 1835 г., имея задание проследовать оттуда вдоль всего Оманского побережья.
Покинув Маскат, побывал в Калхате и Суре, в Билад бану бу ‘али и Билад бану бу хасан, то есть в даирах (местах обитания) этих племен, а также в Бидйа, Ибре, Низве и Джабаль-эль-Ахдар.
Возвратившись в Низву, намеревался добраться до Эль-Дир’иййи, столицы ваххабитов в Неджде. Однако осуществить задуманное им не смог, так как английский агент в Маскате наотрез отказался профинансировать данное путешествие. К сведению читателя, ваххабиты – это последователи религиозно-политического течения в исламе, возникшего в Аравии в середине XVIII века на основе учения Мухаммада ибн ал-Ваххаба, призывавшего к очищению ислама от поздних наслоений и нововведений и возврату к его первоначальной чистоте.
Подцепив в Низве лихорадку, горячку-трясучку в речи бедуинов, вынужден был возвратиться на побережье, в Эль-Сиб, некогда второй после Маската центр судостроения в Омане. Выздоровив, отправился через Барку, Мисану и Эль-Сувайк в Ибри, где видел «ужасные разрушения», учиненные ваххабитами во время их набегов на земли Омана. Пройдя через Сухар, побывал в Эль-Бурайми и на «Пиратском берегу».
В апреле 1837 г. возвратился в Маскат. Собирался предпринять еще одно путешествие по Оману. Но в очередной раз заразился лихорадкой. Будучи в бреду, выстрелил себе в рот. Остался жив, но пуля серьезно повредила верхнюю челюсть. Курс лечения проходил в Бомбее. Поправившись, вернулся на родину.
Полковник Сэмюэл Баррет Майлс, британский политический агент в Маскате, проработавший в Омане более десяти лет (1874– 1885), автор одной из лучших, на взгляд автора этой книги, работ по истории и этнографии Омана, считал лейтенанта Джеймса Уэллстеда человеком, внесшим большой вклад в пополнение знаний европейцев об этой стране. Высоко отзывался о карте Омана, составленной лейтенантом. Говорил, что в то время она была наиболее точной и полной, и заслуживавшей доверия.
Путешествуя по Оману, Джеймс Уэллстед, помимо главной задачи, поставленной перед ним руководством Английской Ост-Индской компании, по подробному описанию побережья, с акцентом на прибрежные города-порты и гавани, увлеченно интересовался обычаями и традициями коренных жителей этой страны, племенами Омана и местами их расселения. Будучи одним из немногих европейцев, кому удалось проникнуть в земли Внутреннего Омана, он первым из них подготовил карту этого района и нанес на нее практически все его важные населенные пункты.
Направляя лейтенанта Уэллстеда с поручением исследовать Оманское побережье, руководство Ост-Индской компании имело целью воспользоваться собранной им информацией и определить лучшие места для создания на том побережье угольных станций для кораблей своей специальной эскадры по контролю за судоходством на торговых путях у Южной Аравии.
Задание, порученное ему, Джеймс Уэллстед выполнял во время правления в Омане сеййида Са’ида ибн Султана. Принял он офицера английского флота тепло. Посоветовал самый безопасный, на его взгляд, путь передвижения. В память о встрече подарил ему мечь с золотой рукояткой и чистокровного арабского жеребца неджской породы. Предоставил в его распоряжение нескольких бедуинов-проводников с верблюдами и двумя борзыми, и вручил рекомендательные письма, адресованные шейхам племен, по землям которых пролегал дальнейший путь исследователя, – с обращением к ним насчет оказания помощи и содействия «отважному и любознательному инглизу».
Джеймс Уэллстед, вспоминая о своих встречах и беседах с сеййидом Са’идом, называл его «образцом цивилизованного восточного правителя». Отмечал повышенное внимание и заботу сеййида Са’ида по отношению ко всем селившимся в Маскате торговцам.
Рассказывая о самом Маскате, величал его городом многоконфессиональным, где жили, бок о бок, арабы и персы, индусы и курды, афганцы и белуджи, представители многих культур и конфессий, где все они, мусульмане и евреи, индуисты и христиане, имели свои мечети, синагоги и храмы. Упомянуд Уэллстед, повествовуя о «земле оманской», и о том, что в 1828 г. сеййид Са’ид предоставил убежище большой группе евреев, бежавших в Оман от притеснений и гонений Дауда-паши в Ираке.
Делясь впечатлениями о проживавших в Маскате «иноземных коммунах», писал, что афганцы вели замкнутый образ жизни, и держались в стороне от других. Белуджи, напротив, легко сходились со всеми, и пользовались уважением среди оманцев; служили наемниками в гвардии сеййида Са’ида. Персы занимались в основном торговлей: продавали на рынках ткани в кусках, кофе, кальяны и розовую воду. Имелись среди них и искусные кузнецы-оружейники, ковавшие мечи и изготавливавшие фитильные замки для ружей. Брачные союзы между собой, замечает Уэллстед, персы и арабы заключали крайне редко, а вот белуджи, напротив, брали арабок в жены часто. Коммуна индусов являлась в Маскате самой многочисленной. Их там жительствовало больше, чем где-либо еще в Аравии. Им разрешалось сжигать мертвых и исполнять другие обряды. Что касается евреев, то, в отличие от Египта, скажем, или Сирии, или соседнего с Оманом Йемена, никаких отличительных знаков на одеждах они не носили. Не должны были селиться в отдельных кварталах в городах, как в Йемене, и уступать мусульманам дорогу на улицах, уходя влево, как в Персии и в других землях в Аравии. В Маскате евреи занимались ювелирным делом, обменом денег и предоставлением ссуд торговцам, а также изготовлением хмельных напитков, которые сбывали втихую матросам заходивших в порт иностранных кораблей.
Такое же большое, как в Маскате, количество чужеземных общин и коммун, наличествовало, по словам Уэллстеда, еще только в двух местах в Омане – в Сухаре и Суре.
Жители Внутреннего Омана, рассказывает Джеймс Уэллстед, кочевники-бедуины и горожане, контрастно отличались друг от друга. Бедуины были людьми энергичными и жизнерадостными. Передвигались по городам, когда навещали рынки тамошние, вооруженными, с головы до ног. К въезным воротам, у которых оставляли своих верблюдов, приближались, восседая на них, гордо и величаво, непременно скрестив ноги. Именуя себя арабами истинными, свято чтили честь и достоинство их рода и племени, свою первородную, как сказывали, чистоту. Особенно, если история племени уходила корнями в седое прошлое, и рождением своим племя обязано было «арабам чистым», потомкам Кахтана, внука Сима, одного из сыновей Ноя. Оседлое население, жителей городов и поселений, называли «узниками стен», людьми несвободными.
Джеймс Уэллстед восхищался выносливостью бедуинов, которые в этом отношении, как он говорил, были сродни их верблюдам. В легких кожаных сандалиях, лишь частью предохранявших их голые ноги от раскаленного песка, они весь день спокойно могли брести по пустыне под жгучим аравийским солнцем, слепящим и валящим с ног европейца. А вечером, усевшись вокруг костра, и, потчуя себя финиками с кофе, радоваться тому, что даровал им Господь – остывшим, наконец песком, да легким дуновением свежего ветра.
С детства, делится своими наблюдениями Уэллстед, бедуины Аравии приучены к тому, чтобы подавлять в себе проявление любых эмоций, и терпеливо, со словами «Аллах велик!» на устах, преодолевать все тяготы и невзгоды жизни. Их отличает благородство и честь, мужество и отвага, гостеприимство и отзывчивость по отношению к соплеменникам. Но вот обид и оскорблений, нанесенных им, они не прощают, никогда и никому. И не успокаиваются до тех пор, пока не отомстят за них. Внимательны к детям. Терпеливо и с раннего возраста обучают их «урокам жизни». Ребятишки постигают передаваемые в племенах из поколения в поколение «правила достойной жизни» как в разговорах с отцами, так и во время традиционных для арабов Аравии маджалисов, мужских вечерних посиделок за чашечкой кофе с кальяном.
Высоко отзывался Уэллстед о гостеприимстве оманцев. Вспоминал, что во время пребывания в племени бану абу ‘али, которое некогда находилось в состоянии войны с англичанами, принимали его даже там тепло и радушно. Установили для него шатер. Забили овцу, и досыта накормили. А потом поочередно, один за другим, наведывались в шатер с кувшинами и поили его молоком, верблюжьим и козьим. Когда же он покидал племя, то провожали его, до самых границ становища, буквально все, кто там в то время был, и стар и млад, и мужчины и женщины.
Самым негостеприимным местом в Омане Уэллстед считал город Ибри, неподконтрольный тогда сеййиду Са’иду. Даже проживавшие по соседству с Ибри арабы и те, по словам Уэллстеда, сказывали ему, что, отправляясь туда, надо было быть либо вооруженным до зубов и максимально осторожным, либо притворившись нищим.
Через Ибри, город крепостей и фортов в речи историков, пролегали когда-то оживленные караванные пути, связывавшие разные части Аравийского полуострова.
Неизгладимое, судя по всему, впечатление произвело на Джеймса Уэллстеда и пребывание в племени бану абу хасан. Мужчины этого племени, сообщает он, с подчеркнутым вниманием относились к своим волосам. С рождения и до смерти ни разу их не стригли, и они отрастали у них до пояса. Во время передвижений по пустыне, располагаясь на ночлег под открытым небом, непременно лицом к звездам, вещи свои складывали в вырытую ими ямку. Засыпав ее, и расстелив сверху плащ-накидку, спокойно засыпали. При этом щит клали под голову, а меч и фитильное руже – по бокам, чтобы в случае возникновения опасности можно было сразу же воспользоваться оружием.
Путешествуя по району Джабаль-эль-Ахдар, Джеймс Уэллстед видел, как местные жители «доставляли себе удовольствие вином». Изготавливали его, и в большом количестве, из произраставшего там винограда. В оправдание говорили, что так поступали и их предки, борясь с «холодом гор».
Продолжая повествование о запретных для мусульман хмельных напитках, Уэллстед упоминает о том, как, будучи в Низве, хозяин жилища, где он останавливался на ночлег, потчевал своего гостя непонятно откуда взявшимся у него бренди; и сам пил его вместе с ним без стеснения. Крепкие хмельные напитки, пишет Уэллстед, попадали в земли Внутреннего Омана из Маската, куда их, в свою очередь, завозили контрабандой, и в большом количестве, на судах из Индии. Рассказывает, что в тех городах Омана, в окрестностях которых произрастал сахарный тростник, оманцы гнали из его отходов дововольно посредственный ром, но и он находил сбыт.
Ведя речь об оманских женщинах, Уэллстед замечает, что лиц своих, за исключением жительниц Маската, они в большинстве своем не скрывали. Что же касается Маската, то и там носили черные тонкие вуали, закрывавшие лишь нижнюю часть лица. Маски (бурги) и чадры, как в соседнем, к примеру, Хадрамауте, не надевали. В целом отзывется о женщинах Омана как о созданиях стройных, рослых и хорошо сложенных. С восхищением говорит о бедуинках, с большими, как он их рисует, сверкающими и живыми глазами, орлиными носами, ртами правильной формы и белоснежно-жемчужными зубами. Называет бедуинок Омана красивейшими из женщин Южной Аравии. В обычае у них, пишет он, было украшать части тела, кисти рук и стопни ног рисунками хной.
Женщины в Омане, свидетельствует Уэллстед, принимали активное участие в жизни их семейно-родовых и родоплеменных кланов, а во времена межплеменных розней и войн проявляли завидные мужество и отвагу. Наравне с мужчинами участвовали в защите своих земель, в обороне фортов и крепостей. Приводит, в связи с этим, интересные сведения об упоминавшемся уже нами выше племени бану бу ‘али, которым в отсутствие вождя управли его жена и сестра.
Отмечает, что бедуинки-оманки проявляли нескрываемое любопытство по отношению к странникам-чужеземцам, торговцам и путешественникам. Так, находясь в Ибри, в гостях у одного из тамошних шейхов, и возвратившись после встречи с ним в свой шатер, он неожиданно обнаружил, что в нем – полным-полно любознательных женщин. Все сундуки с его личными вещами они пооткрывали и тщательно, по его выражению, исследовали. Были увлечены настолько, что когда он попытался сказать им что-то, то несколько женщин подошли к нему и прикрыли его рот руками, дабы помолчал гость и не мешал им знакомиться с мужскими аксессуарами европейца. Ближе к вечеру «дамы» удалились, но тут же их место заняли старейшины племени и сопровождавшие их молодые люди, буквально засыпавшие его вопросами.
Наблюдая за торговыми сделками на рынках Омана, Уэллстед взял на заметку «один интересный восточный обычай», как он его называет, который часто пускали в ход торговцы-оманцы в переговорах с купцами-иноземцами, а именно: ведение двух-трехчасовых ценовых схваток. Выстоять в них мог только хорошо натренированный в этом деле хитрый и лукавый араб, заключает Уэллстед.
В землях Аш-Шамал (нынешние ОАЭ), где также побывал лейтенант Уэллстед, первым приютило его у себя племя бану абу амр. Несмотря на то, что и оно в свое время пострадало от действий англичан (вследствие предпринятой ими карательной экспедиции против племен кавасим), встретили там чужеземца приветливо. Немалую роль в этом сыграло то, что на руках у него имелось рекомендательное письмо правителя Омана. Надо сказать, что и сам Уэллстед умел находить общий язык с арабами Аравии. Искренне интересовался их обычаями, что, конечно же, не могло остаться ими незамеченным. Для гостя разбили шатер. Даже поставили почетный караул у входа, а вечером устроили дийафу, то есть празднество (высший у бедуинов знак внимания к чужеземцу). Неизгладимое, судя по всему, впечатление произвел на лейтенанта мужской военный танец – с «подбрасыванием в воздух обоюдоострых мечей, длиной не менее трех футов» (около 92 см.).
Сопроводив Уэллстеда до границ своих земель, начальник почетного эскорта из племени бану абу амр передал его под опеку бедуинов из племени бану джанаба. Воинов в нем насчитывалось, по оценке лейтенанта, не менее 3500 человек. Состояло оно из двух крупных родоплеменных кланов, один из которых занимался рыболовством, а другой – сопровождением торговых караванов. Кланы эти, что абсолютно не характерно для крепко спаянных внутри себя аравийских племен, друг с другом практически не общались. «Сыны пустыни», то есть бедуины-кочевники, «людей, живших морем», сторонились. Браков между собой не заключали. Совместных маджалисов (встреч) и гуляний не устраивали. Объединялись и сливались воедино лишь тогда, когда надо было противостоять нависавшей над ними угрозе со стороны тех или иных несоюзных с ними племен.
Владения Омана, рассказывает лейтенант Уэллстед простирались тогда вдоль побережья от Дофара до нынешнего эмирата Абу-Даби. Коренное население страны представляли два крупных межплеменных союза – гафири и хинави.
Побывал Джеймс Уэллстед и в оазисе Эль-Бурайми, где располагался в то время форпост ваххабитов. Исследовал и описал Хисн-эль-Гураб (Воронье гнездо), крупный некогда торговый центр Оманского побережья. В 1835 г. в одном из городов Омана столкнулся на улице с лейтенантом Уайтлаком, еще одной яркой личностью из списка исследователей земель Южной Аравии.
Крупным открытием, сделанным лейтенантом Уэллстедом в Южной Аравии, стали обнаруженные им в соседних с Оманом землях Хадрамаута, принадлежащих Йемену, развалины древнего замка (Накаб-эль-Хаджр). Камни в окружавшей его мощной защитной стене с двумя сторожевыми башнями были уложены так плотно, что между ними не проходило даже лезвие ножа. Так вот, на стенах этого руинированного замка он увидел и скопировал старинные письмена. Буквы неизвестного ему алфавита (химйаритского, как потом выяснилось), величиной в 8 инчей (20 см), позволили ему воспроизвести их с абсолютной точностью[27 - Bayard Taylor, Travels in Arabia, New York, 1892, p. 40-42, 55; James Raymond Wellsted, Narrative of a Journey into the Interior of Oman in 1835, Journal of the Royal Geographical Society, 7 (1837), p. 102-113; James Raymond Wellsted, Travels in Arabia, London, 1838, vol. I, p. 7, 12-19, 21,22, 33, 52, 53, 59, 63, 101, 105, 110, 111, 120, 143, 144, 338, 344, 351-354.].
Весомый вклад в описание земель Омана внесли экспедиции английского брига «Palinurus», исследовавшего в 1833–1846 гг. южное и юго-восточное побережья Аравии. Одним из участников этих экспедиций был капитан Стаффорд Хэйнс, назначенный впоследствии первым политическим агентом Англии в колонизованном британцами Адене (проработал на этой должности 15 лет, с 1839 по 1854 гг.).
В своих заметках о Южной Аравии капитан Хэйнс рассказал, в частности, о Дофаре, крае плодородном и богатом, издревле известном торговлей благовониями. О мужчинах Дофара он отзывается как о людях невероятно смелых и отважных, умевших обращаться с оружием и хорошо подготовленных для схваток с противником на мечах и кинжалах. Пишет, что внешне они привлекательны и хорошо сложены, а женщины их – стройны и красивы. Отмечает, что, в отличие от жителей гор, обитатели долин в Дофаре робки и боязливы, и заядлые курильщики.
Упомянул он и об острове Халланиййа, единственном в его время обитаемом острове группы островов Куриа-Муриа (Джузур Хурийа Мурийа). О жителях тамошних С. Хэйнс сообщает, что были они мирными и безобидными, и очень бедными. Многие из них называли себя слугами пророка (наби) Салиха ибн Худа, и жили за счет подаяний гостей порта, торговцев и мореходов[28 - Stafford Bettesworth Haines, Memoir of the South and East Coast of Arabia, Journal of the Royal Geographical Society, 15 (1845), p. 117, 120, 130, 134, 135.]. Согласно сказаниям, далекие предки этих людей поселились на островах Куриа-Муриа в незапамятные времена. Перебрались туда из Хадрамаута, куда пришли вместе с пророком Худой, которого Господь посылал к ‘адитам, «арабам первородным» или «арабам утерянным», автохтонам Аравии, дабы наставить их на путь истинный. Те из них, кто внял проповедям пророка Худа и уверовал в Бога Единого, спаслись. Все другие погибли. Истребил их, говорится в Коране, ураган страшный и «крик ужасный, коим Бог разразился с небес».
К сведению читателя, капитан Стаффорд Хэйнс, став губернатором Адена, сделал немало, чтобы превратить этот древний город на морском пути в Индию в хорошо укрепленный военно-сторожевой пост Британской империи в Южной Аравии. Особо преуспел, на что обращает внимание Гордон Вотерфилд в своей увлекательной книге «Султаны Адена», в налаживании широкой сети агентов-осведомителей. Использовал в этих целях еврейские коммуны, разбросанные по всей территории Йемена и портам соседнего с ним Омана. Личный интерес многих из этих агентов, сообщавшим своим соотечественникам в Аден, на непонятном арабам иврите, обо всем, что происходило в местах их проживания, заключался в гарантированной им Хэйнсом защите их собственности, которую они приобретали в Адене.
За те годы, что он управлял Аденом, город сделался местом бойкой морской торговли. Будучи, однако, морским офицером, а не градоначальником, и не имея влиятельных друзей в английской администрации в Индии, Хэйнс регулярно выслушивал обвинения в свой адрес в расточительстве и небережливости. Чиновники в Бомбее, взирали на Аден, как на некое «бремя», ежемесячно обходившееся казне в 150 тыс. фунтов стерлингов. И хотя деньги эти шли в основном на содержание базировавшегося в Адене военного гарнизона, вопросов к Хэйнсу с их стороны имелось немало. Когда же очередная проверка финансов Адена выявила нехватку средств в размере 28 198 фунтов стерлингов, то Хэйнса отозвали в Бомбей, отдали под суд и посадили в тюрьму. Провел он в ней долгие шесть лет. Позже выяснилось, что деньги были потрачены на приобретение лояльности шейхов племен, дабы они не препятствовали каравнной торговле Адена с Йеменом, Хадрамаутом и Дофаром. По распоряжению нового генерал-губернатора Бомбея Стаффорда Хэйнса освободили. Вышел он на свободу 9 июня 1860 г. Подхватил дизентерию, и умер (16.06.1860), в возрасте 58 лет, на боту торгового английского судна, стоявшего на рейде в порту Бомбея и готовившегося к отплытию в Англию. Похоронили С. Хэйнса в Бомбее. На надгробной плите, пишет Горден Вотерфилд, указаны только имя и дата смерти. Но истинным «мемориалом» С. Хэйнса стало его наследие в Адене[29 - Gordon Waterfield, Sultans of Aden, London, 1968, p. 205, 209, 240; Сенченко И. П. Йемен. Земля ушедших в легенды именитых царств и народов Древнего мира. СПб, 2019. С. 315-336.].
Оставили воспоминанмя об Омане и три других участника английских экспедиций к берегам Южной Аравии на бриге «Palinurus» – топографы Чарльз Краттенден и Чарльз Коул, и хирург Генри Джон Картер.
Первый из них, Краттенден, во время стоянки судна в Мирбате, старинной столице Омана, известной в IX в. своим рынком лошадей, благовоний и невольников, проследовал в сопровождении двух бедуинов из племени бану кара в район Дхариз, что в провинции Салала. Познакомившись с жизнью и бытом жителей того края, был весьма удивлен и тронут их гостеприимством. Ибо до поездки туда слышал о них много дурного. На деле же все оказалось иначе. Выяснилось, что те слухи, что гуляли о них, в том числе о враждебном отношении к чужеземцам, они распускали сами – в целях самозащиты. В поселении Сагха, рассказывает Краттенден, местный вождь поселил его в своем жилище. Предложил сытный и вкусный обед, состоявший из вареной баранины и риса, и напоил кофе с финиками и медом[30 - Charles J. Cruttenden, Journal of an Excursion from Morbat to Dyreez, the principal town of Dofar, Transections of the Bombay Geographical Society, 1, p. 185, 186.].
Лейтенант Коул прошел в 1845 г. от Эль-Ашхары (небольшой городок в провинции Эль-Шаркийа) до Маската. Побывал в Эль-Бидиййа, Манахе, Низве, Джабаль-эль-Ахдаре и Сумаиле. Путешествовал инкогнито, выдавая себя за араба Салима. В Джалане чуть было не задохнулся, поперхнувшись молоком, которым его угостил хозяин дома, где он остановился на ночлег. Многие оманцы, свидетельствует Коул, владели тогда рабами, но относились к ним по-доброму. Жители Джабаль-эль-Ахдара употребляли с пищей изготавливаемое ими виноградное вино.
По пути из Низвы в Маскат лейтенант провел ночь в барасти (хижине из пальмовых ветвей), располагавшейся в окрестностях села Митти. В большинстве населенных пунктов Омана, замечает он, имелись в то время специальные, отдельно стоявшие, строения для путников, где те могли бы останавливаться на отдых[31 - C.S.D. Cole, An Account of an Overland Journey from Leskkairee to Muscat and the “Green Mountain” of Oman, Transections of the Bombay Geographical Society, 8 (1847-1848), p. 106–119.].
Генри Джон Картер, находясь в Дофаре, внимательно осмотрел руины городища Эль-Билад. И пришел к выводу, что город этот был построен не дофарцами, а кем-то из более развитых цивилизаций Древней Аравии. Возможно даже – сабейцами, на что указывали сохранившиеся в Эль-Биладе статуи[32 - Henry John Carter. The Ruins of El Balad, Journal of the Geographical Society, 16 (1846), p. 187–199.].
Интересные заметки о Хадрамауте и Дофаре, а также о некоторых городах-портах на Оманском побережье принадлежат перу Адольфа фон Вреде, баварского барона-путешественника. В 1843 г. он на самбуке, аравийском паруснике, добрался из Адена до Эль-Мукаллы, небольшого тогда портового городка на территории нынешнего Йемена. Голове тамошнему во время аудиенции заявил, что цель его приезда – побывать в Хадрамауте и поклониться могиле пророка Худа, пытавшегося по воле Творца и Господина миров вернуть ‘адитов, «арабов утерянных», автохтонов Аравии, на путь истинный – убедить их поверить в Бога Единого. Узнал же он о пророке Худе, чудесах его, и уверовал в силу, дарованную ему Господом, находясь на службе в Египте, где выучил и арабский язык. Когда же заразился там чумой, то воззвал к пророку Худе о помощи, и дал обет совершить – в случае исцеления – паломничество в земли ‘адитов и поклониться праху пророка на его могиле.
Во время ужина в доме губернатора Эль-Мукаллы, вспоминал фон Вреде, он едва не рассмеялся, когда мясной бульон ему подали в «емкости», предназначенной в Европе совсем для иных целей, – в ночном горшке внушительных размеров, разрисованном синими цветочками. Слуга, обслуживавший фон Вреде, поведал, что «сосуд» этот, считавшийся в жилище губернатора «украшением стола», один из местных торговцев получил в подарок от капитана английского судна, занимавшегося доставкой его товаров из Индии. И тот, в свою очередь, передарил горшок этот губернатору[33 - Аравия. Материалы по истории открытия. М., 1981. С. 195.].
Жители Дофара и Хадрамаута, как следует из заметок фон Вреде, «питали отвращение» к мужчинам с рыжими волосами. Причиной тому – легенды седой старины. В них говорится о том, что когда Творец послал к народу самуд, одному из колен «арабов первичных», пророка Салиха, дабы наставил он самудитов, погрязших в пороках, на путь праведный, то потребовали они от него чуда – в знак подтверждения всемогущества Бога, от имени которого он к ним обращался. И тогда пророк Салих проследовал с ними к скале, «раскрыл ее и вывел оттуда верблюдицу, тут же разродившуюся верблюжонком». Совершив то, о чем просили его самудиты, пророк Салих предостерег их, чтобы не причиняли они вреда той верблюдице с ее верблюжонком, ибо постигнет их тогда кара небесная, и обрекут они себя на погибель.
Несмотря на его предупреждение, один из них, некто Кедар, по прозвищу Ахмар (Рыжий), стрелой из лука все же убил верблюдицу. И самудитов не стало. Сделались они «народом утерянным». Были погублены Богом за ослушанние. С тех пор и повелось в Хадрамауте и Дофаре, а потом и повсюду в Аравии, считать всякого рыжеволосого – человеком, сулящим несчастье. «Злополучный, как рыжий Кедар», – скажет и сегодня оманец по адресу мужчины, приносящему своему роду и племени одни неприятности, напасти и невзгоды[34 - Сенченко И. П. Аравия. Фрески истории. СПб, 2016. С. 41, 42.].
Оставив Эль-Мукаллу, фон Вреде проследовал через Дофар в Хадрамаут, к гробнице пророка Худа. Когда до заветной цели оставалось всего лишь несколько часов пути, дорогу ему преградили бедуины, и заставили повернуть назад.
Бывал он и в землях Аш-Шамал, подвластных тогда Оману. Посетил даиру (места обитания) крупного племенного объединения бану йас, то есть территорию нынешнего эмирата Абу-Даби (ОАЭ).
По пути из Омана в Аден, в городке Сифа, что на Оманском побережье, будучи заподозренным в выполнении тайной миссии по сбору сведений о тамошних фортах и племенах, едва не лишился жизни. Оказался в тюрьме. Смог выбраться; за деньги, конечно. Путевые заметки, изъятые у него при обыске, бесследно исчезли. Чудом удалось сохранить, спрятав на теле, список химйаритских царей, полученный от одного из «просвещенных шейхов», а также надписи, скопированные им во время путешествия по Южной Аравии «с одной из царских гробниц».
Возвратившись в Аден, фон Вреде подготовил обстоятельную записку о своих похождениях в Аравии. Столкнувшись в порту Адена с известным уже читателю капитаном Стаффордом Хэйнсом, попросил его передать все эти материалы в Королевское Географическое Общество в Бомбее, что тот и сделал. Более того, лично выступил с докладом на заседании этого общества от имени фон Вреде. Изложил и собранные им самим сведения об Аравии.
Известно, что фон Вреде, завербовавшись в турецкую армию, хаживал с ней в Асир (Йемен) и Джидду. Оставив службу, перебрался в Константинополь, где прожил последние годы жизни в бедности и нищите, и умер на больничной койке.
Фон Вреде был первым из европейцев, кто описал «песчаные топи» Большого Нефуда, то есть самые вязкие и непроходимые места в этой пустыне. Бедуины Аравии величают их «царством духов-хранителей пустыни», местом – «запретном для всего живого», и для людей, и для животных. Одна из таких «топей» – Море Сафи. Легенды гласят, что жил когда-то царь Сафи, воинственный и отважный. И задумал он пройти великую аравийскую пустыню, и неожиданно напасть на врагов оттуда, откуда его никто не ждал – со стороны «песчаных топей». Но как только ступил он во владения духов и потревожил их, белые пески тотчас же разверзлись и заволокли в недра свои и самого царя, и его войско[35 - Сенченко И. П. Арабы Аравии. Очерки по истории, этнографии и культуре. СПб, 2015. С. 52–54.].
В 1850 г. во время хождений по делам служебным в Персию и на Цейлон в Маскате останавливался известный английский путешественник-арабист Роберт Биннинг (1814–1891). Он состоял в штате администрации Ост-Индской компании в Мадрасе. В 1845–1852 гг. посетил Сирию, Египет, Палестину, Цейлон, Персию, Оман и Персидский залив. Внес заметный вклад в ориенталистику. Собрал уникальную коллекцию из 140 древних арабских манускриптов (в 1877 г. подарил ее институту в Эдинбурге).
Повествуя об Омане времен сеййида Са’ида ибн Султана из династии Аль Бу Са’ид, отмечал все еще сохранявшуюся тогда в стране «патриархальную», как он ее называет, систему правления. Народ Омана, по его словам, владыку своего любил и ценил, а правители и жители земель соседних его уважали и дружбой с ним дорожили.
О Маскате, городе с кривыми и узкими, и далеко не чистыми улочками, Роберт Биннинг отзывается, как об одном из самых жарких мест, где ему довелось побывать. Находясь в Маскате, он, судя по всему, был крайне удивлен тем, что британским агентом там служил еврей, к которому местные арабы относились, тем не менее, почтительно[36 - Robbert Binning, A Journal of Two Years Travel in Persia, Ceylon, Etc., 2 vols, London, 1857, p. 123-129.].
В 1856 г. Оман посетил Чарльз Расбоун Лоу (1837–1918), офицер английского флота, историк и писатель, автор около десятка книг. Находясь в Маскате, встречался и беседовал с сеййидом Са’идом ибн Султаном, правителем этой страны, перенесшим столицу своих владений на Занзибар. Был он уже тогда в преклонном возрасте, но, как и прежде, оставался человеком здравомыслящим и прозорливым. Все c тем же повышенным вниманием относился к развитию торговых связей Омана с внешним миром и к наращиванию оманского флота, торгового и военного.
Упоминая в своих путевых заметках о Маскате, Чарльз Лоу писал, что, если смотреть на город с борта судна, при входе в гавань, то выглядит он довольно привлекательным. Но мнение о нем резко меняется, когда сходишь на берег и оказываешься на улочках Маската, запущенных и убогих.
Что касается арабов Омана, сказывал он, то они представляли собой расу, в которой переплелись в тугой узел добро и зло, правда и ложь, первородная чистота людская и наносные пороки – коварство, вероломство и мошенничество. Оманцев, делится своим мнением о них Чарльз Лоу, отличала «звериная отвага», ненависть и жестокость по отношению к врагам[37 - Charles Rathbone Low. The Land of the Sun, London, 1870, p. 178-203.].
В том же 1856 г. в Омане побывал Уильям Эштон Шеферд, оставивший заметки о Маскате, его улочках и рынке. Сойдя на берег, путешественник, по его словам, обнаружил абсолютно голый от зелени город; зелеными там были только тюрбаны местных жителей, да редко встречавшиеся того цвета одежды. Проследовав через узкие ворота, он оказался на тесном, переполненном людьми рынке, рассказывает Шеферд. У входов в лавки, скрестив ноги и покуривая кальяны, восседали на разостланных ковриках торговцы. В наиболее бойких местах рынка «сидели на корточках, крепко сжимая в руках мушкеты», солдаты-белуджи, служившие наемниками у султана. Повсюду сновали «босоногие женщины с закрытыми лицами», да черные, как «эбеновое дерево», рабы, безбоязненно толкавшие встречавшихся им на пути европейцев локтями, зная, что им за это ничего не будет. Бегали и галдели звонкоголосые мальчишки в лохмотьях, останавливаясь и тыча пальцами в попадавшихся им на глаза неарабов-чужеземцев. На тесных и грязных улочках, шедших к рынку, то и дело попадались собаки и кошки, куры и овцы, отбросы и нечистоты[38 - William Ashton Shepherd, From Bombay to Bushir, and Bassora, Including an Account of the Present State of Persia, and Notes of the Persian War, London, 1857, p. 43-58.].
Одно из нашумевших в свое время повествований об Аравии вообще и об Омане в частности принадлежит Уильяму Джиффорду Пэлгреву (1826–1888). Экспедицию в Аравию (1862–1863), выдавая себя за врача, он предпринял при финансовой поддержке Наполеона III (1808–1873), племянника Наполеона I.
В увлекательном рассказе о путешествии по Центральной и Восточной Аравии Пэлгрев поведал о своем пребывании в Хаиле и Эр-Рияде. Написал яркий портрет повседневной жизни населения оазисных городов Неджда (Наджда). Поделился впечатлениями о посещении им Катара и Бахрейна, шейхства Шарджа на «Побережье пиратов», а также Ормуза, Сохара (Сухара) и Маската.
Шарджу, входящую в наши дни в состав Объединенных Арабских Эмиратов, и Ормуз путешественник посетил по пути из Катара в Оман. Утром 16 февраля 1863 г., сообщает он, перед его глазами предстал «Оманский берег». Судно проследовало в гавань Шарджи. Одежда местных жителей состояла из «широкой, спускающейся до колен, иногда окаймленной бахрамой, белой простыни, обвернутой вокруг поясницы, и светлого тюрбана или цветного индийского платка, повязанного вокруг головы».
Владелец жилища, в котором остановился путешественник, местный житель ‘Аббас, занимался «торговлей овощами». Дом его, из «дерева и соломы», обустроен был в целом неплохо, а те недостатки, что в нем имелись, «сглаживались гостеприимством хозяина, доходившим до расточительности».
Все то время, что он находился в Шардже, путешественник, по его словам, «проводил в визитах, обедах и ужинах». Казалось, что жители Шарджи, пишет Пэлгрев, у которых он бывал в гостях, старались доказать на деле справедливость тех слов и отзывов о шарджийцах, что он слышал повсюду в Аравии, как о людях общительных и гостеприимных.
Обратил внимание Пэлгрев и на то, что пищу, которой его угощали в Шардже, ставили перед ним «не сваленной в кучу» на одном огромном медном подносе, как в Неджде, а каждое блюдо подавали раздельно.
20 февраля, сообщает Пэлгрев, их судно покинуло Шарджу и взяло курс на Ормуз. Легендарный и «знатный некогда своей торговлей» Ормуз, «бриллиант на золотом кольце мира», как о нем отзывались купцы и негоцианты во всех концах света, представлял собой груду развалин, живописную мозаику из остатков некогда красивых домов, бань и храмов. Мощные фортификационные сооружения Ормуза, хорошо укрепленные во времена владычества в зоне Персидского залива португальцев, были порушены. Неподалеку от руинированного форта, «в сотне или более жалких землянок», ютились местные жители, рыбаки и пастухи. Знаменитый в прошлом городской рынок являл собой жалкое зрелище. На нем имелся всего лишь один навес, укрывшись под которым, несколько человек торговали финиками, виноградом и табаком. Вот и все, что осталось от Ормуза, одного из ключевых в прошлом центров торговли Востока, заключает Пэлгрев.
Проведя три дня на Ормузе и переждав там шторм, путешественник проследовал на судне к побережью Омана. 3 марта 1863 г. прибыл в Сохар (Сухар). Намеревался двигаться оттуда с торговым караваном в Маскат. Но его убедили идти морем. И когда Маскат был уже виден невооруженным глазом, говорит он, неожиданно налетела буря. Волны опрокинули корабль, и он затонул. Погибли пять пассажиров и один матрос – «ушли на дно вместе с судном». Пэлгрев спасся. Но вот багаж его, с дневниками и путевыми заметками, не сохранился.
Уцелевшие пассажиры и члены экипажа, всего 12 человек, двигаясь вдоль побережья, вышли к резиденции правителя, сеййида Сувайни ибн Са’ида. Встречу с ним, проходившую в этой самой резиденции в Матрахе, Пэлгрев описывает так. Одет сеййид Сувайни «был хорошо, даже роскошно» – в длинную до пят белую рубаху, расшитую цветными узорами. Голову его венчала «белая кашмирская чалма, украшенная бриллиантами». За поясом красовался великолепный кривой кинжал, ханджар, в богатых ножнах, расшитых золотыми нитями и богато убранных драгоценными камнями. Сложения владыка Омана был крепкого; «красив лицом», приветлив и остроумен. «Добродушие и любовь его к наслаждениям», замечает Пэлгрев, проявлялись во всем – в манерах, в речи и в поведении. Рядом с ним во время той памятной аудиенции находился «темнолицый мальчик, сын султана от аббисинки-наложницы».
Повествуя об Омане, где он оставлся до 23 марта, Пэлгрев отмечает, в частности, что женщины там были «более открытыми», как он выражается, чем в Неджде, скажем, или на Бахрейне. Свободно покидали дома, и, не стесняясь, разговривали с иноземцами. В общем, нисколько не походили на женщин Неджда, того же Хаиля и Эр-Рияда, «запуганных и безмолвных».
Рассказывая о женщинах тех мест в Аравии, где ему довелось побывать, Пэлгрев оценивает их по своей, выстроенной им на основе собственных наблюдений, многоступенчатой шкале аравийской красоты, как он ее называет. Красивыми и стройными в его описании предстают уроженки Эль-Хасы и Омана.
Будучи в Сухаре (Сохаре), Матрахе и Маскате, Пэлгрев в беседах с чиновниками и торговцами тамошними, дабы оградить себя от подозрений всяческих, говорил, что главная цель его пребывания в Омане – это «отыскание чудодейственных трав и снодобий лекарственных», о которых сказывали ему купцы французские, хаживавшие в земли Омана.
Находясь в Аравии, Пэлгрев, как считают некоторые историки, выполнял одновременно и поручение Папы Римского, как миссионер римско-католической церкви (известно, что он был тесно связан с орденом иезуитов), и специальное задание Наполеона III, как офицер-разведчик. Представляется, что такие предположения не лишены оснований. Ко времени начала экспедиции Пэлгрева (1862), когда стало известно о строительстве Суэцкого канала, интерес Франции к Аравии, особенно к Маскату, заметно усилился. Думается, что, финансируя поездку Пэлгрева в Аравию, император Франции имел целью из первых рук получить информацию о внутриполитической ситуации в Хиджазе и Неджде, равно как и о расквартированных там военных силах турок, и о влиянии ваххабитов. Интересовали его и достоверные сведения о семейно-родовых кланах, правивших в шейхствах Аравии, в том числе и в Омане, и о деятельности крупных государств мира в бассейнах Персидского залива и Красного моря. Примечательными в этом плане являются заметки Пэлгрева о Бахрейне. Англичане и французы, пишет он, были там «известны». Немцы и итальянцы все еще «не имели места в бахрейнском словаре». Голландцы и португальцы – «преданы забвению», а вот «москови» (московиты) в речи бахрейнцев, то есть русские, – «столь же известны, как и страшны»[39 - Пальгрэв, Джиффорд. Путешествие по Средней и Восточной Аравии. СПб, 1875. С. 415-433; Hogarth, D.G. The Penitration of Arabia: A Record of the Development of the Western Knowledge Concerning the Arabian Peninsula, NewYork, 1904, p. 127-279.].
В 1889 г. Маскат и 1895 г. Дофар посетили Джеймс Теодор Бент (1852–1897), английский путешественник и археолог, и его жена Мэйбл. Исследования и археологические раскопки, что они провели в Йемене и в Омане, позволили им открыть и нанести на карту легендарные пути благовоний, пролегавшие по землям Южной Аравии.
Делясь своими впечатлениями о Маскате, его древних, как сам этот город, рынках, тесных, крикливых и грязных, Джеймс Теодор Бент замечает, что видел там, как обожаемую им и его супругой халву оманскую месили и взбивали ногами в огромных чанах рабы-африканцы. И что после этого от халвы, когда им ее предлагали к кофе, они деликатно отказывлись.
О тогдашнем правителе Омана, сеййиде Са’иде, путешественник сообщает, что был он в ту пору «болен и слаб», и всеми делами в землях Омана ведал Файсал ибн Таймур. Любого человека по его повелению могли предать смерти, «бросив в клетку со львом», или же, «разрубив на части», скормить акулам в море[40 - James Theodor Bent, Southern Arabia, London, 1900, p. 58, 63.].
Первым европейцем, посетившим наглухо закрытые для них, и довольно долго, земли Внутреннего Омана, стал итальянский доктор Винченцо Мауризи. В период с 1809 по 1814 годы, состоя на службе у правителя Омана, сеййида Са’ида ибн Султана, он побывал в Шинасе и в некоторых других городах Внутреннего Омана.
После окончания службы издал (в Лондоне, в 1819 г.) воспоминания об Омане, под названием «История сеййида Са’ида». Изложил в них интересные сведения о Шинасе, к примеру, Эль-Сувайке и Рустаке[41 - Vinchenzo Maurizi, History of Seyd Said Sultan of Muscat, 2
edition, Cambridge, 1984.].