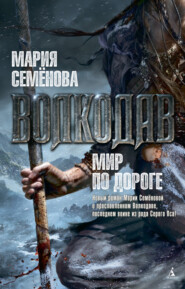
Полная версия:
Мир по дороге
– Ношу, но не на руке, а лишь в сумке, поскольку у меня нет на него законного права, – по-прежнему шёпотом, останавливаясь передохнуть, выговорил халисунец. – Я всего лишь нерадивый сын пекаря… – Он шевельнул рукой с зажатым в ладони браслетом. – Госпожа, ты бросишь его в глубокое озеро, если Лан Лама унесёт Иригойена, младшего в роду Даари?
Айсуран вздрогнула и потянулась к нему, словно приготовившись защищать Иригойена от халисунского провожатого душ, вздумай тот прямо сейчас явиться перед ними в свете костра.
– Думается, Праведные Небеса твоей веры тебя всё-таки подождут, – поворачивая палочки другим боком, усмехнулась мать Кендарат. – Ну а ты, почтенная сестра моя? – обратилась она к горянке. – Можем ли мы как-то утолить нужду, выгнавшую тебя из-под крова?
Хлебные колбаски вовсю подрумянивались, испуская самый лучший, по мнению Волкодава, запах на свете. Нелетучий Мыш уже перебрался хозяину на колено и откровенно облизывался, жадно шевеля носом.
– Я ходила помолиться у святой могилы неподалёку, – тихо ответила Айсуран. – И мне даже показалось, что Богиня, Зрящая на Лозы, меня услыхала…
– По ночным горам! – неодобрительно качнула головой Кан-Кендарат. – В одиночку! Должно быть, зря врут люди, будто в ваших краях не слишком спокойно?
Горянка улыбнулась:
– Сама ты не так ли странствуешь, почтенная госпожа?
– Милосердная Кан ограждает меня от опасностей, подстерегающих одинокого путника.
– Твоя Богиня могущественна, но и Заступница Саккарема умеет оградить Своё племя, – с достоинством ответила Айсуран. – Государь Менучер в самом деле ведёт бой с непокорными, так что многие боятся сюда заезжать. Однако мой народ никто не трогал даже во дни Последней войны. Эти горы – наш дом, а чего мне бояться у себя дома?
Волкодав опустил глаза. Где оно, такое место, где мужчина может спокойно отправиться в путь, доподлинно зная, что в его отсутствие избу не сожгут и не ограбят враги, где женщина, встретив в ночных горах чужого мужчину, радушно и безбоязненно говорит ему «здравствуй»?
Волкодав очень хотел бы там жить… Он даже думал когда-то, что его родной дом и был этим сокровенным, Богами оберегаемым местом. Все дети так думают, если только судьба к ним хоть сколько-нибудь справедлива. Теперь ему трудно было поверить, что подобный край существует где-нибудь на земле. И он помнил испуг в глазах Айсуран, когда та смотрела на него после схватки с разбойниками.
Кан-Кендарат поудобнее устроилась на подстилке:
– Удивительные вещи говоришь ты, сестра. Племя, осенённое равной благосклонностью шада Менучера и его заклятых врагов! Должно быть, вы, подобно виллам, обитаете в орлином гнезде, до которого просто никому не добраться? Или так страшно мстите за любую обиду, что с вами предпочитают не связываться?
К некоторому удивлению Волкодава, Айсуран рассмеялась:
– Всё куда проще, почтенная госпожа. Даже мергейты Гурцата Жестокого понимали вкус вина и его цену. Дело в том, что Богиня вырастила дивную лозу, дающую урожай только в нашей долине. Если увезти черенки, они примутся, зацветут и принесут ягоды, но у гроздьев будет совсем другой вкус. Это знают и нынешний государь, и молодой Тайлар Хум, предводитель бунтовщиков. Вздумай они обрушиться на нашу деревню – и кто год спустя поднесёт им напиток, вызревший под землёй, в запечатанных дзумах?
Злокозненный разум тотчас подсказал Волкодаву ответ.Другие виноградари, которых можно будет поселить в ваших опустевших домах. Такие же умелые, только более покорные. Вслух подобные вещи произносить, конечно, не стоило, да он и не собирался.
Не очень понятное, но мощное внутреннее чувство заставило его тотчас отодвинуть эти мысли прочь, словно они, даже не будучи произнесены, могли накликать беду…
Судя по выражению лица, мать Кендарат подумала примерно о том же. Но вместо того, чтобы пуститься в спор с Айсуран, она неожиданно повернулась к венну.
– Ну а ты, малыш? – спросила она. – Кого нам благодарить за спасение?
Теперь на Волкодава смотрели уже все. Даже приоткрывший один глаз халисунец. Венну сделалось отчётливо неуютно. Может быть, оттого, что в голосе жрицы внятно прозвучала насмешка. Пока он соображал, что могла значить эта насмешка и как вообще отвечать, не сорвавшись снова на свист, странница вдруг добавила:
– Только не говори мне, будто в Самоцветные горы шёл надсмотрщиком наниматься. Драться ты не умеешь.
После этого отвечать расхотелось совсем, и Волкодав промолчал. Если бы у костра сидели одни мужчины, он, пожалуй, просто поднялся бы и ушёл. Благо начал этот путь в одиночку, никому не обещал подмоги и сам не ждал подставленного плеча. В особенности на первых же шагах. Однако он успел решить про себя, что проводит женщин и беспомощного сына пекаря до ближайшего поселения. Поэтому Волкодав просто уставился в костёр и остался сидеть.
Хватит и того, что голоса этих людей, превращённые причудливым эхом в зов матери, помешали мне в последний раз оглянуться на далёкие зубцы и должным образом покинуть их мир. Кажется, непотребство уже начало выходить мне боком. Схватка, кончившаяся отнятием жизни, распоротое плечо, изгаженная рубаха… Чего ждать назавтра, если так дело пойдёт?
Жрица вытащила палочки из земли и стала раздавать хлебные колбаски товарищам по ночлегу. Когда дошла очередь до Волкодава, он, не поднимая глаз, молча помотал головой.
– Вот и мой Кинап такой же молчаливый, – сказала Айсуран. – Прямо слова не вытянешь.
– Молчаливый мужчина всё же лучше болтающего без умолку, – рассудила мать Кендарат.
И не стала больше предлагать ему угощение.
На другой день солнце, неторопливо выплывшее из-за плеча горы, застало всех четверых уже в пути. Иригойену пришлось сесть на осла. Парень пытался уверять, что вполне сможет шагать своими ногами, но куда ему было против двух заботливых женщин! Теперь они, негромко беседуя, шли у головы ослика. Волкодав, навьюченный перемётными сумами матери Кендарат, замыкал шествие. Жрица собиралась нести свою поклажу сама, но он просто вскинул котомки на здоровое плечо и пошёл. Странница удивлённо – и опять почему-то насмешливо – подняла брови. Потом улыбнулась Нелетучему Мышу, тотчас взявшемуся обнюхивать сумки. Покачала головой, словно в чём-то усомнившись… И перестала обращать внимание на венна с питомцем.
Дорога вилась по северному склону долины. Напротив высилась отвесная, местами даже и нависающая круча высотой никак не меньше версты. По ней длинной полосой розовых лохмотьев тянулось облако, подкрашенное рассветом. И через каждые полсотни шагов, исчезая в этих лохмотьях и вновь показываясь внизу, падала с выступа на выступ белая от пены пряжа ручьёв. Таких же, как тот, вдоль которого Волкодав шагал накануне. Где-то выше таяли под летним солнышком ледники, уже невидимые с дороги. Венн никогда прежде здесь не бывал, но ему рассказывали: дальше ручейков будет становиться всё больше. Когда они станут рекой, надо будет идти против течения – до самой Дымной Долины. Там потоки не падали сверху, а били из-под земли, рождая могучий Сиронг.
Волкодав собирался побывать в Дымной Долине.
Туда из равнинного Саккарема караванами прибывали богомольцы – поклониться чуду Богини. В месте, где бывает много разных людей, легко разузнать, как добраться до деревни, называвшейся Дар-Дзума, то есть Звонкий Кувшин…
А ведь я целый год обдумывал это путешествие. Вероятно, только затем, чтобы с самого начала всё пошло не по замыслу. Я с первых же шагов заложил крюк далеко в сторону. Да ещё и прислушиваюсь на ходу, как отзывается плечо на каждый из этих самых шагов…
Вот бы знать, это я сам такое беспрочее[1] – или премудрые Боги испытывают меня, решая, достоин ли я Их помощи и водительства?..
Он вдруг подумал о том, а не были ли зарытые в землю кувшины, о которых рассказывала горянка, привезены из той самой деревни. Если так, значит всё к лучшему. Не придётся идти в Дымную Долину и говорить с чужими людьми. А плечо заживёт.
– Мы с Кинапом уже оставили позади молодость, но Богиня всё не улыбалась нашему ложу, – рассказывала Айсуран. – Люди помладше нас чаяли появления внуков, а мы никак не могли дождаться детей…
Не то чтобы мать Кендарат расспрашивала её. Просто жрецы любой веры очень хорошо умеют молчать. Как-то так, что сразу начинают казаться мудрыми и добрыми собеседниками, перед которыми хочется распахнуть душу.
– Потом моему мужу настал черёд отвозить вино в столицу, ко двору благородного Иль Харзака, отца солнцеликого Менучера, – продолжала словоохотливая Айсуран. – И я, конечно, отправилась вместе с ним, ведь не дело это – оставлять мужа без заботы и присмотра на целых пять месяцев! Ты согласна, почтенная?
Мать Кендарат улыбнулась.
– А ещё мне рассказывали о чудесах великого мельсинского храма, где под рукою Богини прозревают слепцы и бросают костыли хромоногие. Я понадеялась, что и мне может достаться частица Её благословения. Так случилось, что мой молчаливый Кинап свёл дружбу с главным поваром шада и стал советовать ему, какие блюда лучше подходят к нашим напиткам.
Уж не тот ли повар, подумалось Волкодаву, потом перечислял нам способы взбивания медовых яиц, пока мы лакомились рудничными крысами…
– Венценосный Иль Харзак радовался новым лакомствам и присылал на поварню знаки своей милости… Так и вышло, что вместо нескольких седмиц мы с Кинапом провели в Мельсине целых два года. Муж мой днями пропадал на кухне дворца, я же запомнила каждый мостовой камень на улицах, что вели к храму. И добрая Богиня услышала мои молитвы. Обратно домой мы вернулись уже с доченькой – Итилет.
Итилет. Ясноокая. Какое славное имя…
– Воистину щедрую Богиню чтит саккаремский народ, – кивнула мать Кендарат. – Ваша небесная покровительница знает, как сделать, чтобы хижина стала дворцом.
– Святое слово ты молвишь, добрая госпожа. Наша Итилет выросла умницей и красавицей. Никто из имеющих дочерей не взыскан от милостей Богини больше, чем мы.
– Никто из имеющих дочерей… – медленно повторила мать Кендарат. – Поправь меня, добрая Айсуран, если я превратно толкую ваши законы. Верно ли говорят люди, будто в Саккареме нажитое родителями наследуют лишь сыновья?
И умереть, имея лишь дочерей, всё равно что умереть бездетным, добавил про себя Волкодав. По глубокому убеждению венна, это был не закон, а сущее беззаконие, отдававшее святотатством.
– Верно, – вздохнула горянка. – Поэтому-то я и ходила украшать святую могилу. Вымаливать у Богини ещё и сына значило бы самым недостойным образом испытывать Её благосклонность. И я дерзнула молиться лишь о добром муже для моей Итилет. О славном парне, не нашедшем доли в отчем краю. Он пришёл бы к нам и стал ей супругом, а нам в нашей старости – почтительным сыном…
На этом Волкодав перестал слушать. Он дойдёт до деревни, и, может быть, горцы не сочтут за бесчестье сказать ему, где обжигались их подземные дзумы. Сколько уйдёт времени на то, чтобы задать вопрос и услышать ответ? Седмица, ну, две, вряд ли больше. Вникать в речи женщины, мечтающей ввести в дом наследника, было всё равно без толку. И вообще здешние дела никоим образом его не касались.
Дорога в очередной раз повернула, огибая каменный выступ. Её не зря устроили на бессолнечной стороне. Здесь дольше держался снег, но и ручьёв, готовых размыть хрупкий след человеческого труда, было поменьше.
– А вот и Девичья Грудь! – вытянула руку горянка. – Она видна и у нас, но отсюда кажется ещё величавей. Смотрите, как её целует юный рассвет!
Волкодав вскинул глаза. Далеко на юге, вырастая из размытой пелены облаков, невесомо парили в воздухе два алых лепестка шиповника. Две почти одинаковые горы удивительно правильной формы розовели в свете нового дня.
Пещера. Дымный чад факелов. Крылатые тени, мечущиеся по стенам…
Рассвет в горах ласкает дальний склон,Как новобрачный – наготу девичью… —хрипит лежащий на полу человек.
Невольник по прозвищу Пёс стоит рядом с ним на коленях, упокоив его голову у себя на ладонях. Стоять так очень неудобно и больно, но Пёс не шевелится, потому что лежащий на полу умирает. А Пёс – пока ещё нет.
Сперва её ступни лобзает он,Оставив каждодневные приличья…Никто не знает, сколько лет стихотворцу. И какое имя он носил в далёкой иной жизни. Попав в рудники, он, по примеру большинства, взял себе какое-то прозвище, но даже оно со временем стёрлось, потому что его стали называть просто Певцом.
Он давно уже не работник. Последние полгода он встать-то не может без посторонней подмоги, какое там рубить или оттаскивать камень. Его давно сбросили бы в отвал, но рабы прячут немощного, и господин Гвалиор им в этом потворствует. Многое в рудничной жизни шло бы ещё хуже теперешнего, если бы не господин Гвалиор.
Вот-вот его ладони обожгутОкруглые предгория коленей,А взор уже спешит туда, где ждутУщелья и таинственные тени…Костлявая грудь Певца с хрипом поднимается и опадает, он с мучительным усилием выталкивает каждое слово. Третьего дня сорвавшийся камень ударил его по спине, как вначале показалось – совсем несильно. Однако вскоре он перестал чувствовать ноги. Постепенно онемение расползлось выше, грозя добраться до сердца. И вот уже мгновения жизни Певца капают в пустоту, словно вода с векового нароста на своде пещеры.
Вся слава мира скрыта в тесной мгле.Творя свою священную работу,Рассветный луч восходит по скалеК преддверию божественного грота…Надсмотрщик Гвалиор стоит у входа в забой. Он с кем-то разговаривает, негромко, но уверенно и твёрдо, так, чтобы сразу было понятно: здесь всё присмотрено, всё идёт своим чередом.
У рудокопа по прозвищу Пёс на руках и ногах кандалы. Его считают опасным. Такая жутковатая слава не возникает на пустом месте, но сейчас по щекам Пса текут слёзы.
И наконец, как песня, в тишинеУже звенят ликующие крики,И гордо розовеют в вышинеАтласные нетронутые пики…Чуть приподняв голову, Пёс встречается глазами с другим каторжником, сидящим подле умирающего. Люди тут грязны до такой степени, что не сразу удаётся разобрать цвет кожи, но всё-таки видно, что Певец сжимает руку чёрного, как сажа, мономатанца. У невольника, бывшего когда-то вождём народа сехаба, на лице страдание. Они с Псом понимают один другого без слов. Они ещё помнят, что рассвет в горах не восходит от подножий к вершинам, а, наоборот, спускается с пиков в долины. Певец же – забыл.
«Мхабр!.. – из последних сил хрипит умирающий. – Как тебе… песня?»
Он судорожно хватает ртом воздух. Дыхание, о котором человек задумываться-то не должен, превратилось для него в тяжкую работу. Скоро она станет непосильной. Совсем скоро. Как только рождение песни окончательно состоится и напряжение отпустит его.
Пёс и чернокожий вновь переглядываются. Третий раб в забое, безногий калека, изо всех сил стучит по неподатливому камню молотком, чтобы тот, кого не пускает сюда господин Гвалиор, слышал: работа идёт. И правда всё под присмотром…
«Ты сложил прекрасную песню, друг мой, – тихо произносит мономатанец. – Мы будем помнить её».
– В чём же чудо вина, столь пришедшегося по вкусу солнцеликому шаду? – спросила любознательная мать Кендарат. Подумала и добавила: – Надеюсь, ты понимаешь, почтенная, что мы не подсылы, явившиеся выведать сокровенные тайны твоего народа?
– О да, – весело кивнула Айсуран, и Волкодав понял, что эта славная женщина чувствует себя в полной безопасности в обществе двоих малознакомых мужчин и удивительной странницы, не нуждающейся в защите от лиходеев. Айсуран же продолжала: – Должно быть, всё врут люди, болтающие, будто семена цветного халисунского хлопка были тайно вывезены из страны в долблёном посохе путешествующего жреца…
Сказав так, она, кажется, запоздало спохватилась, не наговорила ли при Божьей страннице лишнего, но Кан-Кендарат расхохоталась, ничуть не обидевшись. И даже Иригойен попытался улыбнуться непослушными, распухшими губами.
– Иные, впрочем, утверждают, – выговорил он, – будто мешочек с чудесными семенами был спрятан в роскошном платье высокопоставленной блудницы…
Теперь смеялись все, кроме венна. Причина их веселья упорно ускользала от Волкодава, зато он вдруг понял, что именно показалось ему неправильным в чертах этого парня. При вполне халисунских светлых волосах и голубых – насколько удавалось разглядеть сквозь заплывшие щёлочки – глазах у него было лицо мономатанца. Выпуклые скулы, форма лба, широкие ноздри, рисунок рта, излишне пухлого, на взгляд северянина… Влить бы в эту кожу глубокую медную черноту мибу или сехаба, получился бы благородный молодой вождь. Даже волосы не обязательно перекрашивать. Но черноте неоткуда было взяться, а без неё Иригойен выглядел неправильно и несуразно. Как тот рассвет, который напоследок восславил умиравший в подземелье Певец.
– Коли так, вы, полагаю, слышали, почтенные, – Айсуран обращалась уже к двоим собеседникам, – и о том, что дивные семена на чужбине плодоносили только белым волокном вместо пепельного, чёрного, золотого и красного. Похитители не смогли унести с собой ни тайны полива, ни умений потомственных земледельцев, холивших хлопковые поля!
Кан-Кендарат задумчиво кивнула:
– Стало быть, всё дело в вашем умении собирать виноград вблизи холодных вершин, где ему расти-то не полагалось бы?
– Предки наших предков, – стала рассказывать Айсуран, – те, что выстроили деревню, однажды искали заблудившуюся овцу… и увидели ещё выше в горах маленькую долину, надёжно укрытую от злого дыхания ледников, но распахнутую солнцу. Праотец, чьё имя для нас священно, решил, что в долине можно посадить лозы, но не так, как это делают люди низин. Богиня внушила ему мысль выдолбить для каждой каменную колыбельку, в которой лоза свивала бы себе гнездо. Так и было сделано. Лозы охотно росли и сворачивались венками, прячась от холода на груди скал. Но как раз когда пришла пора убирать созревшие гроздья, духи горных льдов наслали заморозок и обратили ягоды в лёд. Ибо, в отличие от некоторых соседей, жертвующих духам льдов и потоков, – с законной гордостью добавила Айсуран, – мы молимся только Матери. Временами духи мстят нам за нашу верность.
Волкодаву рассказывали о призраках, сотканных из снежной крутящейся пелены. От их прикосновения чернеют листья и живая плоть обращается в лёд. Он увидел, как горестно покачала головой мать Кендарат. Видно, тоже представила, каково это – стоять над загубленными трудами нескольких лет жизни.
– Однако Праотец был мудр и не привык падать духом, – приосанившись, продолжала горянка. – Это избалованные благами жители равнин склонны впадать в уныние по каждому пустяку, но нас не так-то просто вынудить опустить руки! Праотец велел сыновьям и внукам собрать заледеневшие гроздья и бросить их в давильню как есть. Получился сок, слаще которого люди не пробовали. Когда этот сок перебродил, выстоялся и набрал силу, родилось вино, розовое, как заря на Девичьей Груди, и душистое, словно мёд горных пчёл. Оно дарует веселье, красноречие и отвагу и никогда не наказывает ничтожеством похмелья. Это – благословение Богини, которым мы взысканы среди всех творящих вино. Пусть-ка тот, кто ревнует к милости солнцеликого Менучера, сперва попробует не то что превзойти наш напиток, – хотя бы повторить!
Мать Кендарат задумчиво проговорила:
– Судя по тому, как свободно ты рассказываешь о том, что зиждит спокойствие и достаток вашего племени, добрая Айсуран, перенять подобное искусство может лишь имеющий золотые руки и чистое сердце. А такому человеку и подсылов снаряжать незачем, он сам уже обрёл своё счастливое ремесло.
Осень щедро принарядила низкорослые кустарниковые леса. Корявые берёзки оделись в золото и вдруг стали ничуть не плоше стройных красавиц из родных чащ Волкодава. Мох на скалах хранил изумрудную зелень, мелкие кустики между корнями берёзок вспыхнули какие закатным багрянцем, какие пурпуром. Лишайники кольцами расползались по скалам – чёрные, жёлтые, серые… Венн шёл по тропе, вбирая босыми ногами тепло нагретых последним солнцем камней, и думал о том, какая всё-таки счастливая страна Саккарем. Ведь если даже здесь, в скудных горах, люди гордились достатком, выращивали виноград, то что же делалось на изобильных равнинах, где никогда не покрывались льдом широкие неторопливые реки?.. Он попытался представить себе жизнь без морозных зим, на земле, которая, едва отдав урожай, снова принимается за свой род…
Всё так, но где-то на равнинах стоит деревня со звонким гончарным названием Дар-Дзума. Там делают лучшие на свете кувшины. А жители временами попадают в рабство за неведомо как скопившиеся долги. Почему?..
Вечером, когда стали ладить ночлег, Иригойен сам слез с ослика. Ноги еле держали его, но молодой халисунец отправился помогать Волкодаву собирать растопку для костра.
– А вот скажи мне, святой человек, – подошла к нему Айсуран. – Мы, горцы, тёмный народ, мало смыслящий в делах твоей веры. Иные у нас утверждают, будто избранники Лунного Неба водят жён и растят детей, другие же спорят, будто им оставлена лишь неземная любовь. Рассуди нас, святой человек, – за кем правда?
Насчёт тёмных и несмысленных горцев она прибеднялась, конечно. Бабушка Псица некогда объясняла маленькому внуку, звавшемуся в те времена просто Межамировым Щенком: так люди начинают разговор, чтобы собеседник почувствовал себя мудрым и знающим и охотнее дал волю словам.
– И те и те правы, почтенная Айсуран, – улыбнулся халисунец.
Волкодав поймал себя на том, что ему нравится улыбка этого парня, мягкая и немного застенчивая. Он видел такую у очень мужественных людей, не ломавшихся там, где, казалось, выстоять было невозможно.
– Когда-то, давным-давно, – продолжал Иригойен, – людям казалось, что посвятивший себя Лунному Небу должен отдаваться жреческому делу весь целиком: часть внутреннего жара, уделяемая приметам земной жизни, вроде дома и семьи, лишит его служение совершенства. Но потом ударил Камень-с-Небес, и там, где раньше жило сто человек, остался дрожать от холода едва ли десяток. В беде люди потянулись к жрецам за словом надежды и мудрости. Служители Лунного Неба стали кострами, у которых грелся народ. И тогда кто-то задумался: почему землекопы и свинопасы обильно продолжают себя в потомстве, а самым разумным и благим людям должно быть в этом отказано? Так может дойти до того, что народ утратит величие и уподобится запущенному стаду, которое постепенно мельчает и вместо драгоценного руна обрастает дикой щетиной. Обратились за советом к величайшим учителям веры… Так прежний обычай был оставлен прошлому. Ныне, почтенная Айсуран, наши жрецы берут себе жён, и люди ждут, чтобы от них родились толковые дети.
Горянка поблагодарила его и ушла очень довольная.
Иригойен выпрямился, держа в руке несколько сухих веток. Наверное, ему больно было двигаться, но он старался не показывать виду.
– А я, кажется, знаю, чему так радуется наша добрая Айсуран, – сказал он Волкодаву.
Тот молча смотрел на него, ожидая продолжения. Сын пекаря превратно истолковал его молчание и спросил:
– Друг мой, понимаешь ли ты речи, с которыми обращаются к тебе люди?..
Друг мой!.. Последний раз венна так называл человек, которого ему не суждено было забыть. Волкодав медленно кивнул.
– Она говорила, что ходила просить о женихе для своей дочери, – сказал Иригойен. – Надо полагать, милая Итилет украшена всеми достоинствами и добродетелями, каких ждут от юной хозяйки, но мужа со стороны ей найти всё равно трудно, ведь они тут, в горах, наверняка друг другу родственники на месяц пути. Вот мать и отправилась с подношениями к святой могиле… А потом, даже до деревни ещё не дойдя, встретила тебя и меня. И вдобавок настоящую жрицу. Пусть иной веры, но та всё равно может освятить свадьбу. Скажи, друг мой, готов ты остаться и прожить здесь всю жизнь до старости? Пестовать детей, мотыжить поле и долбить в скале гнёзда для виноградных лоз?..
Женщины хлопотали у нависающей скалы, месили тесто для хлебных колбасок и обсуждали, какую закваску лучше брать с собой в дорогу. Изюмную, хмелевую или на сыворотке. Волкодав чуть не хмыкнул. Он-то знал истину: закваска даже для пшеничного хлеба должна быть ржаной. И желательно старой. Потому что всякая иная – протухнет, погибнет… и попросту не даст вкусного хлеба.
Знать бы ещё, случится ли мне когда попробовать настоящего хлеба, потому что правильный хлеб на ржаной закваске пекут только на правобережье Светыни, в западных чащах…
Волкодав вздрогнул и снова задумался о словах Иригойена. Потом выпрямился, с натугой вытаскивая из расселины целое засохшее деревце. Непогода вымыла землю из-под его корней, и деревце превратилось в сухую корягу. Оно не зазеленеет, даже если прямо сейчас посадить его в самый жирный чернозём и поливать по семь раз на дню. Боги, кажется, искушали Волкодава. Обнять прекрасную девушку, остаться в деревне искусников-виноделов, куда не суются враги… пустить корни…



