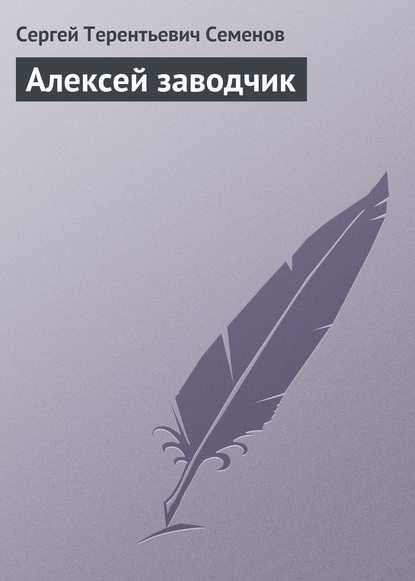 Полная версия
Полная версияАлексей заводчик
«Одначе после этого стали в моей голове думки и насчет женитьбы похаживать; думаю: мне жениться можно, за себя замуж не возьмешь – в дом войдешь. Только одна беда в таком деле: нельзя подобрать по душе себе человека, не больно много такого народу, чтобы было из кого выбирать. Стал, было, я думать, какого мне человека лучше бы хотелось подыскать, и на какую не кину, каких я знал, ни одна не по душе, только и носится в мыслях та бабочка, что мне про дубровскую невесту рассказала. «Вот такая бы, думаю, ничего, а то лучше никакой не надо». Днем ли, ночью задумаюсь, не идет она у меня из головы да и все тут.
Алексей остановился и шагов десять прошел совершенно молча. Я тоже молчал, но видя, что он долго не начинает продолжения рассказа, не вытерпел и снова заговорил.
VII– Ну, так что же дальше было? – спросил я.
– Дальше пришли было ко мне сваты из Дубровки насчет решения узнать, а я им отказ как шест. – Не хочу, говорю, жениться, хочу холостым ходить. – Ну, говорят, вольному воля, а спасенному рай; поищем еще где-нибудь. – С Богом, говорю…
– Наступили филипповки. У нас тогда лес на корню стал Иван Иваныч продавать, кому десятину, кому пол-десятины, кому четвертку. Меня он сторожить приставил этот лес, то есть не пускать на полосу того, кто денег не отдал. Я это езжу туда, слежу: кто отдал деньги, тому полосу указываю; кто не отдал, того прочь гоню. Один раз выехал я утром из имения, подъезжаю к лесу, слышу на одной полосе крик, галдеж; я – туда. Смотрю: в одном месте куча народа так-то снует и кричит, как ни попало. – Что такое? – спрашиваю. – Человека задавило. – Как так? – Пилили березку, он зазевался, березка-то упала – прямо на него, всю грудь расплюснуло. Гляжу я: правда, лежит человек, молодой еще, вытянулся, глаза под лоб закатил, а у него изо рту и из носу кровь так и пенится, так и валит. – Чей, говорю, человек? – Николаевский. – Подняли его, повезли домой. Объехал я лес, тоже домой поехал. Приехал, докладываю Ивану Иванычу: все, мол, благополучно, только беда случилась: человека задавило. Потужил Иван Иваныч. – Ну, говорит, что же поделаешь, сам виноват, зачем подвернулся. – Вечером, гляжу, въезжает к нам на двор какая-то бабочка, закутанная, и сама плачет, рекой льется. Гляжу, а это та самая, что мне осенью дубровскую невесту раскорила. – Что, говорю, иль опять какая беда случилась? Тогда, говорю, лошадь пропала, а теперь что вышло? – Бабочка как зальется. – Тогда, говорит, беда поправилась, лошадь нашлась, а теперешнему горю ничем не поможешь. – Что такое? – спрашиваю. – Мужа, говорит, в лесу придавило. – Так это твой муж? – Мой, говорит. – Что же он? – Что, говорит, помер! Приехала к Ивану Иванычу от своей доли лесу отказываться да деньги назад просить: хоронить-то не на что. – Пошла она к Ивану Иванычу, а я пошел в конюшню лошадей убирать. Убрал я лошадей, выхожу, вижу – и баба из флигеля, это, выходит и так-то плачет, чуть не навзрыд. – Что ты? – опять спрашиваю. – Да как же мне, говорит, не плакать: не дает мне Иван Иваныч деньги; все, говорит, барину отослал, а своих нету, – на что мне теперь будет оправить его? – Легла, это, она на сани, а сама рыдает. И такая-то меня взяла жалость к ней: вот, кажется, что хошь для нее сделал бы. Стою я, это, гляжу на нее, а сердце у меня – тук, тук, тук. Вдруг и вспомни я, что у меня есть деньги. Чего, думаю, мне их ей не отдать? Авось не зажилит, а поплатится, когда будет мочь. Подумал я это, подступил к ней и говорю: – Не плачь, поможем твоему горюшку, – и сейчас, это, я марш в людскую, достал сундучок, отпер, вытащил из него свою красненькую – и к ней. – Вот тебе, говорю, управляйся. – Взяла, это, она деньги, развернула, поглядела на них, и словно бы глазам не верит. – Это что ж, говорит, в честь чего? – Не толкуй, говорю, а завертывай знай, да поезжай домой скорей, небось дома-то делов-делов… – А какие же это деньги-то? спрашивает. – Взаймы тебе даю. – Поглядела этак она на меня: – Ну, спасибо, говорит, подвязала повод у лошади и поехала домой…
Ну, прошли филипповки, Рождество Христово, наступил мясоед, стало быть. Об моей бабочке никакого слуху. Мужика, слышно, похоронила, полосу леса ихнюю кто-то за себя из николаевских взял. Вдруг в одно воскресенье, после Крещенья уж, приезжает, это, к нам подвода, слезает с саней какая-то старуха и спрашивает: – Где тут Алексей скотник? – Я, говорю, Алексей, что надо? – Поедем, говорит, со мной в Николаевку, тебе один человек велел. – Какой, говорю, такой человек? – А вот, поедем, там узнаешь. – Что ж, думаю, отчего не съездить. Пошел к Ивану Иванычу. – Отпусти, прошу, Иван Иваныч! – Ступай, говорит. – Нарядился я маленько, сел в сани, и поехали мы.
Подвозит меня старуха ко двору, дворик не ражий, изобка в семь аршин, крыта соломой. Вхожу я в избу, а навстречу мне энта бабочка, у которой мужа-то задавило. Ну, поздоровался я. – Как поживаете? спрашиваю. – Живем, говорит, по хозяине тужим, вот сорок деньков справили, время-то незаметно как идет…
Сел я на лавку, молодуха, это, прямо начала самовар разводить, около нее мальчишка вертится, этак годков двух. – Мама, говорит, это тятька? – Нет, говорит, какой тятя, наш тятя далеко. – Гляжу я на них, и так-то у меня на сердце весело, то есть так-то мне хорошо глядеть на них, словно я в какой рай попал…
Развела баба самовар, старуха в избу вошла, – оказалось, это мать этой бабочки: приехала она навестить свою дочку. Разделась старуха. – Что ж, говорит, ты окутавшись сидишь, раздевайся и ты. – Нечего делать, разделся и я.
Повернулась, это, старуха, вышла из избы вон, гляжу, водки полштоф тащит, на стол ставит. – Ну-ка, Авдотья, – на дочь-то говорит, – достань-ка закусить нам. – Полезла Авдотья в печь, достала свинины, нарезала, подает; коровашки достала. – Ну-ка, говорит, добрый молодец, двигайся под передний угол.
Двинулся я под передний угол. Налила старуха стакан вина, подносит мне и потчует.
– Что же это, говорю, вы меня потчуете, кушайте сами.
– Нет, говорят, мы уж – с дорогого гостя.
– Какой же я дорогой гость; я не знаю, за что вы меня угощаете-то?
– Как, говорят, за что, а кто ж нас из беды-то выручил? Если бы не твоя милость, то что же бы нам делать-то.
– Вот, говорю, в таком случае кто не выручит; всякий, небось, понимает.
– Нет, – говорит Авдотья, – не всякий: кто понимает-то, тому самому взять негде, а у кого есть-то, тот не понимает.
– Ну, говорю, что об этом толковать, дело небольшое…
– Спасибо, спасибо тебе, – говорят, – век твоего благодеяния не забудем, – а сами то мне и вина подносят, и хлеба подкладывают, запотчевали совсем…
Выпил это я, закусил, еще выпил, и они выпили со мной, и опять стали меня благодарить…
– Лучше, говорю, не благодарите, не за что, нечего зря и языка трепать – велика важность!
Замолчали это они; потом Авдотья и говорит:
– Поблагодарить-то нам тебя хочется, а еще хочется нам тебя попросить. Не притесняй ты нас, ради Христа, этим долгом-то, не тревожь нас сейчас; объизянились мы с похоронами-то так, что ничего взять негде. Вот ко Святой, Бог даст, може, кормку останется, продадим, тогда отдадим, а не то – корова отелится, теленочка выпоим. А сейчас, хоть голову долой, взять негде и потянуть нечего.
– Да что вы, говорю, разве я с вас требую? Да, по мне, хоть сколько хошь держите, мне пока деньги не нужны: я человек одинокий, хлеб-соль у меня готовая; обут-одет я, чего же мне еще хотеть?
Услыхали эти слова мать с дочкой. Потом старуха и говорит: – А нравится тебе твое житье?
– А что ж, говорю, есть и хуже моего живут.
– А мы думаем, не согласишься ли ты его переменить. Ты человек одинокий, вот и дочка моя осиротела, – не пойдешь ли к ней в хозяева.
Я не то что сказать, что не ждал этого, – подумакивал и раньше насчет этого дела, а все-таки эти слова на этот раз как будто врасплох меня застали. Не знаю я, что сказать; сидел, сидел я, потом глянул я на Авдотью, и вдруг как-то она мне полюбилась, вот, кажись, явись тут какая хошь царевна-королевна, и то мне бы она ни по чем была. Подумал, подумал я и говорю:
– Что ж, это дело подходящее, говорю, – вот я с разумом соберусь…
– Собирайся, да давай-ка Богу молиться, да по рукам бить.
Отвезли они опять меня домой. Выходился, это, я на другой день и на третий, думаю – подходящее дело. И все выходит подходящее. Правда, двор не Бог знает какой: да одна бабочка-то, – она да ребенок, и все тут, – и бабочка-то такая славная, приятная. Ну, думаю, была ни была! и дал им слух, что согласен – в дом к ним, выходит.
И стали тут хлопотать об свадьбе, метрики выправлять. Выправили метрики, хотели было в мясоед венчаться, да священник не венчает так – я, видишь ли, почти с роду родов не говел… Посоветовались мы с Авдотьей, все равно, думаем, над нами не каплет, и порешили мы отложить свадьбу до весны. Я, думаю, до той поры у Ивана Иваныча поживу, что-нибудь выживу, а постом-то и отговеть будет можно, а она зимней порой-то и одна по дому управится, – так и отложили дело до Красной горки.
VIII– Ну, дождались мы Красной горки – окрутились. Перебрался, это, я от Ивана-то Иваныча в свой дом. С женою, это, у нас любовь и согласие, в делах управка, как нельзя лучше; и спахал, и посеял я, все сам, – в охотку-то и легко и просто все казалось; в покос и косы отбивать научился, и косить малость притрафился. Пришло жнитво, погода жаркая, рожь перезрела; стали жать – сыплется; надо спешить; а как никогда не жинал-то я, – у меня дело-то и не спорится. Я так и этак гнусь – ничего не выходит; один раз поторопился да руку серпом обрезал; стало совсем мне нельзя и горсти набрать… Расстилается одна моя Авдотья по полосе, а я снопишки таскаю да крестцы кладу; вижу – и трудно бабе, и на меня-то ей досадно, а ничего я не поделаю. Ну, кое-как сжали рожь, стали снопы возить; нужно в копну класть их; послала меня моя баба на копну, а я тут ничего не умею сделать. Пошел, поглядел, как люди кладут, стал сам так заводить; доклал до середины – она у меня как разъедется! Ржи сколько обмолотилось – страсть! Накинулась на меня моя баба, начала ругать. Стал я перекладывать копну, склал кое-как. Пошли мы овес косить – опять у меня не выходит дело: то осыпается, то путается. Подойдет ко мне баба, возьмет сама косу: «Ты вот так-то, ты вот так-то», – учит, у ней и не осыпается, и кладется как следует; а я возьму косу – опять ничего не выходит, просто хоть что хошь, – взяла меня досада на себя: какой ты – думаешь – человек, когда ты вот каких делов не можешь сделать! И так после этого мне скучно стало, что в глаза людям не хочется глядеть. Ну, кое-как скосили овес, нужно было за сев приниматься, стали семена готовить, подошли к копне-то, сунулись в нее, а она срослась – мыканка-мыканкой, и не растащишь верхние снопы-то; после жнитва-то дождички прошли, ну, значит, копны-то и пролило. Как увидала это моя Авдотья, да как завоет в голос: «Какая я горькая, несчастная! Приняла я к себе человека, думала, он мне будет кормильцем-работником, а он, вместо того, выходит моим разорителем. Как мне будет с ним век прожить?»
Она плачет, а я молчу; стою да думаю: «Ах ты, золоторотец несчастный, куда ты сунулся с суконным рылом в калашный ряд, что ты вздумал чужой век заедать? «И такое меня в ту пору взяло уныние, словно эти дела, каких я делать-то не умел, заповедные, будто их и делать нельзя было научиться.
Ну, опосля всего этого, гляжу, моя баба стала уж не та: нет от нее ни слова ласкового, ни смешка, ходит – в землю смотрит, только мне и утешения дома – мальчишка. Полюбил, это, меня мальчишка пуще отца родного, так и виснет у меня на шее, так и вьется вокруг меня, как собачонка, а сам все, это: «тятя да тятя, тятя миленький, миленький, тятя хорошенький». Гляжу дальше: она и на ребенка-то стала коситься, когда он ластится-то ко мне, да стала оттаскивать от меня.
Дошло дело до Михайлова дня. В Михайлов день в той деревне, откуда моя Авдотья родом-то, праздник справляют; ну, мы раньше-то, когда еще в ладу друг с дружкой жили, в гости туда собирались, и теща, это, когда у нас была звала: «приезжайте, приезжайте – смотрите». – Ладно, говорю, приедем. – А тут, как пришло время ехать, гляжу, собирается моя Авдотья одна, а мне и помину не делает. Вот так раз, думаю, распрогневалась моя баба совсем, ну да что ж делать. Запряг, это, я им лошадь, усадил мальчонка – отправились они; остался домовничать.
Скучно мне одному дома-то показалось. Убрал я скотину, запер избушку и отправился в Дубровку, в кабак. Прихожу, народу много, и николаевские кое-кто сидят; за одним столом, гляжу, Фильчак помещается, – парень такой у нас есть там, живет он в Москве в разносчиках; лето там торгует всякой всячиной, а на зиму-то домой приходит. Смолоду-то он плохо жил, а года три хорошо у него дела пошли, рублей по четыреста в лето-то добывал он и домой приносил. Хозяйство поправил вот как! Ну, знамо, человек денежный, рисковой; сидит, это, пиво пьет, разговоры разговаривает; увидал меня: – Садись, говорит, со мной. – С какой стати? говорю. – Садись, познакомимся. – Ну, сел я к нему за стол, он наливает, это, мне стакан пива: – Пей, говорит. Я выпил. – Что ж ты, говорит, с женой в гости не поехал? – Так, говорю, не поехал. – Дурак, говорит, ты от такой бабы отбиваешься: она, говорит, золото, а не баба. – Ну, говорю, какое золото, тем же добром набита, как и все люди. – Нет, говорит, ты ее раскусить не можешь; я, говорит, холостой был, с ума по ней сходил. – Чего ж ты, говорю, замуж ее не взял? – Сватал, говорит, да не пошла, бедностью моей побрезговала, согласилась лучше вот за Мишку, первого-то своего мужа, пойти, – ан не знаешь, где найдешь, а где потеряешь: от Мишкина-то добра ничего не осталось, а у нас чего хочешь, того просишь. – Выпил он тут еще и говорит: – Отчего это такого закона нет, чтобы можно было женами меняться; вот мы тогда поменялись бы с тобой: ты бы мою взял, а я твою – согласился бы? – Не знаю, говорю, и думаю, все это шутит он, а он выпил еще да так разошелся, что в слезы ударился. – Что мы за несчастные такие, говорит, не можем так сделать, как хочется нам: полюбил я, говорит, твою жену, а владеть ей, говорит, не могу! – Стало мне еще тоскливее. Пришел я домой, лег спать, лежал, лежал, ворочался, ворочался и что-то ни что передумал. Вспомнится, это, как Фильчак расхваливал Авдотью, словно лестно это мне станет, а как представлю, как она со мной-то обходится, и обольется сердце кровью. И зачем я, думаю, только связался с нею, зачем в дом пошел, променял свою волюшку! И стало мне думаться незнамо что. Думается, что она теперь уж не будет меня больше и любить, захочет – выгонит и из своего дома, имеет она эту праву: я еще не приписан к ней. И чую я, что беды в этом большой нет, – пока голова на плечах, нигде я не пропаду, – а ноет мое сердце; понял я, что очень уж я привязался к бабе с мальчиком. Чтобы утешить себя, представил я, что это временно баба разобиделась на меня, что она вовсе меня не разлюбила, – любила же она меня первое время. Вот, думаю, после праздника приедет, совсем другое повернет. Успокоил, это, я себя немножко и заснул.
IXПрошел праздник, приехала моя Авдотья; вышел я ее встречать; думал я, она меня лаской встретит, а она на меня почти не глядит. Снял я мальчишку с саней, выпряг лошадь, поставил на место. – Весело ли погуляли? спрашиваю. – Весело, отвечает баба и как-то сквозь зубы. – Ты бы мне хоть бражки кувшинчик привезла с праздников-то, говорю шутя. – Побоялась – замерзнет, говорит. – Ну, это дело другое, говорю, – а я тут московской бражки отведал, и рассказал я, как Фильчак меня угощал и как ее все хвалил. Услыхала это моя баба да как расплачется. Я ее уговаривать, утешать: – Что ты, говорю, что ты!.. – а она мне ни слова. Упало мое сердце, и свет Божий не мил стал.
Дальше – больше, дела наши не меняются. Баба все насупившись ходит, даже ребенок не так ластиться ко мне стал. Потом по вечерам стала баба уходить куда-то. Раз ушла, другой ушла, – на третий пошел я искать ее и нашел у Плотинкиных. Есть такая там семья у нас, народ обходительный, изба большая, все, бывало, к ним сходятся, кому делать нечего. Вот и моя Авдотья стала туда ходить. Подошел я под окно, – сидит разного народу этак человек шесть, и моя баба тут, и Фильчак этот там же сидит; треплются, должно быть, о чем-нибудь хохочут. Мою бабу и узнать нельзя: такая-то веселая, тоже смеется, говорит что-то, глаза блестят. Позвал я ее домой. Пришла она в свою избу, и опять с нее все веселье свалилось, опять стала пасмурная такая да нелюдимая; заглодало мое сердце Бог знает как. Любит, думаю, и она этого Фильчака, а я-то ей противен стал. И как подумал я это, пуще прежнего задушила меня тоска. Что тут, думаю, делать?
Думал, думал, – ничего не придумал, а тут еще одна неприятность вышла. Надумали наши мужики кусок земли дубровскому кабатчику сдать. Земля-то хорошая была, луговина невытрепанная, десятин 18, – он и наточил на нее зубы, подпоил кое-каких горланов и закинул крючок. Давал он по 2 рубля за десятину на девять лет, цена дешевая, только одно и лестно – за половину срока деньги вперед отдавал; а все-таки не всем хотелось отдавать землю, и я тоже против был, потому знал, что подпоенный народ на то клонит. Потом я слышал, когда у Ивана Иваныча жил, как он говорил, что цельная земля для нашего места только дорогого и стоит, – потому с нее можно и хорошие урожаи получить, и мягкой земле за это время передышку дать. Ну и я кричу на сходу: – Не нужно землю сдавать. – Эти горланы-то как услыхали да как напустятся на меня: – Какую ты имеешь праву голос подавать? Ты, говорят, не наш, и знать мы тебя не хотим. Староста, гони его со схода! – Пришлось мне замолчать. И как понял я, что это за дело мое, и еще пуще разобрала меня тоска, думаю: «Никуда я не гожусь, ни в пир, ни в мир, ни в добрые люди».
Подошла зимняя Микола; с утра опять сходка собралась, стали сговариваться опять лесу, как летось, деревней у Ивана Иваныча покупать. Прихожу я к своей Авдотье. – Что ж, говорю, баба, возьмем лесу полоску? Зимой-то делать нечего, перевозим, а весной перепилим, крупные-то в город на рынок свезем, а сучками сами протопимся – все польза будет. – Она мне на это ни слова. «Ну, ни слова – ни слова, думаю, – шут с тобой, надоело мне тебе кланяться-то; ты от меня рыло воротишь, и я тобой не обязан очень», – плюнул да и пошел вон из избы.
После обеда, гляжу, это, теща приезжает. Сперва-то я подумал, не помирит ли она нас, а как вошла она в избу-то, поглядел я на нее – ну, вижу, не тем пахнет: жена на меня волком глядит, а теща – совсем медведем.
Попили чайку, это; пообогрелась теща; я наготовил корму скотине к вечеру; вхожу в избу, а они сидят, это, под середним окном и разговаривают. Скинул шапку, это, я, сел под конец стола, сижу, молчу. Поглядела на меня теща и говорит:
– Что ж, милый человек, коли хозяйствовать нужно, так путем; ежели в поле работать Бог дару не дал, надо на стороне где промышлять: другие мужики в Москву на зиму-то ходят.
– Я, говорю, в Москву не пойду.
– Отчего не пойдешь, что ж тебе запрет положен?
– От белых грибов, говорю, не пойду. Я, говорю, затем в дом вышел, чтобы крестьянином быть, в деревне жить. А если бы мне по Москвам-то шляться, мне незачем было б и в дом выходить.
– В доме жить без помоги на стороне – трудно справиться: надо приработать на стороне.
– И я говорю, что надо. Вот говорил ей, что нужно дров полоску взять, а она и ухом не пошевелила, разве так можно? Что я, говорю, хуже вас, что ли? Дешевле стою? Если я работать в поле, как люди, не могу, так я не научился еще; вот погодите, выучусь, так и вас за пояс заткну.
Схватил я шапку, хлопнул дверью, да вон из избы. Пошел я в Дубровку, в кабак, заказал водки, выпил, посидел, поглядел на народ, обошлось мое сердце, воротился я опять домой.
Вхожу я в избу, гляжу: а у них опять самовар на столе, селедки, баранки, и гость у них сидит, Фильчак этот. Так меня и взорвало: этот зачем, думаю, какое ему дело тут?
Подошел я к столу, «чай да сахар», говорю.
– Просим милости, – говорят мне, а сами, это, словно не свои стали и на меня не глядят, и друг дружке в глаза взглянуть не могут.
Оборотился, это, я к Фильчаку и говорю:
– А ты, Филипп Степаныч, в родню, что ли, к нам затесался или еще как, что пришел к нам?
– Я, – говорит Фильчак, – компанию разделить пришел от нечего делать.
А теща, это, забегает:
– А мы его, говорит, позвали посоветоваться, как нам быть: дело-то у нас неладное, хозяйство-то у нас не как следует идет.
– Плохому хозяйству, говорю, я причина, ко мне нужно и на совет ходить, а не к вам; меня учить надо, что делать, а не вас… А это, говорю, тут шмоны затеваются; я, говорю, этого не допущу, не хочу страмить свою голову. Эй, ты, говорю, хороший человек, убирайся-ка вон, не дожидаясь худого слова! А то мне придется тебе дверь показать!
Засуетился, это, Фильчак, бесом стал извиваться. «Я, мол, да ничего, мол», а я и слушать его не стал. Выпроводил, это, я его, подошел к теще. – А ты, говорю, ведьма старая, до седых волос дожила, а совести не нажила; если ты будешь к нам ездить да бабу с ума-разума сбивать, я и на порог тебя не пущу! – Заревели мои бабы, теща домой стала собираться; я говорю: – С Богом! Хорошо бы было, если б ты и совсем к нам не приезжала! – Проводила домой тещу, входит в избу Авдотья. – Я, говорит, с тобой ночевать не останусь, ты меня убьешь тут. – Что ж, говорю я, дрался я с тобой когда? – А эва, говорит, ты сегодня какую прыть оказал, на тебя и глядеть-то страшно. – А коли страшно – уходи, не держу. – Стала она, это, мальчонка справлять, – одевает, обувает его, я ей ни слова. Поворочалась, поворочалась, однако никуда не пошла, раздела опять мальчишку, сама разделась, постелила на суденке постель и легла спать.
Опять я долго не спал. Лежу я и думаю: «Рассчитывал я, когда в дом входил, что кончатся мои заботы да печали, ан вышло, что только я их, женимшись, узнал. Так что же мне, думаю, мучиться, себя терзать, бабу мытарить? Да пусть она как хочет живет, коли я ей в тягость, пошли ей Бог счастья, а я-то опять как-нибудь пробьюсь – одна голова не бедна, а коли и бедна, так одна. Мало что мне хотелось бы с ними пожить всласть, да коли они этого не хотят. И только я это подумал, так так-то мне хорошо и легко сделалось, спала с моего сердца вся печаль-кручина, будто переродился я. Сейчас же я заснул; проснулся утром, и опять таково-то легко и весело. Умылся я, позавтракал и подправился в путь. Помолился, это, Богу и говорю: – Ну, простите меня Христа ради, не поминайте лихом? Не обессудьте, коли чем какое горе причинил.
Поцеловал я мальчишку. Глядит на меня Авдотья и спрашивает:
– Ты куда?
– Пойду куда-нибудь себе хлеба искать да тебе не мешать; живи, говорю, как тебе угодно, твори во всем свою волю.
Села, это, Авдотья на лавку и ни слова не сказала. Надел я шапку и вышел из избы.
И пошел я опять к Ивану Иванычу. Прихожу – говорю: – Иван Иваныч, возьми меня к себе. – С радостью, говорит. – Давайте, говорю, в год рядиться. – В год так в год. – И заложился я к нему в год, договорились совсем. – Ну, говорю, теперь дайте мне три рубля на спрыски и отпустите меня на три дня; погуляю я, отведу душу, а потом приду служить вам верой и правдой.
Получил я от Ивана Иваныча три рубля и отправился прямо в Чередовое. Там, думаю, село большое, трактиров несколько, и водка лучше, и простору больше. Зашагал прямо туда.
Прихожу, думаю: «Товарища бы какого подыскать – одному гулять не весело». Вхожу в один трактир, там кабатчик дубровский сидит и с ним та девка, к которой меня, было, сперва-наперво сватали в дом. Отец-то, вишь, у ней помер, и она уж открыто стала с кабатчиком гулять, и вот теперь с ним сюда приехала. Сидят, это, вино пьют, рыбу жареную едят. Подошел я к ним. – Мир, говорю, честной компании! – а они: – Просим милости! – и сажают меня с собой за стол. Я не поломался – сел; они мне вина – я выпил. Выпили бутылку, я бутылку заказываю, – пошло у нас гулянье – разлюли-малина!
Подвыпили мы, разошелся это я, рассказал про свою судьбу, и стала мне эта девка-то пенять, отчего я ею тогда побрезговал. – Что ж у нас хуже, что ли, было бы, говорит; от меня бы ты не ушел. – Я спьяна-то покаялся, говорю: – И сам жалею. – Услыхала это она, и сейчас стала меня в работники к себе нанимать. – А то как-никак, а без мужика трудно обойтись, – говорит, и столько наобещала мне, что хошь. Отвернулся это кабатчик от стола, девка повернулась ко мне и ну целовать меня – в задаток.
Не знаю, сколько мы тут гуляли, только вдруг, гляжу, шасть в трактир моя Авдотья. Подходит и говорит:
– Поедем домой! – Я говорю: не поеду, потому в два места в работники нанялся и в обоих местах задатки получил. Она не отстает, – поедем да поедем, – и чуть не силком стащила в сани и повезла домой.
От Чередового до нас-то верст 12 будет. Ну, пока ехали мы, дорогой я заснул, до двора-то проспался маленько, хмель-то вышел из головы. Приехали мы домой, вошли в избу, развязалась баба, гляжу, – а у ней все лицо опухло, глаза как фонарями налились: видно, плакала шибко. – Ты об чем это? спрашиваю. – А она как бросится на шею да как заревет: – Прости ты меня Христа ради, говорит, и сама не знаю, что мне втемяшилось так обходиться-то с тобой! Сперва-то случилось это на работе, а потом в Михайлов день матушка меня разбила; ей бы, говорит, уговаривать меня, а она меня только расстравляет: ты с ним пропадешь, да он тебя замытарит; а тут этот Фильчак подвернулся, сбивал меня в Москву итти: продай, говорит, все да пойдем в Москву, я тебя там торговать обучу. Насилу-то я, говорит, одумалась.

