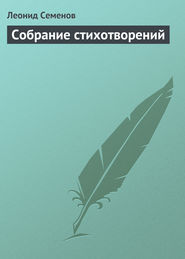 Полная версия
Полная версияСобрание стихотворений
Строки из серии «Свобода»
Отчего прохожу равнодушно мимо стольких встречных людей?Отчего смотрю равнодушно без злобы и без любви на них?Быть может, гибнут они или просят опоры иль пищи?Но иду.Красивы карнизы домов и заря,И краски различные неба, и окна.Или сердце боится себя?Боится огня состраданья?Когда увидит страданье здесь каждого,Тогда исчезнут все личины.– – – – – –Мое равнодушие убийственно. Меня ничто не трогает. У моих ног могут валяться люди, могут убиваться, плакать и рыдать, но я не шевельнусь. Я могу знать, что вот в этот самый миг кто-нибудь кого-нибудь убивает и, может быть, мне близкий человек близкого. Но я не дорожу. Что мне из этого? Зачем? Для чего? И что могу я дать им? Сегодня нищенка на улице чего-то просила у меня; я дал ей много денег, – но так только, чтобы откупиться. Не подумайте, пожалуйста, что я добрый. Я совершенно бесчувственный.– – – – – –Я не хочу выдумывать чувств.Если чувства нет, пусть не будет.Какое мне дело до страданья народа?Почему мне жалеть тех, а не этих?Играет палач и казнимый.Когда игра доводит до края,Ничего не остается, как играть до конца.Кидать крылатые фразыИ как актер возбуждать в себе вдохновенье,Чтобы им украсить свой последний миг.Но я равнодушен.Пусть играет палач и казнимый, —Я ищу самого сокровенного в глубине моей.– – – – – –Все игра.Разговоры, сплетенья, сомненья, ответы.Себя вплетаем в игру,Чтобы насытить свою пустоту.Но игра имеет свои законыИ подчиняет нас себе.Тогда томимся своей несвободой.А когда мы теряем в игре что-нибудь нам самое дорогеМы в ужасе закрываем глазаИ спешим. Спешим,Чтобы снова играть и играть,Теперь играть своим страданьем.– – – – – –Все игра.Кто начал мыслить и живет по мыслям,Тот уже не свободен,Им владеет ход его мыслей, —Логика.Но разве логика это он?Другой изобрел себе делоИ дело владеет им.Но разве дело это он?Он как пылинка в потоке вещей,И несет его делоБорьбой, самолюбием и другими заботами.Но все это разве он?Я ищу себя самого настоящего.– – – – – –И все ложь в этом верхнем обществе.Когда за обедом они говорят и смеются, —Все ложь.И лжет министр, когда говорит,И лжет депутат.И девушка выдумывает себе любовь,А юноша роман,Чтобы хоть чем-нибудь заполнить свою пустоту.А когда их ложь покорит их себе,Тогда они рады.Они – рабы и боятся своих решений.Но я ищу себя самого свободного.– – – – – –Я иду к человеку,Но лучше молчать.Будут споры, обманы,Борьба самолюбий.Это зовется у нас разговорами.Но лучше молчать,Будет взор устремленный с вопросомИ, может быть, с просьбой. —Но лучше молчать.В молчаньи, быть может,Не мы, а кто-нибудь третийЗа нас ответит.И это будет просто.Лучше молчать.– – – – – –И опять устремленные взоры.Сестра, сестра!Твой взор испытующий меня казнит.Как ответить тебе, что сказать?Как прижать тебя, или слиться тело с телом?Я сижу на диване,И ищет рука твоей руки.Но разве это ответ на голод душевный?Сестра, сестра!А сколько их жадных, голодных!В душе безмерная жалость!– – – – – –Предела нет моим желаниям!Я хочу слиться с тобойДуша с душой!Так, чтобы пали все стены между намиИ чтобы я был ты, а ты был я!Мой друг!Мне так холодно, так одиноко в моем замке!– – – – – –Мой замок высоко!Есть в нем просветы в небо,Есть провалы, обвалы, подвалы, есть Смерть.Но самое страшное в нем – зеркало.В нем я вижу себя, —Красивый, бледный лик.В него я влюблен безмерно.Проклятое зеркало!Как разбить его!?– – – – – –Мы все заключены по замкамИ видим друг друга только в окна, —Даже не видим, а только угадываем,Я ищу тебя и вижу твои глаза, ресницы и смех.Но где ты?Я пустил своих собак, по всем коридорамИ рыщут они, ищут выхода;Но всюду стены, это небо и краски и все впечатления глаза и ухаО ужас! я жду.Приходи ты неведомый, жданный!Мне так страшно в моем одиночестве!– – – – – –Нет! Я ищу лишь святыни.И когда я влюблен был в женщину,Я не искал ее ласк.Пылала жажда,Но хотелось только разбить свои стеныИ выйти из них и забыться.Я глядел ей в глаза!Видел волосы, руки и губы, и грудь!Как влиться в них, слиться, забыться?Но женщина лжет!И был я рабом лишь рабыни.Проклятье паденью!С тех пор не гляжу я на женщин.– – – – – –Эта симфония лжет,И не надо мне музыки.Я напрасно старалсяУверить себя, что она для меня, —Она ласкает только слухИ верхнюю душу,Но в душе есть настоящий, Голодный!Как насытить его?О люди, мне всегда было пусто с вами!И от всех ваших симфоний, картин и романовМне холодно, скучно!Простите меня!Но, может быть, это и каждому из вас,Или нет?– – – – – –Сегодня не знаю!Сердце ли просится в озероИль озеро в сердце?Не знаю, не знаю.Но так рвется все ко всему;И солнце, и ветер, и волны, и эти камни,И вздох!..И ты отошедшая, вечная, ты ль надо мной?О, прости преклоненного…– – – – – –И все по-прежнему озеро спокойно,Как младенческий взор.И течет в изумрудных оковах.Не течет, а струится.Теченье только обман.Это ветер.А этот белый волдырь —Монастырь, —Сколько в нем гноя и лжи, и паденья, и грязи.Сегодня человек мне сказал,Что первое слово, какое он зналНа земле,Было слово – по матери.Другие смеялисьНад младенцем…Озеро, озеро чистое!..– – – – – –Почему мне больно идти по траве?Травушки, травушки бедные!Почему мне стыдно топтать вас?Травушки, травушки тихие!Поднялись они у дороги,И топчет их всяк! И прохожий!Травушки, травушки темные!Вы растите, простите меня, вы все потоптанные, все необласканные,Травушки, травушки незащитные…– – – – – –Травы, травушки пахучие…Они звали меня к себе,Простирали ко мне свои ветки, свой запах.Хотели меня приголубить,Звали в луг свой зеленый, широкий,Охватили меня, прижали меня к себе,Пригнули к земле, отуманили, убаюкали.Травы, травушки пахучие,Они одни здесь сжалились надо мной!Одни обласкали меня, поцеловали меня.Но я не их – я иду.Травы, травушки, мои братцы родимые!Я бы и рад погрузиться в их влагу,Я бы и рад погрузиться в их сон,Я бы рад в них забыться их жизнью,Но для жизни иной я рожден!Травушки, травушки, простите меня!– – – – – –Она позвала меня к себе,Позвала на свою могилку.На ее могилке весна,На могилке трава.Я стою просветленный.В этой травке весна,В этой травке она,Сестра, сестрица моя,Ты ведь рада? скажи же, шепни мне.Ах, вот и она…Нам теперь никто не мешает…Мы можем теперь расспросить друг друга обо всем,О чем еще не успели.Я могу тебя поцеловать,Я могу провести рукой по твоим волосам…Как это раньше не смел.Я держу твою руку и мне хорошо…Сестра, ты ведь здесь?!Ты ведь рада?! скажи, шепни мне!..– – – – – –Мне больно, больно…Точно мой дух распинают они.Ах братья, сестры,Мне, видно, с вами не жить!..– – – – – –Мы живем только тогда,Когда есть в душе радость.Но не всякая радость верна.Я ищу вечной радости,Чтобы ее не смывала житейская волна.О люди, о люди, как радость вам дать!Как часто бегу я к вам,Исполненный жгучего огня;Но ложь опутывает уста и я молчу.Проклятие лжи!Не хочу обманывать вас ложью.Пусть лучше слыву между вами холодным.В пустыне огонь разгорится сам!И тогда прорвется наружу.Но он ведь не может пропасть, —Он вечный!..Кошмары
Смеялись маски, зубы скаля,Вершили свадебный обряд.Попы их весело венчали,Был на невесте бел наряд.Шампанским пили их здоровье,Потом съезжались на обед.Здесь молодым прожить с любовьюЖелали много, много лет.Невеста томная сиделаСо флер д'оранжем и в цветах.Мать от восторга даже млела.Стекло блестело на столах.И все так страшно это было:И стол, и маски, праздник весь,Как будто в саван злая силаДве жизни пеленала здесь.– – – – – –Все сидят и пишут, пишут,За конторками, столами,При начальниках не дышат,Пригибаясь головами.В виц-мундирах все худые,Точно съеденные молью,И такие злые, злые,Точно все с зубною болью.Пишут длинные бумагиКропотливо, мелко, скучно,Но таинственно как магиИ без мысли, и бездушно.По привычке и без целиОтсылают их в пакетах.Ах безумно все в их деле,Как в их душах не согретых.И бегут, бегут бумагиЧерез реки, чрез оврагиПо дорогам ровно, мерно,Речью мертвенной, невернойПробираются повсюду,Как вампиры злобны к люду,Все морозят тихим пеньем,Монотонным как машиной,По деревням, по селеньямРазрастаются лавиной.Входят в домы, входят в хаты,Подымаются в палаты,Сеют ужас всюду белый,Сыновей берут в солдаты,Шлют в Сибирь того, кто смелый,И как сила злая, злая,На пути своем спирая,Все коверкая, ломаяМысли, речи, чувства сушатИ все душат, душат, душат.Настает осиротелый,Перед ними оробелыйОбыватель и дрожит,Сам как лист бумажный белый…Этот ужас здесь царит!– – – – – –Этот старец изможденный,Желтый, бритый и худой,Словно воском навощенныйИ как мощи весь сухой,Часто, часто мне покоюВ снах безумных не дает:Подойдет и надо мноюДолго молится и ждетИ лукавит, все лукавит!Ах, противный, как глиста,То лампадочку поправит,То согнется у креста…– – – – – –Я по городу бежал,Я по улицам бежал,Тумбы круглые смеялисьУ подъездов и казалисьМне живыми мертвецами,С мертво-острыми зубамиЗаколоченных людей.Я бежал, бежал быстрей.Камни белые стоналиПод бегущими ногами,В боли корчились, хваталиНоги черными ногтями…Домы длинными рукамиПротянулися за мнойИ костлявыми дверями,Стен голодной белизной,Окон черными глазами,Точно жадно, жадно ели,Проглотить меня хотели.Магазины, крыши, трубыВсе вытягивали губыИ тянулись грубо, грубо,Так казалось виновато,Точно люди не живыеТе, что строили когда-тоЭтот город, все худыеВдруг восстали злые, злые,И гналися… Я бежал…Я по улицам бежал,Я по городу бежал.* * *
Еще я – послушник. Из мирамне скоро, скоро уходить.Уже не радует порфираВесенних снов… Хочу любить…* * *
Мы должники в плену у мира,Должны мы миру заплатить,Что каждый взял себе от мира,Себя чтоб Богу возвратить.Примечания
Творческие рукописи Л. Д. Семенова нам почти неизвестны. В фонде А. П. Семенова-Тян-Шанского в Санкт-Петербургской части Архива РАН (Ф. 722. Оп. 1) сохранились несколько его детских и полудетских стихотворений. В ЦГАЛИ (Ф. 1316) лежат гимназическое сочинение на немецком языке о летних каникулах, опыт интерпретации ноктюрна Шопена (ор. 15, № 3) в поэтических образах, «Элегия в прозе» с автобиографическим романтическим подзаголовком «Из записок неудачного художника», заметка «О рус(ских) нар(одных) песнях» и две песни в народном духе собственного сочинения, политическая статья «Россия, Европа и мир» с примечанием 18-летнего автора («Посылал в «Новое время», но ее не приняли»), подражательная романтическая «Сказка ночи». Подростком он пишет «Воспоминания» о первой любви (см. с. 448 наст. изд.).
При жизни Семенова была опубликована одна его книга «Собрание стихотворений» (СПб., 1905). В нее вошло 75 текстов. Она вышла в свет 100 лет тому назад и с тех пор не переиздавалась. Она в первую очередь и представляется сейчас, сто лет спустя, читателю.
Вслед за этим в разделе «Стихотворения, не вошедшие в «Собрание стихотворений»« помещено 16 стихотворений и три лирических поэмы, в «Собрание стихотворений» не вошедшие. Из них 6 стихотворений были опубликованы до выхода книги из печати, но в нее не вошли. После выхода книги из печати Семенов продолжал публиковать стихотворения до 1909 г. и напечатал в разных изданиях еще 9 текстов. Три стихотворения, никогда им не публиковавшихся, он ввел в записки «Грешный грешным». Одно стихотворение, Семеновым не опубликованное, извлечено нами из романа его брата Михаила «Жажда» и публикуется впервые. Эти 13 стихотворений и три поэмы никогда не были собраны и не перепечатывались. Здесь все вместе они представляются впервые. Не исключено, что дополнительные разыскания в печати 1900-х годов выявят не учтенные нами тексты.
В 1903 г. в журнале «Новый путь» была опубликована драма в прозе «Около тайны». Она получила благожелательные отзывы, однако никогда не перепечатывалась и, насколько нам известно, не ставилась на сцене. Вслед за этим Семенов напечатал статью «Великий утешитель» – формально рецензию на постановку на сцене Александринского театра трагедии Софокла «Эдип в Колоне», а фактически замечательный этюд, сверкающие грани которого обращены к философии, классической филологии, истории театра и современный Семенову «новой драме». С 1906 по 1909 г. Семенов писал очерки, рассказы, повести, стихотворения в прозе, которые также никогда не были собраны и не издавались. Главным трудом его жизни стали обширные записки «Грешный грешным», начатые в 1914 г. Работу над ними прервала смерть автора 13 декабря 1917 г. Они увидели свет после смерти Семенова (историю их опубликования см. в примечаниях к ним в наст. изд.). Мы публикуем также все 17 сохранившихся писем Семенова к Толстому.
Таким образом, в настоящем издании с доступной нам полнотой представлены все дошедшие до нас произведения Л. Семенова, имеющие историко-литературное значение (за его пределами осталось несколько детских и полудетских опытов).
Для произведений, не вошедших в «Собрание стихотворений», в пределах каждого раздела – стихов и прозы – принят хронологический порядок. Так как творческие рукописи до нас не дошли, обычно принимается во внимание время публикации произведений; по-видимому, сколько-нибудь значительных расхождений между временем написания и датой публикации произведений у Семенова нет.
Значительное большинство произведений, вошедших в настоящее издание, до этого публиковалось только один раз. В таких случаях в комментарии просто называется место этой единственной публикации, оно же – источник текста и terminus ante quem. Если состоялось две публикации, указываются первая и вторая и, если они есть, разночтения между ними (обычно их немного). Если текст публикуется впервые, он снабжается пометой Печ. впервые.
В тех случаях, когда в прижизненных публикациях стоят авторские даты написания, они воспроизводятся в тексте настоящего издания.
При цитировании текстов Семенов почти никогда не воспроизводит их дословно. Это относится даже к текстам библейским, не говоря о светских. Иногда он пересказывает их довольно близко к тексту, иногда же только сохраняя общий смысл. Особенности цитирования всякий раз разъясняются в комментарии.
В разделе Дополнения публикуются два произведения брата Семенова Михаила, проливающие свет на личность и биографию Л. Семенова; эти тексты никогда не публиковались; между тем они отличаются высоким этическим строем чувств и мыслей и значительными литературными достоинствами. Это повесть «Детство» и незавершенный роман «Жажда. Повесть временных лет о великом алкании и смятении умов человеческих» (из романа мы печатаем фрагменты, в которых изображен Алексей Нивин, близким прототипом которого был Л. Семенов).
Тексты публикуются по современным нормам орфографии и пунктуации при сохранении их некоторых авторских особенностей.
СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙПри жизни Л. Семенова увидела свет его единственная книга – «Собрание стихотворений» (СПб.: Содружество, 1905. Обложка А. Лео. 105 с. Цензурное разрешение от 24 апреля 1905 г., вышла в свет около 12 мая того же года. Тираж 1000 экз. Цена 1 p. 25 к.). До настоящего издания она оставалась вообще единственной его книгой. Она включает тексты, написанные в 1901–1905 гг. Так случилось, что книга вышла из печати и на переломе русской жизни в начале революции 1905 г., и на самом переломе судьбы ее автора, когда от жизни состоятельной дворянской высокоинтеллигентной семьи с прочными религиозными и монархическими устоями он стремительно начал откалываться и сближаться с простым бедным народом, метаться между православной церковью, сектантством и атеизмом, уходить в революционное движение и искать правду между эсерами, социал-демократами и толстовством, оставлять культурное делание в традиционных его формах. Книга отразила самое-самое начало этого мучительного процесса; только внимательный доброжелательный взгляд может его подметить.
Появление книги стало событием, она была встречена четырьмя большими рецензиями, не говоря о более беглых оценках и упоминаниях (подробнее см. в статье «Жизнестроитель и поэт» в наст. изд.). Среди отзывов нет ни одного осуждающего, общий их тон сочувственный (в том числе рецензии Брюсова в «Весах») или сдержанно-хвалебный (в том числе Блока в «Вопросах жизни»).
В настоящем издании тексты печатаются по Собр. Немногие исключения оговорены ниже и объяснены в примечаниях. Последовательность стихотворений точно соблюдена.
21 стихотворение из общего количества 75 до того, как вошло в книгу, было опубликовано в студенческих сборниках и в журналах. Эти публикации отмечены в примечаниях, причем отмечены разночтения; наиболее важные из них приведены.
Творческие рукописи стихотворений Семенова из Собр. неизвестны. Сохранилось несколько авторских списков отдельных текстов; их наличие и место хранения отмечается при комментировании соответствующих стихотворений.
Отличительная особенность публикации стихотворений в Собр. состоит в том, что стихи, вопреки традиции, начинаются не с заглавных, а со строчных букв, тогда как в более ранних публикациях тех же текстов в сборниках и журналах заглавные буквы в начале каждого стиха согласно традиции соблюдены. Это одно из свидетельств о начале отхода от традиционных форм культуры. В примечаниях к отдельным стихотворениям эта особенность их текстов не оговаривается.
Лирическое стихотворение – это не только созданная поэтом структура его текста, но и те субъективные ассоциации, которые стихотворение вызывает у читателей. В комментариях мы широко использовали, всякий раз ссылаясь на них, замечания трех близких Семенову людей, замечательных знатоков поэзии вообще и его творчества в частности.
В нашей библиотеке находится экземпляр Собр., принадлежавший дяде Семенова Андрею Петровичу Семенову-Тян-Шанскому (см. о нем с. 442, 444 наст. изд.). Здесь имеется несколько исправлений, сделанных рукой Л. Семенова, и ряд исправлений А. П. Семенова-Тян-Шанского, отражающих, по нашему мнению, волю автора. Например, в стихотворении «Подражание» стих 17 напечатан: Нет, с мыслью грешною без бою. Он рифмует со стихом 19 и, поражен его мечтою. Стихи соединены точной рифмой. А. П. Семенов-Тян-Шанский последнее слово стиха 17 исправляет на боя, после чего вместо точной рифмы возникает приблизительная. В стихах Семенова господствует точная рифма, приблизительная встречается как исключение. Такая замена правила на исключение может принадлежать только автору. Исправления автора и исправления его дяди, восходящие к авторским, в настоящем издании учтены и отмечены в примечаниях (тех и других набирается в общей сложности не более десятка).
В описываемом экземпляре имеются многочисленные указания на подражание Семенова предшественникам и современникам и на более тонкую связь с ними. В орфографии этих указаний непоследовательно сочетаются особенности дореволюционной и новой орфографии. Они воспроизводятся нами (по современной орфографии) в примечаниях почти во всех случаях, даже тогда, когда нам представляются слишком субъективными. А. П. Семенов-Тян-Шанский, сам поэт, опекал племянника с его первых творческих опытов, и его замечания в той или иной мере отражают самосознание Л. Семенова.
При написании «Истории одной жизни» младший брат Л. Семенова Александр Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский (о нем см. с. 445–446 наст. изд.) имел в своем распоряжении не книгу брата, а какую-то рукопись или корректуру: год издания он называет неуверенно и ошибочно (1903 или 1904), тексты приводит с отличиями и от книги, и от журнальных публикаций. Так вот, книгу брата он неоднократно называет не «Собрание стихотворений», а «Ожидания». В Собр. так назван первый раздел. Не можем вовсе исключить случайную ошибку; однако естественно предположить, что Л. Семенов сначала собирался назвать всю свою книгу в духе символизма – «Ожидания», а перед самой передачей книги в типографию или в корректуре заменил название на демонстративно нейтральное.
По выходе Собр. Л. Семенов пишет Блоку: «Посылаю Вам мой сборник и вот о чем прошу. Вы напишите мне письмом, очень ценю Ваше мнение. Рецензию о стихах пишите Вы или попросите Чулкова» (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 397. Л. 5 об.: без даты, по смыслу – середина мая 1905 г.). Ответное письмо Блока неизвестно, рецензия же была им написана и опубликована в 8-й книжке «Вопросов жизни» за 1905 г. Рецензия эта характеризует стихи Л. Семенова, можно сказать, изнутри: в первой половине 1900-х годов они с Блоком постоянно встречались, знакомили друг друга со своими стихами, обсуждали их. Естественно, Блок дал Собр. проникновенную оценку. В нашей библиотеке имеется экземпляр этой рецензии с пометами А. П. Семенова-Тян-Шанского: он также учтены нами в комментариях.
Подборку стихотворений из Собр. включил в биографию Семенова «История одной жизни» (Летопись. Орган православной культуры. Вып. 2. Берлин: За церковь, <1942>) его младший брат Александр. Между братьями существовала глубокая духовик близость, и отбор текстов связан с мировосприятием и самооценками их автора. Поэтому в примечаниях мы сообщаем факт перепечатки и воспроизводим немногие краткие комментарии А. Д. Семенова-Тян-Шанского (епископа Александра Зилонского).
В Собр. посвящение помещено на особой странице. Оно сразу вводит книгу в круг литературных памятников русского символизма. Его непосредственными предшественниками стали книги 1904 г. «Золото в лазури» А. Белого и «Стихи о Прекрасной Даме» A. Блока (вышла в октябре 1904 г., на титульном листе указан 1905 г.).
Слово София в древнегреческом языке имеет наиболее общее этимологическое значение 'обращение на самого себя, вечное возвращение к самому себе' (Топоров В.Н. Еще раз о древнегреческом ????? Происхождение слова и его внутренний смысл // Структура текста. М., 1980. С. 173 и др.). Символ София, опирающийся на значение этого слова 'мудрость', 'мастерство' – термин гностиков; у русских символистов он стоит в ряду синонимичных символов Душа мира, Дева радужных ворот, Жена, облеченная в солнце (Откр. 12: 1), Das Ewig-weibliche (наряду с немецкой формой, заимствованной B. Соловьевым из предпоследнего стиха второй части «Фауста», употреблялся русский перевод 'Вечная Женственность'), введенный в русскую культуру в философских трудах и стихах Владимира Соловьева. На сформулированную Соловьевым мистическую концепцию Софии как единой субстанции Божественной Троицы (Отца, Сына и Святого Духа; иными словами, как мудрости Божией. – См.: Христианство. М., 1995. Т. 2, С. 608), опирается вся система символов младших символистов – Блока, Л. Семенова. А. Белого, С. М. Соловьева, отчасти Вяч. Иванова и Волошина. Соловьеву приходилось защищаться от обвинений во внесении женского начала в самое Божество, что противоречит учению Церкви. Он писал: «1) перенесение плотских животночеловеческих отношений в область сврхчеловеческую есть величайшая мерзость (курсив здесь и далее Соловьева. – В. Б.) и причина крайней гибели (потоп, Содом и Гоморра, «глубины сатанинские» последних времен); 2) поклонение женской природе самой по себе, то есть началу двусмыслия и безразличия, восприимчивому ко лжи и злу не менее, чем к истине и добру – есть полнейшее безумие и главная причина господствующего ныне размягчения и расслабления; 3) ничего общего с этою глупостью и с тою мерзостью не имеет истинное почитание вечной женственности, как действительно от века восприявшей силу Божества, действительно вместившей полноту добра и истины, а через них нетленное сияние красоты» (Стихотворения Владимира Соловьева. 5-е изд. М., s. a. С. XIV-XV [это предисловие к третьему изданию написано в апреле 1900 г.]).
Несмотря на это предупреждение В. Соловьева, младшие символисты впадали в грех обожествления земной женщины. Так, Блок, А. Белый, С. М. Соловьев прозревали в невесте, потом жене Блока Л. Д. Менделеевой-Блок воплощение Вечной Женственности, Софии – мудрости мира. Эпиграф Семенова тоже мог быть задуман как знак посвящения книги не только Божественной Мудрости, но и земной девушке, о тяжелых отношениях с которой в студенческие годы повествует Семенов в своих записках и его брат Михаил в романе «Жажда»: «Когда сама Софья робко и по-женски стыдливо дала ему почувствовать, что она его любит, он со страхом понял, что то, что он теперь испытывал к ней, была не любовь, а похоть». И т. д. (см. с. 391 наст. изд.).
«В ТЕМНУЮ НОЧЬ НАД ПАМЯТЬЮ СНОВ ВДОХНОВЕННЫХ…»Собр. С. 8. Помещено вслед за посвящением перед первым разделом как своеобразный пролог всей книги. В нем выстроен очень важный для символистов параллелизм мистического и эмпирического понимания мира и творчества. А. Д. Семенов-Тян-Шанский первым стихотворением книги называет следующее, «Вера»; возможно, «В темную ночь…» было включено в книгу на завершающей стадии ее формирования.
…памятью снов вдохновенных… — Память, сон, вдохновение суть романтические образы, воспринятые символистами. Символ сна занимает одно из узловых мест в художественной структуре символизма как знак отсутствия границы между миром эмпирическим и трансцендентальным.
…робко-звонкими. <…> нежно-тонкими. — Излюбленные символистами вслед за романтиками суггестивные составные эпитеты.

