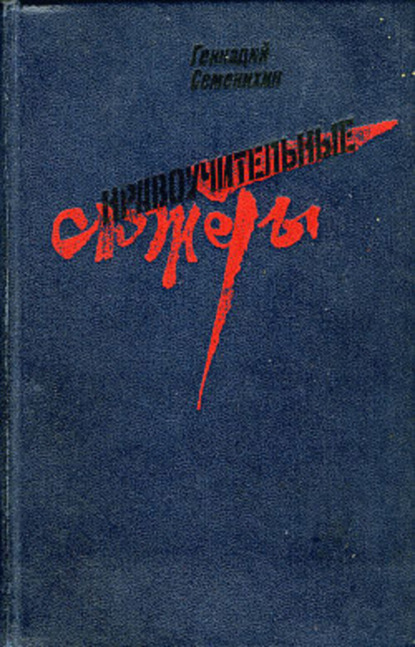 Полная версия
Полная версияПослесловие к подвигу

Геннадий Александрович Семенихин
Послесловие к подвигу
Памяти фронтового друга, Героя Советского Союза Александра Георгиевича Наконечникова
1
Есть высота поднебесная, и есть высота человеческая. Иногда они сливаются воедино, и одна как бы оттеняет другую, ей соответствующую. Но сначала все по порядку.
Жаркий июньский день подходил к концу. Голубое, словно отполированное небо висело над проспектами и площадями, дворцами и серыми памятниками, над закованной в бетонные набережные Москвой-рекой. Когда на перекрестках у красных светофоров на мгновение замирало уличное движение, над горячими капотами автомашин плавал синий от бензиновых паров воздух. В подземные переходы и станции метрополитена уже хлынул нескончаемый поток людей, возвещающий о наступлении часа пик, такого нелегкого для всех больших городов мира.
Опираясь левой рукой на узкий белый подоконник, Буров распахнул фрамугу. Со стороны Красной площади в его небольшой номер ворвался ветерок, и сразу стало легче. Он с наслаждением разделся и шагнул в ванную. Все-таки за этот день он чертовски устал. С семи утра и до шести вечера «Волги», выделенные для делегации металлургов из ГДР, которую он сопровождал, намотали на свои новенькие покрышки по триста километров. Плюс к тому трехчасовая научно-техническая конференция на экспериментальном заводе и затянувшаяся экскурсия в научно-исследовательский институт. Короче говоря, было от чего устать. Буров с удовольствием подставил лицо под струю холодной воды. Мылся долго и сосредоточенно. На три телефонных звонка он никак не прореагировал. Лишь на четвертый подошел и, вытирая мокрое лицо хрустящим вафельным полотенцем, неохотно снял трубку. Вздрагивающий от скрытого смеха голос Алены нельзя было спутать ни с чьим другим.
– Полагала, не застану тебя так рано. А ты уже на своей штаб-квартире. Молодец. Ночевать сегодня приедешь?
– Едва ли, Алена, – вздохнул Буров.
– Смотри, Николай. Дети скоро перестанут тебя узнавать.
– Это еще не самое страшное, – отшутился он, – у детей быстро восстанавливается память. Лишь бы не перестала узнавать женушка.
Бурову совсем недавно исполнилось двадцать семь. Хорошо сложенный, темноглазый, он отличался той добротой, которой отличаются все сильные от природы люди. Вздохнув, пояснил:
– Пойми меня правильно, Аленушка. Мне своих подопечных еще в Большой театр сводить надо, потом ужин. Раньше часа ночи никак вырваться не смогу. А к нам домой из гостиницы «Россия» не меньше полутора часов езды.
Он улавливал в трубке ее громкое недовольное дыхание.
– Аленка, согласись с доводами.
– А ты не лукавишь? – засмеялась жена. – Может быть, ты в какую-нибудь немочку из Дрездена или Шверина влюбился?
– Угадала, Алена, – развеселился и Буров. – В нашей делегации есть именно такая. Но на пути к изъявлению чувства очень серьезное препятствие…
– Ты – энергичный, – не дала ему договорить жена, – ты любое препятствие сумеешь устранить.
– Это не в моей власти, Аленка. Дело в том, что инженеру из Иены фрау Гертруде Ригель завтра исполнится пятьдесят четыре. Я должен еще позаботиться о торте для нее. Спасибо, что напомнила. Ты свой допрос закончила? А то до смерти хочется полчасика подремать.
– Подремли, бедненький. А завтра приезжай, иначе не на шутку рассержусь.
Но Бурову решительно не повезло. Едва успел он облачиться в пижамные брюки, телефон зазвонил снова, и он услышал в трубке мужской голос, старательно выговаривавший русские слова. За четыре дня общения с членами делегации Буров научился узнавать каждого из них по голосу. Сейчас он безошибочно определил, что это звонит инженер магдебургского завода Гредель, сорокалетний худощавый, несколько застенчивый блондин с очень спокойными, немножко грустными глазами.
– Геноссе Буров, – заговорил он, волнуясь, – вы бы не могли уделить мне немного минут?! Я все время хотел застать вас одного, но как-то не получалось. Поверьте, я не буду утомлять вас своим разговором. – Он помедлил и прибавил: – Но заранее должен вас предупредить: то, о чем я буду говорить, никакого отношения к нашим сталелитейным проблемам не будет иметь. Это будет общечеловеческий разговор, и по очень серьезной теме.
– Заходите, товарищ Гредель, – вяло согласился Буров и положил трубку, понимая, что ни о каких тридцати минутах отдыха теперь не может идти и речи. К приходу Гределя он успел вновь одеться и поправить покрывало на кровати.
– Садитесь, – жестом указал он на диван. Узкие, неподдающиеся загару руки инженера неспокойно лежали на обтянутых серым костюмом коленках, и уже по одному этому Буров догадался, что разговор будет не совсем обычным.
– Хотите стаканчик боржоми? – спросил он. Немец молча сделал отрицательный жест.
– Сигарету? – поинтересовался Буров.
Но снова последовал отказ. Тонкие губы насмешливо покривились.
– О, данке, данке, я совсем не ради этого вас беспокою. Знаете, геноссе Буров, нам уже осталось каких-то четыре дня гостить на вашей прекрасной земле, а я все хожу и думаю, как к этому подступиться, кому и каким образом сказать… И не скрою, меня очень-очень этот короткий разговор тяготит.
Буров озадаченно улыбнулся:
– Так говорите. Знаете, у нас, у русских, есть точная пословица: берите быка за рога.
Гредель снял ладони с коленок и закивал головой, соглашаясь:
– О, да! Русские пословицы – это моя слабость.
Как они точно отображают ваш национальный характер. Вот и на этот раз вы правильно сказали. Давайте действительно брать быка за рога. Я уже предупредил, что мой разговор никакого отношения к нашим сталелитейным делам иметь не будет. Я буду говорить о тысяча девятьсот сорок третий год.
Буров удивленно отодвинулся от него вместе со стулом.
– Но позвольте, геноссе Гредель, в сорок третьем вам было… лет четырнадцать?
– Ошибаетесь, – грустно улыбнулся немец. – Всего лишь двенадцать, и я жил в небольшом городке на берегу Эльбы. – Он запнулся и не сразу продолжил: – Я имею в виду те дни, когда произошло событие, о котором буду рассказывать.
Буров скрестил на груди руки, с напряженным интересом всматриваясь в собеседника.
– Продолжайте, я вас очень внимательно слушаю.
– Так вот. Представьте себе провинциальный городок этого времени с узкими улицами и знаком свастики на ратуше, с больницами, превращенными в госпитали, и затемнением по ночам, с развалинами на месте упавших бомб… Мой отец в сорок втором скончался от туберкулеза, а в семье, как у вас говорят, четверо полуголодных ртов. Я – главная рабочая сила. Чтобы прокормить больную мать и двух сестренок, я работал в госпитале, а при случае ходил на вокзал встречать поезда, подносил чемоданы офицерам, прибывшим с фронта или, наоборот, отправляющимся на фронт, получал за это по двадцать – тридцать пфеннигов. Однажды, ничего не заработав, стоял я на берегу Эльбы, думая о том, как появиться дома с пустыми руками. Вдруг ко мне подошел незнакомый человек в форме офицера «люфтваффе», оглянулся по сторонам и заговорил на очень плохом немецком языке. Сначала я решил, что это румын или итальянец. Он стал расспрашивать меня, кто я, из какой семьи, где мой отец, мать. Выслушав ответы и оглядев мои стоптанные башмаки из эрзац-кожи, незнакомец насмешливо сказал: «Да, парень, судя по всему, ты действительно родным племянником рейхсмаршалу авиации Герингу не доводишься. Да и министру пропаганды Геббельсу тоже. Так вот, слушай. Ты, вероятно, парень не глупый и веришь в то, что война скоро закончится».
– О да! – ответил я, как нас всегда учили и в школе и в гитлерюгенд. – Победой войск фюрера!
Незнакомец усмехнулся и перебил: «Не будем, парень, гадать на кофейной гуще. Как бы то ни было, но война закончится. Ты молод, и у тебя все впереди. Не исключено, что ты когда-нибудь попадешь в Москву или в другой какой-нибудь русский город. Вот тогда подойди к первому человеку, который тебе покажется заслуживающим доверия, и попроси его найти летчика Балашова и передать ему, что майор Нырко ушел из жизни несломленным». Я остолбенел от этих непонятных слов. А немецкий офицер в летной форме еще более озадачил меня новым вопросом: «Что такое флюгплац, знаешь?» – «Знаю», – ответил я. «Где он у вас находится?» Я показал за Эльбу. «Правильно, – усмехнулся незнакомец. – Так вот, приходи сюда послезавтра и постой на этом же самом месте от двенадцати до часу дня. У меня один шанс из тысячи, но больше мне довериться некому. О том, что увидишь, расскажи потом летчику Балашову. Почему-то я верю, что Витька обязательно останется в живых». Сказав это, незнакомец ушел, и только тогда я, мальчишка, с испугом подумал: а что, если это был не румын и не итальянец, а русский. Но я тотчас же отогнал от себя эту мысль, как нелепейшую. Здесь, на таком расстоянии от Восточного фронта, и вдруг русский! И в какие дни. Когда войска фюрера перешли Днепр, стоят на берегу Волги. Как я, жалкий мальчишка, мог только об этом подумать. – Гредель на минуту замолчал. Тонкие его пальцы нервно гладили черное основание настольной лампы, явно не находя себе места. – Позвольте, геноссе Буров. Я сначала отказался, но это было опрометчиво… если можно, разрешите сигарету.
Немец закуривал, и Буров отметил, что пальцы его дрожат.
– Скажите, товарищ Гредель, и вы пришли в назначенный час на набережную?
Инженер гордо встряхнул головой:
– Да. Пришел. Ибо если бы я не пришел, этого разговора у нас с вами не было бы. – Он высек огонь из какой-то простенькой зажигалки, в поисках которой долго шарил по своим карманам. – Я пришел туда задолго до двенадцати. День был промозглый, с Эльбы тянуло сырым ветром. Помню, что на середине реки стояла на якоре неразгруженная баржа, а над нею кружились чайки. Небо было пасмурным, и только сквозь разрывы облаков проглядывало солнце. Часы на ратуше пробили двенадцать, затем половину первого, затем час, но я ничего особенного не отметил в окружающей обстановке. Старенькое пальто на вискозной подкладке было плохим союзником в этот холодный полдень, и я уже собрался идти домой, когда в небе раздался звук мотора. Прямо на меня со стороны аэродрома несся «мессершмитт», такой же серый, как и все, что я видел в этот день. Он немножко взмыл над водой, а потом снизился и скользнул над моей головой. Однако я успел заметить, как летчик в кабине истребителя, склонив голову в мою сторону, приветственно поднял руку. Самолет развернулся и снова промчался надо мной. Во второй раз я уже совершенно явственно определил: да, летчик мне махал. Вероятно, это был тот самый вчерашний незнакомец. А потом в низком небе забухали зенитки. Нас часто бомбили, и я, как и все мальчишки, мои ровесники, уже прекрасно знал, как бьют зенитки. Вы никогда не слышали, как бьют зенитки, геноссе Буров?
– Откуда же? – усмехнулся Буров. – Ведь я же в сорок восьмом…
– Вот и хорошо, – без улыбки отметил Гредель. – Пусть и внуки ваши никогда не услышат этого противного «пах-пах-пах»… Зенитки били все громче и громче, и я остолбенел, когда понял, что целятся они в наш немецкий «мессершмитт» с крестами на крыльях и свастикой на хвосте. Целятся в этого непонятного мне совершенно летчика. А он вдруг пошел на высоту, скользнув из кольца разрывов. Потом его машина как-то резко выпрямилась и ринулась в отвесное пике. Как пикируют самолеты, мы, мальчишки, видели уже не однажды. – Гредель затушил недокуренную сигарету и горько вздохнул, – Пить захотелось, – сказал он, поглядев на бутылку минеральной воды. Буров торопливо налил боржоми в стакан. Немец сделал несколько жадных глотков, – Я ожидал, что после пикирования самолет опять наберет высоту и появится над серыми зданиями нашего города. Но этого не случилось. Раздался огромной силы взрыв, над аэродромом взметнулся целый столб пламени и дыма. Вот и все. – Гредель вдруг каким-то суетливым движением полез в нагрудный карман, извлек оттуда старенькую трубку с изображением коварно ухмыляющегося Мефистофеля. – Совсем забыл. При встрече ваш летчик отдал мне ее на тот случай, если я когда-нибудь разыщу Балашова.
Буров взял трубку, долго рассматривал ее, потом вернул немцу:
– Спасибо, товарищ Гредель. Я обязательно постараюсь разыскать летчика Балашова. Если он… если он, разумеется, остался в живых.
2
Окна парадной стороны госпиталя выходили в лес. Вдоль широкой асфальтовой дороги до самых въездных ворот, словно исправные часовые, стояли рыже-стволые сосны, а подальше от них, будто пугливо отбежав, светлели молоденькие березки. Нарядные клумбы с пышными георгинами и астрами были разбиты у входа в желтое двухэтажное здание. Раньше здесь была дача одного из членов правительства. Но с тех пор, как линия фронта вплотную подошла к Вязьме, хозяин отдал ее на нужды фронта, а командование решило разместить здесь очередной стационар для тяжелораненых солдат и командиров Красной Армии, обороняющих дальние подступы к столице. За георгинами и астрами уже некому было ухаживать. Небольшие комнаты, заставленные произведениями краснодеревщиков, наполнились стонами, а из просторной гостиной мебель пришлось убрать совсем и поставить в центре операционный стол, за которым с рассвета и до поздней ночи орудовал теперь громадный краснолицый хирург Коваленко с грубым простуженным голосом и сердитым взглядом белесых глаз. Он оперировал лишь самых тяжелых. Но «самых тяжелых» было так много, что главному хирургу по десять – четырнадцать часов приходилось бывать на ногах. Когда же становилось совсем невмоготу, то раз или два за свою тяжелую смену он просил у старшей сестры «фронтовые сто граммов», стыдливо прибавляя при этом: «Для того, чтобы не заснуть и чтобы рука не дрожала».
Двадцатитрехлетнего командира авиационного истребительного полка майора Федора Нырко главный хирург оперировал около часа – так много пришлось извлечь из его тела мелких осколков. Потом, смахивая с широкого лба пот рукавом не первой свежести белого халата, Коваленко заглянул в журнал и повелительно распорядился:
– Это тот самый летчик, которому командующий фронтом просил создать самые благоприятные условия для выздоровления. Поместите в одиннадцатую одиночную палату на втором этаже.
И майор оказался в небольшой угловой комнатке, где совсем недавно звучал звонкий смех внуков хозяина дачи. Когда он очнулся, было уже около полудня, и в комнату сквозь полуоткрытое окно пробивались солнечные лучи яркосентябрьского дня. Майор увидел белый подоконник, зеленые листья фикуса, легкую марлевую занавеску с нашитыми на нее розовыми матерчатыми корабликами. Не сразу понял, что он в госпитале. Потом он вспомнил все пережитое, до мельчайших подробностей воскресил в памяти события минувшего дня. Да! То был бой! Жаркий, отчаянный, какие не всякий раз складываются на фронте. Двенадцать «мессершмиттов» навалились на них. А их было только трое: он, лейтенант Плотников и его любимец и постоянный ведомый Виктор Балашов, только что сменивший три кубика в голубых петлицах на одну капитанскую шпалу. Этих смелых, находчивых парней он любил и не зря взял в трудный полет, заранее предвидя, что завершится он численно неравным боем. Когда «мессершмитты» стали разворачиваться перед атакой, Нырко, охваченный азартом, успел крикнуть по радио:
– А ну, сынки, держись! Карусель начинается мировая. Смотреть за хвостом соседа.
Их было всего трое, но на высоте в четыре тысячи метров они сумели стать в круг, так что сзади летящий всегда видел хвост впереди летящего и мог отсекать вражеские атаки. А потом все завертелось, смешалось. Свистели «мессершмитты», свистел ветер, рвали небо желтые и зеленые трассы. И все это покрывал надтреснутый рев мотора. Нырко сумел атаковать ведущего немца, длинной очередью ударил по «мессершмитту», едва лишь мелькнул в кольце прицела его силуэт. Очевидно, очередь пришлась по бензобаку, потому что вражеский самолет мгновенно взорвался в воздухе. Нырко заметил, что другой «мессер» стал заходить в хвост лейтенанту Плотникову. «Сережка его сейчас не видит, – промелькнула торопливая мысль. – Никто, кроме меня, его не спасет!» А рука уже поставила истребитель в вираж и палец нажал на гашетку. И снова удача. Второй «мессер» задымил и медленно отвалил в сторону. «Ребята, бей их!» – в буйном азарте закричал Нырко, но сзади что-то затрещало и голова наполнилась звоном. Майор потянул ручку на себя, но машина уже не набирала высоту. Она заваливалась на левое крыло, а тело слабело и наливалось тупой безотрадной болью. «Это уже меня, – с горечью подумал майор. – Меня сбили». Нырко почувствовал, что волосы под шлемом слиплись от холодного пота. Неожиданно в нос ему ударил острый запах дыма, и в ту же минуту перед глазами вырос жаркий столб пламени. Стрелка осатанело крутилась под стеклом высотомера. «Я падаю, – подумал он, – в запасе у меня считанные секунды, надо ослабить это бешеное вращение. Нырнуть за борт, нащупать потом кольцо парашюта». Почти у самой земли раскрыл он парашют. Оставалось каких-нибудь пятьсот метров. И вдруг за спиной послышался нарастающий свист «мессершмитта». Заплясали перед глазами красные огоньки трассирующих пуль, что-то обожгло ноги, пронизало все тело мгновенной болью. Желтое скошенное поле возникло перед глазами. Нужно было приземляться, и Нырко по привычке согнул ноги в коленях. Но когда он толкнулся ступнями о землю, страшная боль заставила отчаянно вскрикнуть. В глазах помутнело, поле из желтого внезапно превратилось в зеленое, потом все поплыло, и майор упал на землю лицом в мокрую от росы колючую стерню.
Больше он ничего не помнил. Да и нужно ли было помнить остальное. В госпитальной палате было тепло, уютно, тихо. Стены, отделанные розовыми обоями, успокаивали глаза. И только правая нога, тяжелая от бинтов, подвешенная к высокой спинке кровати, насторожила. Однако Нырко сразу почувствовал, что она не ампутирована, и успокоился. «Человечка бы сюда какого-нибудь, – с тоской подумал Нырко, – чтобы все пояснил, что со мной было». Никогда не лежавший ни в больницах, ни в госпиталях, он сразу вспомнил, что в таких случаях прежде всего положено звать сестру. А когда вспомнил, то, набрав полную грудь воздуха, выкрикнул:
– Сестра, пожалуйста… зайдите.
Но сестра не откликнулась. Вместо нее в комнату вошел громадный краснолицый человек с засученными по локоть рукавами белого халата на мускулистых руках. Белые усталые глаза с тонкими красными прожилками уставились на майора.
– Вы, кажется, Нырков? – спросил он гулким бесцеремонным голосом.
– Возможно, – покоробленно ответил летчик. – Да только не Нырков, а Нырко.
Вошедший насмешливо буркнул:
– Простите, кажется, не учел вашего запорожского происхождения.
– Угадали, – прищурился летчик, – я действительно по отцу казачьего запорожского рода. А мать русская, да и вырос в России.
– Ладно, майор, – добрее проговорил вошедший. – Исправлюсь. Меня ты, разумеется, не помнишь, да и где уж. Я тебя в течение часа резал на операционном столе, а ты ни разу в сознание даже не пришел. А ведь я из тебя, мой милый, вчера двадцать три осколочка вытащил. Спасибо скажи, что санитары из двадцатой стрелковой дивизии быстро доставили, а то бы и гангреной могло кончиться. Теперь все позади. Давай знакомиться. Я – главный хирург. Коваленко Андрей Иванович. О тебе все знаю. Восемнадцать самолетов на нашем фронте лишь один ты угрохал. Если есть у тебя вопросы, – задавай.
Нырко скосил глаза на подвешенную в тяжелых бинтах ногу:
– Значит, это вы меня так разукрасили?
– Считай, что я.
– Красивая работенка, ничего не прибавишь. А скажите, долго ли теперь лежать?
Коваленко зевнул, широкой ладонью прикрывая рот.
– В доброе мирное время для того, чтобы выздороветь как следует, вам бы полагалось пролежать месяца два. Затем поехать на месяц в Одессу полечиться грязями. Но, увы, такая поездка сейчас невозможна. Стало быть, выход один. Надо поскорее снимать гипс с вашей ноги. Полагаю, через месяц мы это сделаем. Только зачем вы торопитесь? Неужели для того, чтобы как можно скорее опять подставить свою ногу под огонь зениток и «мессершмиттов»?
– Только для этого, – мягко улыбнулся Нырко, и черные глаза его под широкими бровями сразу потеплели. – Иначе мы никогда не отбросим врага от Одессы и мне не придется долечиваться грязями.
Главный хирург присел на стул и похлопал по своим коленям широкими ладонями.
– Вот как! – басовито расхохотался он. – Люблю летчиков за веселый нрав. Считайте, что я за вас. Будем надеяться на то, что из списков полка вас исключать до возвращения не будут. – Он немножко помолчал, плотно стиснул полные губы и неожиданно закончил, как отрубил: – В строй вы, бесспорно, вернетесь, даю вам голову на отсечение. А вот будете летать или нет, это вопрос, как говорится, уже другой категории. Все-таки двадцать три осколка, задет нерв, повреждена кость. Пусть незначительно, но повреждена. Не знаю, дорогой потомок запорожцев, честное слово, не знаю.
– Послушайте, Андрей Иванович, – с нарастающей злостью заговорил Нырко, каменная фигура хирурга внезапно показалась ему надменной, а его басовитый голос снисходительным. – Вы заблуждаетесь. Я вам не нищий, вымаливающий подаяние. Я не прошу, а требую. Знаете, в чем заключается моя обязанность летчика-истребителя?
– Просветите, – пожал плечами Коваленко и снова зевнул.
– В том, чтобы с каждым проведенным воздушным боем сокращать на какое-то количество единиц самолетный парк Геринга и его кадры.
– Допустим.
– А знаете, в чем ваша обязанность хирурга военного госпиталя?
– Очевидно, нет, – снова захлебнулся Коваленко хриплым смехом.
– Конечно, нет, – сверкнул на него глазами Нырко. – Ибо если бы знали, то не разговаривали бы в таком ключе. У вас одна обязанность – вернуть меня в кабину истребителя во что бы то ни стало! – Майор ударил кулаком по матрасу, так что сетка взвизгнула. – Представьте на минуту наш огромный советско-германский фронт от Черного и до Баренцева моря, как иногда пишется в сводках Совинформбюро. Представьте сотни госпиталей и сотни летчиков, которые ежедневно попадают на такие вот больничные койки. Так разве есть среди них хотя бы один, который не мечтал о новых боевых полетах и о том непередаваемом ощущении, которое рождается, когда ты видишь, как падает на землю сбитый тобою вражеский самолет? Какое же вы имеете право лишать меня надежды?
Нырко умолк и только теперь заметил, что хирург, оставаясь сидеть в той же позе и продолжая упираться широкими ладонями в свои колени, спал. Взрыв громкого храпа огласил комнату. «Черт побери! – с гневом про себя подумал Нырко. – Издевается, что ли? Я ему о самом сокровенном, а он храпит!» Нырко покашлял. Коваленко вздрогнул и раскрыл светлые глаза.
– Вот черт! Прости меня, майор. Сон сморил. Знаешь, что я первым делом сделаю, когда мы закончим войну и разобьем фашистов? Трое суток подряд спать без просыпу буду. Видишь, какая у меня простая мечта в отличие от твоей.
Он внимательно вгляделся в черные глаза летчика, и на секунду ему показалось, будто в этих глазах блеснули слезы. Хирург терпеть не мог, когда в его присутствии начинали плакать.
Встав со стула, он сделал два шага к двери, потом обернулся и выпрямился.
– Ну, знаете ли, – холодно сказал он, – в вашем возрасте – и слезы… Это стыдно, молодой человек.
Но вдруг увидел, что израненный летчик вовсе и не собирался заплакать. И хирургу самому стало стыдно, что он мог заподозрить майора в этом. То, что Нырко о своем желании вернуться на боевую работу говорил со злостью, что в его голосе не было никакой мольбы, как-то необычно подействовало на Коваленко. Было что-то особенное в этом черноглазом молодом парне, чего он, главный хирург, не замечал в других, хотя за свою жизнь повидал сотни людей, в судьбу которых ему приходилось вмешиваться, С теми все было проще и яснее. Выслушав его прямые доводы, больные либо впадали в уныние, либо по нескольку раз переспрашивали о своей судьбе, в надежде, что хирург как-то смягчит сказанное накануне, произнесет слова совсем противоположные тем, что говорил сначала. А этот не заглядывал ему в глаза. Он разгневанно требовал, и только. И в душе у Андрея Ивановича пробудился какой-то новый голос, шевельнулось далекое, еще неосознанное чувство уважения к этому крепко сложенному, искалеченному войной человеку, горько подумалось: «Черт побери! Режу, режу, в тело человеческое заглядываю, а в душу хоть когда бы!» И ему, хирургу, у которого редко находились для пациентов ласковые слова, захотелось утешить раненого. Он молча прошелся по маленькой палате, остановился у полураскрытого окна и, глядя на прорубленную в редколесье асфальтовую въездную дорогу, сказал:
– Слушай, Федор… по-моему, Федор Васильевич?
– Федор Васильевич, – подтвердил с усмешкой Нырко, – по всему видно, в мои анкетные данные вы заглядывали.
– Положено, – буркнул Коваленко. – Но ты слушай. Знаешь, с какой поры появилась у меня эта несносная привычка говорить пациенту любую правду? С того дня, когда я потерял единственного сына. Это было давно, когда я еще кончал медицинский. Жорке было восемь, и он заболел дифтеритом. Я бегал по Москве как угорелый, призывал самых выдающихся светил, но они скрывали от меня – отца – правду, заставляли жить в мире надежд и иллюзий, уверяли, что ребенок выживет, а он умер на моих руках. И я поклялся тогда, что если стану хоть когда-нибудь настоящим хирургом, всегда буду говорить больным и их родственникам одну только правду. А теперь о тебе. – Он хмуро провел ладонью по колючей щеке. – Врать не намерен. Пока раны не заживут, трудно говорить, будешь летать или нет, дорогой Федор Васильевич. Вот есть у тебя где-то дом, жена, дети.
Вы ознакомились с фрагментом книги.

