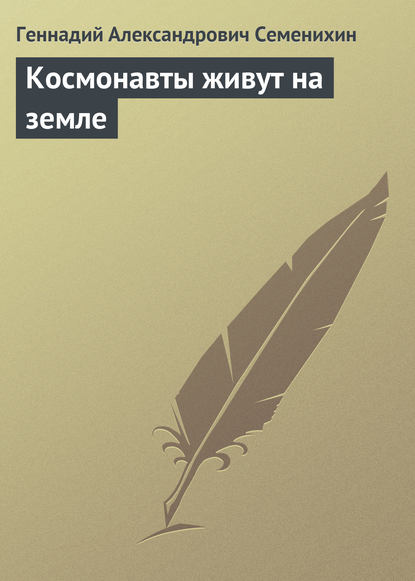 Полная версия
Полная версияКосмонавты живут на земле
Была у отчима блестящая иностранная зажигалка. Никогда он сам не служил из-за своего плоскостопия ни в армии, ни на флоте; трофейную эту зажигалку кто-то ему подарил. Стоило только нажать кнопку, крышка зажигалки распахивалась, и оттуда выскакивал маленький чертик, извергающий изо рта огонь. Очень она приглянулась мальчику. ВО время летних каникул, когда агроном находился в поле, взял Алеша ее на игрище с ребятами, да и потерял где-то.
Отчим приехал с поля ночью злой и усталый. Были у него на уборочной какие-то свои заботы и неприятности. Разве мало их у агронома, отвечающего за такое большое хозяйство, каким был совхоз «Заря коммунизма»! Наскоро похлебав щей и молока, захотел он перед сном выкурить папироску. Потянулся за своей любимой зажигалкой – на месте ее нет. Долго сопел агроном, рылся во всех ящиках и вазах – нигде не нашел. Тогда, как к последней решительной мере, прибегнул к допросу Алешки. Зажег в его комнате свет и по тому, как тот вздрогнул, сразу понял, что не спит он, а только притворяется спящим. И мгновенно вспыхнула у Никиты Петровича безотчетная злость.
– Слышь, Алексей, очнись-ка на минуту.
– Ну чего вам? – неохотно открывая глаза, протянул мальчик. Он уже с тоской ожидал неизбежной развязки. – Может, завтра меня спросите? Глаза слипаются.
– Ты мою зажигалку, случаем, не брал? Весь дом перерыл, отыскать не могу.
– Брал, – глухо сознался Алексей, не пытавшийся врать.
– Почему же на место не положил? – недобро покосился на него отчим. – По-моему, если уж взял чужую вещь, то по крайней мере, должен положить ее на место. Это как минимум. Так ведь, кажется?
Мальчик неловким движением опустил на пол босые загорелые ноги, не поднимая головы, подавленно буркнул:
– А у меня ее нет, Никита Петрович.
– Как так нет? – взорвался отчим. – Что же, ее святой дух забрал, что ли?
– Я ее потерял, – еле слышно пробормотал Алеша. – Мы с ребятами в казаки-разбойники играли, а потом борьбу на Покровском бугре устроили. Там в траве она и пропала. Целый час я ее искал, Никита Петрович. И куда только могла деться!..
Отчим неловко вытер со лба холодный пот, чувствуя, что злое удушье мешает ему говорить.
– По-по-те-рял? – тихо переспросил он. И вдруг сорвался, закричал тонким фальцетом: – Когда чужую вещь берут без спросу и она исчезает – это не называется потерял. Украл!
– Я не вор! – вскинув голову, обиженно сказал Алексей. – Я не вор, – повторил он. – Если беда случилась и я потерял вашу зажигалку, это еще не значит, что я вор. Я копилку свою раскрою и все деньги вам верну, какие она стоит, эта зажигалка. Я в долгу у вас не останусь.
– Молчать! – заорал Никита Петрович и в исступлении стал снимать с себя ремень. – Я тебе сейчас покажу, как чужие вещи без спроса брать. Живо отучу.
Он занес над своей лысоватой головой ремень и стал медленно приближаться к мальчику. И тут случилось неожиданное. Бледный Алешка метнулся к двери, схватил черный задымленный рогач, каким мать вынимала из печи кастрюли и сковородки, и воинственно встал на пороге.
– Не троньте! – крикнул он звенящим голосом. – Слышите, не троньте! Меня еще никто сроду не бил: ни отец, ни мать. Хоть в милицию ведите, если вором считаете, а бить не смейте.
– Отец, говоришь, не бил, – злым шепотом продолжал отчим, – отец не бил… А я тебя огрею, да так огрею, что навек отучу воровать!
Свистнул ремень, и пряжка шмякнула об пол в полуметре от босых мальчишеских ног. Пока озверевший отчим замахивался снова, Алешка как штык выставил вперед рогач и сухими гневными глазами ожег Никиту Петровича.
– Слышите, не троньте, иначе и я вдарю. И на то, что вы взрослый, не посмотрю.
Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы на заскрипела за спиной у мальчика дверь и на пороге не появилась усталая, вернувшаяся с совхозного поля с последней машиной мать.
– Батюшки-светы, да что же у вас такое делается! – воскликнула она, испуганно хватаясь за голову. – За какие-такие преступления ты его, сиротинушку, пороть собрался, Никита?
Агроном опустил ремень.
– Полюбуйся. Жулик у нас растет, Алена. Жу-лик! Он у меня зажигалку украл.
– Да не украл я, мама, – ставя на место рогач, протянул Алешка совсем уж другим, жалким и плаксивым голосом. – Я ее только на полчаса поиграть взял и сам не знаю, как она выпала.
Алена Дмитриевна видела нахохлившуюся, решительную фигуру сына, его торчащие на голове, начинавшие курчавиться волосы, видела немытый пол, кровать со смятым одеялом. Неожиданно ей показалось, будто под кроватью что-то блеснуло.
– Погоди-ка, сынок, – тяжело дыша, сказала мать, – что это там у тебя под коечкой виднеется? Слазь, посмотри.
Алеша нагнулся, достал из-под своей кровати не что иное, как ту самую зажигалку, и протянул отчиму.
– Вот она, – сказал он обрадованно. – Зря я считал ее пропавшей. Возьмите свою зажигалку.
Агроном сконфуженно засопел.
– Он тебя ударил? – спросила мать.
– Не-е, – протянул Алеша. – Я вовремя отскочил. Его пряжка вот тут только кусочек краски с пола соскребла.
– Хорошо, Алеша, – как-то неестественно спокойно сказала мать. – Выдь на несколько минут из дому. Надо нам с Никитой Петровичем перемолвиться.
Когда дверь за мальчиком закрылась, Алена Дмитриевна скинула с головы платок и с побледневшим лицом шагнула к мужу.
– За что же ты руку на него поднял, Никита? – спросила она тихо. – За что ты сиротинку вором-разбойником назвал? Или тебе мало, что он до сих пор по отцу погибшему тоскует? Кто тебе дал право над душой его изыматься? Разве не он из школы табель с одними пятерками и четверками принес? Разве не о нем в пионерском отряде самые добрые слова говорят? За что же ты его острой пряжкой хотел секануть?
– Но позволь, Алена… он же мою вещь без спроса взял.
– Не позволю! – повысила она голос. – Слышишь, не позволю! Была промеж нами любовь, горькая, но была. А теперь ее нет. Вот что я тебе скажу, Никита. Пойди верни мальчишку и немедленно перед ним извинись за то, что вором напрасно обозвал. Дескать, так и так, не будет больше этого, чтобы я руку на тебя подымал, и точка.
– Но постой, Алена! – взорвался поначалу оторопевший агроном. – Может, мне еще в ногах у него поваляться прикажешь, ручки ему поцеловать?! Нет уж, извини. Пусть я погорячился, вышел из себя. Но ведь если малец не почувствует крепкой мужской руки, он вовсе от порядка отобьется. Так что не гневись, но я Алешу в строгости и повиновении держать буду.
– Значит, не извинишься?
– Нет.
– И правым себя продолжаешь считать?
– В известной мере, да.
– Тогда не о чем нам говорить, Никита. Сына калечить я никому не позволю. Подумай лучше, а завтра будем решать.
Всю ночь проплакала Алена Дмитриевна, проклиная горькую свою долю. Не спал всю ночь и Никита Петрович, беспрерывно вышагивал по комнате, прикуривая от папиросы папиросу.
На рассвете он упаковал свои вещи в большой коричневый чемодан, перенес в совхозную контору – красный кирпичный домик в самом дальнем конце Верхневолжска, в свой кабинет. А через месяц, будто назло Алене Дмитриевне, он снова женился.
* * *На самой окраинной из городских улиц – Огородной, где жили Гореловы, почти напротив их калитки, чернела водоразборная колонка. Была она во все времена года местом постоянных сходок, на коих бабы с коромыслами и без коромысел, гремя ведрами, окликали друг дружку, охотно останавливались на несчитанное время, делились последними новостями и только потом, все обсудив и разложив по полочкам, осанисто возвращались к своим домам. В войну здесь можно было узнать, когда и в какой дом принесли с фронта похоронку, к каким счастливцам завернул на побывку муж или сын, какая вдова, нарушив благочестие, в горькой полынной утехе впустила на ночь проходящего военного и подарила ему короткую свою любовь, кого из верхневолжцев, обитателей этой окраины, произвели в новое звание или же прославили боевыми орденами.
И теперь здесь тоже судачили бабы. После того как Никита Петрович ушел от Алены Дмитриевны, их разрыв не однажды обсуждался у колонки, под звон тугой струи, падающей в ведра.
– Слышь, Матрена, – обращалась старуха с кирпичным лицом к своей собеседнице, – а это правда, что Аленка из-за сынка со своим агрономом разошлась?
– Болтают, правда.
– Вот аспид треклятый! И что за молодежь такая растет! Нешто можно, чтобы сын лишал свою мать последнего бабьего счастья? Если бы не он, чего бы им не пожить. Алена еще в годах и телом справная. Агроном этот тоже серьезный и обстоятельный.
– Да полно тебе брехать, – подходя к колонке и со звоном снимая с коромысла ведра, резала ее под самый, что называется, дых костистая, с басовитым голосом соседка Гореловых пятидесятилетняя Аграфена, всегда миловавшая и жалевшая Алешку, – жмот жмотом твой агроном! Мало того, что примаком в дом ихний вошел, так еще в ежовых рукавицах держать всех решил. Почти ни копеечки на хозяйство – все свои оклады в сберкассу норовит сносить. Кому такой колорадский жук, спрашивается, нужен?..
Разговоры эти долетали и до Алены Дмитриевны. Оставшись в одиночестве, она первое время как-то потускнела, пригорюнилась, но потом отошла и стала еще сердечнее относиться к сыну. Алешка, чувствуя себя виновником происшедшего, не знал, как ей только угодить. Он и на базар сам бегал, и воду носил, и с курами возился, и даже полы научился мыть.
Осенью ушла Алена Дмитриевна из полевой бригады на курсы счетоводов, а потом стала работать в совхозной конторе, до которой от их домика рукой подать. Незаметно бежало время. Сын по-прежнему хорошо учился, слыл среди школьных товарищей справедливым и рассудительным.
Был он уже в седьмом классе, когда вспыхнула у него страсть к рисованию. Мальчик стал посещать школьный кружок, приходил оттуда поздно вечером. В маленькой его комнатке появились краски, холсты и даже этюдник.
По вечерам при тусклом свете электрической лампочки Алеша так разрисовывал классные стенные газеты дружескими шаржами, что, уходя на работу, мать не могла смотреть на их без улыбки. Часто уходил Алеша то на Покровский бугор, то в городской сад или на совхозные поля с альбомом и карандашами, чтобы сделать наброски.
Однажды, когда он уже спал, Алена Дмитриевна, покончившая со стиркой, присела к маленькому столику, заваленному учебниками, и раскрыла один из его альбомов. Первый же карандашный рисунок заставил ее заинтересоваться. Возле водоразборочной колонки стояли несколько женщин, и она точас же узнала высокую Аграфену, ее соседку Дуняшку, даже ее дворового пса, прозванного за свою черноту Вороном. Перевернула страницу, там комбайн на косовице и знакомый им дядя Федор на рулевом мостике. Еще страница – Волга и пароход, плывущий под высоким правым берегом.
– Как похоже все, – обрадованно сказала она и посмотрела на курчавую голову спящего сына.
С одной стороны, она радовалась, что это увлечение оберегает Алешу от опасных уличных забав, а с другой – рисование казалось ей делом совсем-совсем зряшным. Иной раз она и вздыхала:
– Эх, Леша, Леша! Пятнадцатый годок тебе пожаловал. Пора бы уж и дело какое присматривать.
Сын на нее не обижался. Он только улыбался застенчиво:
– Подожди, мама. Москва и та не сразу строилась. Придет время – выберу дело себе по душе.
Однажды – было это дождливой осенью – вызвали ее в школу.
Ждать долго не заставили, сразу провели к директору. Не успела она присесть на обитый коричневый дерматином стул, вошел в кабинет еще один человек, немолодой, с буйной, успевшей поседеть шевелюрой, в пестром костюме и рубашке с вольно расстегнутым воротом. Пристально оглядел ее живыми глазами.
– Познакомьтесь, Алена Дмитриевна, – вежливо сказал директор, – это Павел Платоныч, наш учитель рисования.
Учитель присел рядом и легонько притронулся к ее локтю.
– Давно хотел с вами поговорить, Алена Дмитриевна. У вашего сына Алеши большие способности к рисованию. Если он будет их упорно совершенствовать – далеко пойдет. Он уже сейчас маслом пишет. Такой этюд недавно закончил!
Она положила заскорузлые, с набрякшими от труда венами ладони на колени и в растерянности сказала:
– А я-то думала, пустяки, игрушки. Я ему так об этом и говорила.
– Вот и напрасно, Алена Дмитриевна, – покачал головой ее собеседник и длинными точеными пальцами стал застегивать ворот своей рубахи, – совершенно напрасно.
– Так а что же я должна сделать? – растерялась она окончательно. – Вы уж извините меня, пожалуйста. Все-таки я не очень-то грамотная, не во всем научилась разбираться.
– Прежде всего вам надо серьезно отнестись к начинаниям сына, – убежденно сказал учитель. – Смотреть на его рисование как на серьезное дело. Мы организуем в школе небольшую студию. Алеша будет один из ее, так сказать, зачинателей.
Недели через две Алеша радостно прибежал из школы и развернул перед матерью золотыми буквами написанную грамоту.
– Мама, смотри. Это мне за рисунки. Первую премию дали. И еще фотоаппарат «Зоркий» в награду. Его на днях привезут.
Она читала двоившиеся буквы, и складывались они в короткий текст, извещающий, что решением жюри облоно первая премия на конкурсе «Юный художник» присуждена ученику седьмого класса Верхневолжской средней школы № 5 Алексею Горелову за картину «Обелиск над крутояром».
– Дай-ка очки, я еще раз прочитаю, Алешенька, – сказала мать, чтобы незаметно от сына прикрыть очками мокрые глаза.
На следующее утро у черной водоразборной колонки острая на язык бабка Додониха уже шумела, обращаясь к своей товарке:
– Слышь, Аграфена, а это правда, что гореловскому Алешке в области диплом за картину дали?
– И не в области, а в самой Москве, – гордо подтвердила верная их соседка, – и не только диплом, но и премию. Золотые часы с именной надписью.
Вечером мать спросила:
– Сынок, а что на ней нарисовано, на этой твоей картине? Ты бы хоть мне ее показал, что ли.
– Непременно, мама, – обрадовался Алеша. – Но ее только через неделю с выставки возвратят. И мне там кое-что поправить хочется.
– Зачем же поправлять, сынок, если картину твою премировали?
– Чтобы тебе показывать, мама, – смеялся сын, – ты для меня выше любого жюри. Я хочу, чтобы картина еще лучше стала. Тогда покажу.
Алексей сдержал слово. Дней через десять он принес большой, размером в оконную раму, плотный сверток, туго перетянутый шпагатом. Алена Дмитриевна, стиравшая в корыте белье, отняла руки, покрытые мыльной пеной.
– Это что, сынок?
– Картина, мама.
– Та самая?
– Ну конечно.
– И можно уже смотреть?
– Нет, подожди. Тут надо кое-что приготовить. Я для тебя все как на настоящей выставке хочу сделать.
Он прошел в свою крохотную комнату, разрезал веревки и с шуршанием отбросил в сторону оберточную бумагу. Насвистывая, он двигался по комнате, ставил картину то в одном, то в другом месте, стараясь определить, откуда на нее будет падать больше света, чтобы краски от этого не холсте как можно ярче заиграли. Наконец понял, что дневного света явно не хватает, потому что, блеклое и вялое, оно уже падало за Волгу. Тогда он затворил ставни и включил электричество. Картина ожила. Он обрадовался и мгновенно сменил сорокасвечовую лампочку на стовсечовую. Старательно завесил картину белым полотном и весело позвал:
– Мама. Готово.
Алена Дмитриевна вынула руки из мыльной пены, старательно их ополоснула и вытерла мохнатым полотенцем.
– Где же твоя картина, Алешенька, показывай, – сказала она, входя в его комнату. – Да тут же только белое рядно.
– Это так надо, мама. А теперь стань чуть подальше, к дверному косяку, и смотри, – командовал приободренный Алексей. – Раз, два, три. – Он сдернул белое полотно и торжественно прошептал: – Вот это и есть мой «Обелиск над крутояром».
Мать пораженно вздрогнула, та так и застыла.
На холсте алел закат. Яркое солнце догорало под розовыми перистыми облаками, наполовину утонув в водах широкой реки. Неспокойной была эта река. Сизые чайки над ее серединой низко припадали к белым гребешкам волн. Крутым яром обрывался правый берег над водой. Желтыми языками выступали глиняные оползни на неприветливом и почти голом обрыве. Лишь кое-где виднелись низкорослые жесткие кусты орешника, которым, по всему видать, очень неуютно было тут гнездиться. На берегу ветер безжалостно мотал ветлы одинокой ивы. Кривое дерево опустило их до самой земли. Под этой ивой, в безлюдной унылой степи, сиротливо стоял солдатский обелиск, увенчанный меаленькой пятиконечной звездочкой.
Столько таких обелисков было на нашей земле! Но этот, при виде которого так дрогнуло сердце, был единственным для Алены Дмитриевны. У этого обелиска, спиной к зрителю, стояли две скорбные молчаливые фигуры: высокая женщина в темном платье, повязанная по-крестьянски скромным, таким же темным, как платье, платком, и мальчонка в полосатой рубашке и стоптанных дешевых полуботинках, подпоясанный черным ремешком, курчавый, с немного оттопыренными ушами. В этих фигурах было так много горя, что Алена Дмитриевна вздохнула:
– Алешенька! Так это ты отцову могилу нарисовал? Ой как похоже, аж плакать хочется.
Но она не заплакала. Она только притянула к себе голову сына и, глядя на него темными глазами, стала гладить мягкие кудри. Вдруг она увидела его словно впервые, и чем-то новым поразил ее сын. Она заметила, что стал он и выше ростом, и раздался в плечах, а над прямой, тонкой, как у отца, полосой упрямого рта уже пробивался не детский мягкий пушок, хотя и реденькие, но настоящие мужские усики. Да и голос будто сломался. Стал резче и громче.
Как завороженная, вглядывалась мать в каждую черточку бесценного лица.
– Ой, Алешка! Да ты у меня совсем большой. Вот-вот тебе уже и бритва понадобится. – Она поцеловала его в губы, а потом в щеки, как прежде, и грустно прибавила: – Большой-то большой, а справить тебе одежонку как следует не в силах. Вон и пиджачишко подызносился, и ботинки на ладан дышат.
– Не надо, мама, – остановил ее смущенно Алексей. – ты же сама сказала, что я не маленький.
– Для меня ты навсегда останешься маленьким, сыночек, – покачала она головой. – А картина твоя и верно очень жалостливая и серьезная. Может, и правду сказал твой учитель Павел Платоныч, что в художники тебе надо подаваться.
– Это я еще не решил, мама, – смущенно засмеялся он и обнял мать.
– Ой, Алешка, – счастливо зажмурилась она. – Кем бы ты ни стал, одно скажу: славное у тебя сердце, сынок! Не попорть его. Пусть оно всю жизнь будет добрым и справедливым к людям.
* * *Разорвав в клочья белый конверт и выбросив его в урну, Алексей Горелов невеселой походкой человека, которому вдруг стало нечего делать, отправился бродить по городу. Единственно, чего бы он сейчас не желал, так это встречи со своими знакомыми и друзьями. Более года не был он в своем родном городе. Многое за это время изменилось в его жизни, и сейчас, испытывая большое огорчение, он меньше всего хотел подвергаться расспросам. Это заставляло юношу опасливо косить глазами по всем сторонам, искать тихие переулки, покидая бойкий центр. И все-таки он чуть было не попался. Когда сворачивал в тихий переулок, его окликнул школьный дружок Витька Пермяков.
– Горюн, да ты откуда и какими судьбами? Целый век тебя мы не видели. Почему в штатском? Хоть бы рассказал о своем житье-бытье. Я бы тебя кружечкой пива угостил, но очень спешу. У нас с Катенькой Рыжовой поход на танцы запланирован. Так что извиняй. Завтра к тебе забегу.
Алексей облегченно вздохнул и быстро зашагал вдоль зеленых, серых и голубых заборов, увитых плющом, сдерживающих напор сирени или попросту голых, каких немало в любом провинциальном городке. Ему хотелось уединиться.
Было у Алексея заветное место, куда он приходил в минуты своих радостей и печалей, – знаменитый Покровский бугор. Честное слово, во всем Верхневолжске нельзя было найти более живописного уголка, и, право же, горисполкому давно надо было разбить здесь скверик со скамеечками. А впрочем, может, и правильно делает мудрое городское начальство, что не переделывает тут природу, не отягощает пейзаж голубыми скамеечками, урнами, клумбами и прочими атрибутами. Здесь чертовски хорошо и так! Плохо только, что, прежде чем попасть на Покровский бугор, нужно больше километра прошагать от центра. Вот почему не так-то много на берегу народу. Это либо ватага играющих мальчишек, разбегающихся по домам при первых признаках темноты, либо две-три влюбленных парочки, уже настолько уверовавшие в прочность своей любви, что им попросту нечего стало делать в шумном городском парке. Да еще забредет сюда иной раз пенсионер или не столь давно отстраненный от должности неудачливый начальник – задумчиво поглядит в заволжскую даль, будто в зеркало своей жизни, подумает, попечалится и уйдет, вдоволь надышавшись речным воздухом…
Алеше Горелову хоть в этом повезло – в тот день на Покровском бугре никого не было. Видно, встреча Гагарина была тому причиной.
Алексей подошел к самому берегу и замер, завороженный красками наступающего вечера. «Нет, такого мне на полотне не изобразить!» – грустно признался он самому себе.
Под подошвами его коричневых запыленных полуботинок с легким шуршанием осыпался грунт. Пыльные струйки убегали вниз и терялись в высокой траве. Справа и слева стояли литые, как свечи, сосны – словно подпирали бугор. А впереди, ровная и раздольная, распахнулась матушка-Волга. Было заметно, как под бугром, на ее серой поверхности, закипают струйные заверти, оставляя след. Солнце уже успело перебросить через реку, прямо от обрыва и до левого низкого берега, поросшего ивняком и осокой, широкий золотой мост. Где-то за излучиной, еще невидимый, три раза прогудел пароход, а потом показался и сам, белоснежный и сияющий огнями всех трех палуб, совсем не похожий на своих отцов, дедов и прадедов, что еще лет пятнадцать назад шлепали плицами по волжской глади. На большой скорости приближался пароход к городу, следуя куда-то к Ярославлю, Горькому, а потом, видимо, и к самой Астрахани. С самой верхней палубы любовались волжскими пейзажами десятки пассажиров, и, когда пароход поравнялся с бугром, Алеша, как в прежние годы, созорничал, рупором сложил у рта ладони и крикнул во всю мочь:
– Э-ге-й! Люди! Доброго вам пути!
Эхо подхватило его басок, услужливо донесли до самого заречья и замерло.
– Небось и не услыхали, – засмеялся Алеша.
Но кто-то из стоявших на палубе, очевидно, заметил его невысокую плотную фигурку и помахал приветственно белым платком. И уже с опозданием эхо доставило:
– И тебе тоже богатырем быть волжским!
– Ишь ты! – польщенно покачал головой юноша.
В это время пароход попал на солнечную дорожку и мгновенно преобразился, весь, от верхней палубы и до самого низа, засиял золотыми бликами.
– Красотища-то какая! – прошептал Алеша.
И он подумал о том, какая поистине могучая и сильная русская река Волга, сколько селений и городов обосновалось на ее берегах, сколько великих людей родилось, выросло, совершило подвиги и навеки закрыло свои глаза, а она все течет и течет, такая же юная и древняя, неспособная растратить свою красоту и мудрость.
«Великие люди… – размышлял про себя Алексей. – Как много их связано с Волгой! Ленин, Горький, Степан Разин, Пугачев, Чкалов… А вот я, простой российский парень Алешка Горелов. Ну что из меня выйдет, какой дорогой пойду, если не постою за свое заветное?»
Покровский бугор был для него не только любимым местом, откуда открывался взору волжский пейзаж. Разве забудет он, например, ту ночь, когда целым классом, взявшись за руки, долго бродили они по улицам Верхневолжска, пока не перепели все им известные песни, какие только можно было петь хором. Потом вчерашние десятиклассники, но с этого вечера уже не школьники, а взрослые люди, которым предстояло самим решать свою судьбу, сбились веселой стайкой на этом бугре. Розовело утро, и горизонт за левым берегом уже подернулся нежным сиянием, звезды начали тускнеть, одна только луна была такой же безжизненно выразительной и висела низко-низко над ними…
Володька Добрынин прутиком помешивал в костре золу – там пеклась обугленная в мундирах картошка, каждому по штуке. Посмотрев на ночное светило, изрек:
– Ишь как близко от нас проплывает! Кажется, рукой достать можно.
– Видит око, да зуб неймет! – говаривал в таких случаях дедушка Крылов, – засмеялась востроглазая, щуплая Леночка Сторожева.
– Да на кой она вам черт сдалась! Вот не понимаю, – пожал равнодушно плечами Алеша, – огромная стылая глыба, и только. Горы и пропасти на ней небось безлюдные, и ни одного живого существа. Даже и рисовать-то ее не неохота.
– Эй, ребята! – закричал в эту минуту Володя Добрынин, угреватый высокий парень в нескладно сидевших на переносице роговых очках. – Картошка поспела!
– А соль? – послышался почти испуганный голос.
– Порядок, – хлопнул себя по карману Алеша, – в наличии.
Вы ознакомились с фрагментом книги.

