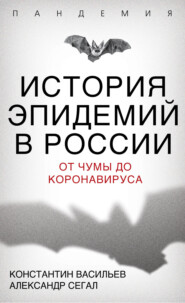
Полная версия:
История эпидемий в России. От чумы до коронавируса
Следовательно, судя по этим сообщениям, «черная смерть» в 1346 г. свирепствовала на устьях Дона, в отдельных местностях Поволжья, на Кавказе, по побережьям Каспийского, Азовского и Черного морей.
Относительно начала эпидемии на Руси мнения историков расходятся. По Рихтеру и Геккеру, «черная смерть» появилась на Руси в 1351 г., Н. М. Карамзин и С. М. Соловьев относили начало этой эпидемии к 1352 г.
В Псковской II и Никоновской летописях болезнь эта упоминается под датой 1351 г., а в Псковской I и в Новгородских I и IV – 1352 г.[29]
На основании имеющихся исторических источников решить спор о годе первого появления «черной смерти» на Руси нет возможности.
Однако известно, что распространение болезни началось с Пскова. Это вполне объяснимо, если учесть оживленные торговые сношения Пскова с Западной Европой, где в это время уже свирепствовала чума.
В летописях (Новгородские I и IV, Псковская и Никоновская) имеются довольно подробные сведения о появлении и движении этой эпидемии.
Новгородская летопись так описывает начало этого «мора» в Пскове: «Того же лета бысть мор зол в граде Пскове и по селам, смерти належаши мпози; мроша бо люди, мужи и жены, старый и младыи, и дети, и попове, и чернци и черници»[30]. В панике, не зная и не видя никаких мер для защиты от этого бедствия, псковитяне обратились в Новгород, к архиепископу Василию с просьбой «в недостатке всех средств к отвращению сей божеской казни» посетить Псков, отслужить там молебен и благословить город. Архиепископ прибыл в Псков в конце мая, обошел город и через несколько дней отправился обратно в Новгород, но по дороге умер от «черной смерти». Новгородцы устроили ему торжественные похороны, привлекавшие толпы народа, и через короткое время в Новгороде чума свирепствовала с не меньшей силой, чем в Пскове. «Той же осени бысть мор силен в Новегороде и в Ладозе… вниде смерть в люди тяжка и напрасна, от Госпожина дни паче же и до Велика дни»[31].
В Пскове, следовательно, «черная смерть» свирепствовала летом, в Новгороде же от 15 августа («Госпожин день») до Пасхи («Велик день»).
Чума быстро распространилась по Руси: «Не во едином же Новеграде бысть сие, но по всем землям… Того же лета бысть мор силен в Смоленске, и в Киеве, и в Чернигове, и в Суждале, и во всей земле Русстей… и бысть страх и трепет велий на всех человецех. В Глухове же тогда ни един человек не остася, вси изомроша; сице же и на Белеозере».
•Смертность во время этой эпидемии была очень большая: «И не бе где погребати мертвых… все убо бяше могилы новые…и мног плач и рыдание во всех людех бе, видяше друг друга скоро умирающе, и сами на себя тоже ожидающие».
По описанию в Новгородской летописи, в Пскове попы не успевали отпевать покойников поодиночке: «Попове бо не можаху проводити по единому из дворов за множество умирающих…но веляху комуждо мертвыя своя на церковный двор приваживать, об нощь (за ночь) бо умершим утре обреташеся до 30 или боле скопится у единой церкви, а всем тем один провод, отпеваху надгробную песнь… и тако полагаху и по 3 или по 5 голов во един гроб; такоже бяше по всем церквам, и негде уже бяше погребати умерших, все бо могилье въскопано бяше, ини и подале от церкви и опрочь церкви могилье на целых местах въскопавше погребаху».
По мнению летописцев, болезнь эта пришла из Индии: «Некотории же реша тот мор из Индейской земли, от Солнцеграда» (Гелиополь).
В летописях довольно точно описываются клинические формы легочной и бубонной чумы, наблюдавшиеся в описываемое нами время: «Болезнь же бысть сицева: преже яко рогатиною ударит за лопатку, или под груди, противу сердца, или меж крил, и тако разболевся человек, начнет кровию хракати и огнь зажжет и разворит, и потом пот велий пойдет, тоже потом дрожь имет, и полежав день един или два, а ретко того кто бы полежал три дни, и тако умираху»[32]. «В лето 6863 (1360) бысть в Пскове вторый мор лют зело; бяше тогда со знамение: егда кому где выложится железа, то вскоре умираше»[33]. «А еже железою боляху, не единако: иному убо на шии, иному же на стегне… иному же под скулою, иному же за лопаткою; и умираху на день человеков инода до седми десяты, а иногда по сту, а иногда до полутораста»[34].
Судя по описаниям, можно думать, что чума в этот период носила смешанный (легочный и бубонный) характер. В 1363 г. эпидемия охватила Новгород, Переяславль, Казань, Коломну, Владимир, Суздаль, Дмитров, Можайск, Вологду и окрестности Москвы. Смертность была огромной – умирало от 70 до 150 человек в день.
В 1364 г. снова разразился мор: «Бысть мор велик в Новегороде, в ижнем, и на все уезде его… храхаку людие кровию и инии железою юлезноваху день един, или два, или три дни мало… и се бе по вся дни и не успеваху живыа мертвых погребати, умираху бо на день по пятидесят и по сту человек и болше… Того же лета мор бысть в Переславли… не токмо же в граде Переславли было сие, но и по всем властей и селом и манастырем Переславским… а преже того был мор в Новегороде в Нижнем, а пришел от низу, от Бездежа, в Новгород в Нижний, а оттуду на Рязань и на Коломну, а оттуду в Переславль, а оттуду на Москву, и тако разыдеся во все грады… и в Суздаль, и в Дмитров, и в Можаеск, и на Волок и во все грады разыдеся мор силен и страшен… и бысть скорбь велиа по всей земли, и опусте земля вся и порасте лесом, и бысть пустыни всюду непроходимыа»[35].
Эпидемия 1364 г., очевидно, являлась продолжением эпидемии 1360 г. В то же время летописец описывал и сильнейшую засуху: «Того же лета бысть сухмень велиа по всей земле, и вздух куряшеся и земля горяще»[36].
В последующие годы снова голод и мор. В 1365 г. – голод и мор в Ростове, Твери, Пскове, Торжке, Москве, в Литве.
В 1373 г. «зной велици, и дождя сверху ни едина капля не была во все лето; а на кони и на коровы и на овцы и на всяк скот был мор велик. Потом же прииде на люди мор велик по всей земле Русской. В 1375 г. – «мор на люди и на скот в Твери и в Киеве». В 1377 г. – страшные морозы и «мор бысть в Смоленске»[37].
Более точных сведений о характере «мора» в Твери, Киеве и Смоленске в летописях нет, но большинство исследователей считают, что это была чума.
В Европе чума господствовала в 1360, 1361, 1369, 1372 и 1382 гг. Гюи де Шолиак сообщал об эпидемии 1360 г., что она появилась в Германии и в середине следующего года дошла до Авиньона. Летом 1361 г. она достигла своего кульминационного пункта; во многих местах вымерло более половины всего населения. Затем болезнь перебросилась в Польшу. В Кракове умерло от нее около половины всех жителей, среди них – все преподаватели тамошнего университета.
В 1361 г. чума свирепствовала в Ломбардии, Павии, Венеции, Падуе, Парме, Пьяценте. В 1363 г. почти полностью были опустошены Торн, Грауденц, Неймарк. В 1368 г. чума распространилась в Англии. В 1371 г. болезнь снова появилась в Польше, в 1374 г. – в Италии: Генуе, Болонье, Милане, Павие, Пьяценте и др.
Затихнув на 8 лет, чума вновь вспыхнула в Европе в 1382 г. Таким образом, чума опустошала Европу на протяжении нескольких десятилетий.
Происхождение этих эпидемий неясно. С точки зрения современных взглядов можно думать, что они были связаны с местными очагами болезни и эпидемии «черной смерти» второй половины XIV века и возникали не за счет заноса «заразы» откуда-то извне, а источники их находились в это время на территории самой Европы.
Многочисленные описания «моров» в эти годы сохранились и в русских летописях. В 1387 г. был «мор» в Смоленске, в живых осталось только пять человек: «Только выйдоша из города 5, человек, город затвориша…»[38]. В 1388 г. эпидемия распространилась на Псков и Новгород: «А во Пскове бысть мор, на мясной недели, и в великое говение, и через всю весну, и в Петрово говение, а знамение бысть ово железою, ово хракъ кровию»[39].
Следовательно, и этот «мор» был чумою, ибо летописи четко указывают, что мор этот был «железою».
В 1389 г. «Бысть же мор в Пскове, якоже не бывал таков: где одному выкопали гроб, ту пятеро и десятеро голов в един гроб вложиши»[40]. В 1393 г. «зима бысть студена велми, и мрази нестерпимы, и множество без числа людий и скот изомроша»[41].
В 1396 г. татары осадили Москву, но через две недели бросили осаду. Причиной внезапного снятия осады была, вероятно, эпидемия, разразившаяся в войске татар. На это указывает Никоновская летопись: «Тое же осени бывшу царю Темир Аксаку на Ординских местах… прииде на него гнев божий… мор силен на люди и на скоты»[42].
Этим заканчиваются в летописях сведения об эпидемиях в XIV веке.
В связи с огромными эпидемиями «черной смерти» в XIV веке возникают впервые противоэпидемические мероприятия. Их появлению предшествовало накопление наблюдений и возникновение мысли о «прилипчивости» (заразности) болезней, вызывающих эпидемию, о возможности заражения через соприкосновение с вещами умерших или лицами, бывшими с ними в тесном общении.
Уже в 1350–1352 гг. при описании мора летописец рассказывал: «Аще бо кто, что у кого возмет, в той час неисцелно умирает. Мнози же послужити хотяше умирающим, и тии скоро неисцелно умираху, и того ради мнози отбегающе послужити умирающим»[43].
Подобные же указания содержатся и в IV Новгородской летописи: «Кто аще кому отдаваху остаток живота своего, или детей, то и те такоже мнози на борзе разболевшеся умираху. Си же видяще инии бояху ся преимати от умерших тех животов, страхом смертным омрачавшися безумнии, своих сродник отвращахуся тогда»[44].
По словам Гезера, ни один из очевидцев «черной смерти» в Европе не сомневался в ее заразительности.
К XIV веку относится появление первых карантинов. Впервые они возникли в Венеции, где в 1348 г. были построены специальные дома, в которых в течение сорока дней выдерживались все приехавшие из пораженных болезнью мест. Отсюда произошло и название карантинов (итальянское quarantena, от quaranta giorni – сорок дней).
В качестве профилактической меры врачи рекомендовали также «очищать» воздух или по возможности скорее уезжать или уходить из зачумленной местности. Для очистки воздуха применялись большие костры, зажигаемые на площадях, на улицах и даже в жилищах. Папа Николай в своем дворце в жаркие летние дни днем и ночью поддерживал огонь такого костра.
Пользовались большой популярностью и всевозможные профилактические диетические предписания, ограничивавшие или рекомендовавшие те или иные сорта пищи и напитков.
На Руси в XIV столетии на пути предполагаемого движения заразы стали выставлять костры. Так, в 1352 г. в Новгороде в связи с эпидемией чумы горожане просили владыку «костры нарядить в Орехова». Сопровождались ли эти меры также запрещением приезжать в город из пораженных болезнью мест, т. е. были ли эти «костры» заставами, сказать сейчас трудно.
Возможно, что эта мера была своеобразной предшественницей широко распространенных в следующее столетие застав и засек.
«Черная смерть» вызвала в Европе вспышку массового религиозного фанатизма. Понятно, что огромную роль в происхождении его играло духовенство, церкви и монастыри, в казну которых рекой полились приношения. Церковь извлекала из «черной смерти» и политическую выгоду, стараясь укрепить свое уже начинающее колебаться доминирующее положение.
Вспышка религиозного фанатизма, подогреваемого агитацией духовенства, повлекла за собой своеобразную психическую эпидемию, так называемый гайслеризм – братство самобичевателей. Эта секта впервые возникла в 1260 г. – в Италии. В период 1348–1349 гг. братства самобичевателей распространились по Германии, Франции, Швейцарии. Нидерландам. Приверженцы этой секты толпами путешествовали по стране, переходя из города в город, из селения в селение. Придя в какой-нибудь город, одетые лишь в одну рубашку и украшенные крестом, они направлялись в церковь или собор и там публично подвергали себя немилосердному бичеванию. Иногда, будучи недовольны результатами самобичевания, отдельные сектанты прибегали к услугам палача. После этого самобичевания один из сектантов зачитывал собравшейся толпе письмо, «которое ангел положил на алтарь св. Петра в Иерусалиме, где сам бог призывал людей к покаянию». После этой проповеди следовал доклад о ходе чумной эпидемии, о ее причинах и даже о методах борьбы с ней[45].
Нередко проповедь заканчивалась призывом к еврейским погромам. Волна жесточайших погромов началась в Шильоне (Швейцария), на берегу Женевского озера, в 1348 г. Отсюда она распространилась по всей Швейцарии (Берн, Фрейбург, Базель), перекинулась в Эльзас-Лотарингию, южную и прирейнскую Германию.
На Руси в то время еврейских погромов не было и, по всей вероятности, потому, что громить было некого – евреев на Руси тогда было очень мало. Обвинение в сеянии заразы возводилось на Руси на «ведьм», «ведунов», «колдунов» и татар. В Пскове в конце XIV века во время чумной эпидемии было сожжено одиннадцать «вещих женок».
Глава 4. Эпидемии и борьба с ними на Руси в XV–XVI веках
В XV–XVI веках заканчивался длительный и сложный процесс сбора русских земель вокруг Москвы, ликвидации феодальной раздробленности страны, образования централизованного русского государства. Усиление власти московских князей вело к ослаблению зависимости русского народа от татаро-монгольских поработителей. В России, писал Энгельс, «покорение удельных князей шло рука об руку с освобождением от татарского ига и окончательно было закреплено Иваном III»[46].
В 1480 г. Русь полностью освободилась от татаро-монгольского ига, душившего русский народ в течение почти двух с половиной веков. Намечается новый подъем производительных сил страны. Оживают старые города, возникают новые поселения городского типа. Устанавливаются непосредственные торговые связи с западноевропейским рынком через Белое море. Усиливается торговля с восточными странами.
Создание мощного централизованного государства, укрепление экономических и политических связей явились стимулом для создания общерусской культуры. Воскрешаются традиции богатой и многогранной культуры Киевского периода. Обновляются и восстанавливаются памятники древнерусского зодчества. В Москве и других городах русского государства ведутся обширные строительства каменных церквей и палат, совершенствуется укрепление городов. На основах народного деревянного зодчества в XVI столетии вырабатывается новый национальный стиль, постройка шатровых храмов.
Развивается живопись, прикладное искусство (художественное шитье, ювелирное дело, резьба по дереву). Вводится книгопечатание, создается богатая светская литература, появляется свод общерусской истории.
В противоположность мнению зарубежных и русских буржуазных авторов, писавших о Московской Руси как о стране сплошного варварства и дикости, есть все основания утверждать, что по своему культурному уровню Русь того времени отнюдь не уступала западноевропейским государствам. О высоком для своего времени общекультурном уровне Руси XVI–XVII столетий убедительно свидетельствуют благоустройство русских городов, мероприятия по их очистке и водоснабжению, а также описания жизни и быта населения.
По данным Арцнховского, Тихомирова, Фалковского, в древнерусских городах еще в первый период их истории уделялось большое внимание благоустройству и поддержанию чистоты. В Москве деревянная мостовая существовала еще до XIV века. В XVI веке есть указание о появлении каменной мостовой. «Торговища» (рынки) русских городов регулярно очищались от мусора и «конского кала».
Благодаря сравнительно просторной застройке и обилию зелени русские города отличались относительной чистотой в противоположность западноевропейским городам, антисанитарное состояние которых поражало русских путешественников.
Первый водопровод в русских городах появляется в XI–XII веках. Раскопки, произведенные Арциховским, показали существование в Новгороде XI века целой системы водопроводных сооружений. Водопровод был сооружен из деревянных труб, тянувшихся на большое расстояние, и имел специальные смотровые колодцы, обеспечивающие чистку системы в случае засорения ее. Для сравнения укажем, что первый водопровод в Германии был построен в Нюренберге в XV веке.
Об общекультурном уровне Московской Руси XV–XVI веков свидетельствует также ряд бытовых деталей, например широкое распространение бань, известных на Руси еще в глубокой древности. Так, в летописи есть указание о постройке в 1089 г. каменной, очевидно, общественной бани в Переяславле. О любви русских мыться и париться в бане часто упоминают иностранцы, побывавшие в Москве в XV–XVII веках (Олеарий, Мейерберг). Бани были не только на княжеских и боярских дворах, но и среди дворовых построек отдельных домохозяев. Сохранилось описание роскошных мылен, устраиваемых в царских дворцах и домах бояр. Бань было в Москве так много, что в XVII веке Борис Годунов только от них и купален собрал огромную по тому времени пошлину 1500 рублей!
Мытье в бане сопровождалось обязательной сменой белья, так как «чистое мытие и частое переменение платия вшам множится не дает» (Вертоград XVII века). Известно было на Руси и употребление мыла, по крайней мере в лечебнике XVI века хвалят одну траву, потому что «пена от нее исходит аки от мыла». Качество мыла высоко ценилось, ибо «от мытия мыльного тело чистое живет»[47].
Особое внимание уделялось соблюдению чистоты при приготовлении пищи, так как, по существующим тогда мнениям, от загрязнения пиши и «всякого незрелого овоща» у человека случаются болезни и могут появиться «внутренние глисты». Поэтому Домострой поучал столовую и кухонную посуду всегда тщательно чистить, мыть горячей водой, просушивать.
Фальковский, описывая Москву XVI–XVII столетия, отмечает: «Заслуживает внимания широкое применение ледников при жилых домах, тем более при больших поварнях для хранения скоропортящихся продуктов и напитков».
Анализируя древнерусские миниатюры, Богоявленский обнаружил множество изображений предметов быта и домашнего обихода, известных и употребляемых сейчас. Так, еще к XIII веку относится появление кроватей в виде невысокого удлиненного ящика, обращенного дном кверху, четырехугольных подушек, столовой посуды. Сохранились многочисленные изображения столов, табуреток, скамей, ложек, ножей, чаш, ковшей, солонок, кубков. Издавна существовал обычай мыть руки перед едой и пользоваться полотенцем[48].
Сравнительно высокого уровня развития достигли в Московской Руси медицинские знания. Но, говоря о состоянии медицины в то время, нужно различать народную медицину, обслуживавшую широкие круги населения тогдашней Руси, и дворцовую, обслуживавшую особу царя и узкий круг его приближенных.
Презирая выходцев из народа и не доверяя им, правящие круги выписывали для своего обслуживания врачей-иностранцев. В большинстве случаев это были случайные люди, авантюристы, привлекаемые возможностью наживы. Русские люди отрицательно относились к ним, и нередко даже высокопоставленные лица предпочитали лечиться у своих, русских лекарей. Иностранные врачи не оказали сколько-нибудь заметного влияния на развитие русской народной медицины. Количество их на Руси было невелико, да и, чуждаясь русских, они не желали передавать нм свои знания. Переводы же из западноевропейской медицинской литературы в виде «Вертогладов» или «Прохладных вертогладов» появились на Руси только в XVII–XVIII веках и едва ли были доступны лекарям из народа.
Профессия врача или лекаря существовала на Руси, очевидно, очень давно. Так, среди экспонатов Государственного исторического музея в Москве есть страница одного из монастырских уставов XII века, в котором записано: «Надо, чтобы был или свой врач или всегда живущий в монастыре… В случае внезапного недуга и требующего скорого лечения – беда, если врач не придет тотчас, подавая больному исцеление… И надо, чтоб врач приготовил различные мази и пластыри; и другие лекарства подобает приготовить, которые выдает хранитель, чтобы, когда кому потребуется, он мог бы тотчас получить нужное».
В лавочной книге Новгорода Великого 1583 г. среди перечня медицинской литературы, из имеющихся тогда профессий, упоминается также лекарь, причем упоминается также одна лекарица Натальица Клемеитьевская. Лавки лекарей располагались в Новгороде в переулке «к рыбному и к свежному ряду»[49].
Довольно рано на Руси появились больницы. Факт существования светской больницы в Новгороде засвидетельствован русско-немецким договором еще в 1346 г.
Рядом с лавками лекаря в русских городах располагались лавки «зелейников», которых большинство авторов рассматривают как своеобразных аптекарей.
Одной из интереснейших особенностей древнерусской народной медицины было самое широкое применение всевозможных растительных «зелий» для лечения больных. В лечебнике XVII века только при малярии рекомендуется 55 всевозможных «зелий», но было бы неправильно думать, что арсенал народной медицины ограничивался только ими, известно также, что применялись ртуть, сера, нефть, селитра[50].
Аптеки европейского типа появились впервые на Руси в XVI веке, в 1581 г. в Москве была устроена первая царская аптека, обслуживающая царя, его семью и царский двор.
В 1672 г. при царе Алексее Михайловиче была открыта вторая, «новая» аптека, которая должна была продавать «всякие лекарства всяких чинов людям по указной книге», в «указной книге» устанавливались цены отпускаемых лекарств. Одновременно с открытием второй аптеки издан указ, запрещающий частным лицам торговать лекарствами и монополизирующий эту торговлю в пользу казны.
В тоже время, говоря о развитии производительных сил страны в веках, о расширении торговли, о росте могущества Московского государства и о сравнительно высокой культуре и развитии медицинских знаний, нельзя забывать, что в связи с централизацией политической власти в руках самодержавия и усиления класса феодалов усиливается эксплуатация крестьян. В интересах дворянства, являвшегося опорой самодержавия, в XVI веке юридически оформляется прикрепление крестьян к земле. Наряду с возвышением и обогащением феодальной верхушки дворян и купцов происходит разорение массы крестьян и горожан.
Все это не могло не сказаться на общей эпидемической обстановке в стране и было причиной широкого распространения инфекционных болезней, частых «гладов» и «моров».
В 1402 г. был «мор в Смоленске на люди», в 1403 г. – мор в Пскове «железою» («И пришел мор от немец из Юрьева»), в 1406 г. – снова «мор железою» в Пскове, его волостях и пригородах, в 1408 г. – новая вспышка чумы, но в легочной форме: «Мор каркотою по всей русской земле и множество христиан изомроша от глада»[51].
В 1409 г. опять «мор», носивший особый характер: «Руки и ноги прикорчит, шею скривит, зубы крежещут, кости хрустят, все суставы трещат, кричит, вопит, и мысль изменится, ум отнимается, иные один день поболевши умирали, другие – полтора дня, некоторые 2 дня, а иные поболевши 3–4 дня выздоравливали»[52].
В 1414 г. «Болезнь была Кристианам тежка зело, костолом по всей земле русской».
Сопоставив описание «мора» 1409 г. и «костолома» 1414 г., можно прийти к заключению об идентичности этих заболеваний. Изложенная летописью симптоматика: ломота в суставах, судороги («зубы крежещут, кости хрустят»), затемнение сознания («мысль изменится», «ум изменится») – заставляет думать о поражении центральной нервной системы. Но неизвестно, сопровождалась ли болезнь большой летальностью.
Вряд ли это была чума, ибо чуму летописцы характеризуют как «мор железою» или «мор коркотою». Можно, конечно, думать о септической форме чумы. Известно, однако, что эта форма встречается крайне редко и притом всегда лишь как вариант при наличии легочной или бубонной формы. Кроме того, характерной особенностью этой формы чумы являются кровоизлияния – почти черные петехии или кровоподтеки и кровотечения (носовые, легочные, кишечные и т. д.). Несомненно, летописцы не прошли бы мимо этих бросающихся в глаза симптомов. Скорее всего, это был грипп. О подобных эпидемиях в Западной Европе в это время сведений нет.
С крайней интенсивностью чума свирепствовала в 1417 г. в Пскове, Новгороде, Владимире, Ладоге, Твери, Дмитрове, Торжке. При этом были описаны как легочные, так и бубонные формы. Летописец сообщает: «В лето 6925 (1417)… мор бысть страшен зело на люди в Великом Новегороде, и во Пскове, и в Ладозе, и в Русе, и в Порхове, и в Торжьку, и в Твери, и в Дмитрове, и по властем и по селам. И толико велик бысть мор, яко же живии не успеваху мертвых погребати, ниже довольна бываху здравии болящим служити, но един здравии десятерым, или дватцатерым болем служаше; и на всех тех местах умираху толико на всяк день, яко не успеваху здравии мертвых погребати до захожения солнечного и многа села пусты бяху, и во градех, и в посадех, и едва один человек или детище живо обреташеся; толико серп пожа человекы, аки класы, и быша дворы велицыи и силнии пусты… Болезнь же сицева бысть: преже яко рогатиной ударит за лопатку человека, или противу сердца, или под груди, или промежи крыл, или в паху, или под пазуху, и разболевся человек, начнет кровию хракати, и огнь разжет и посем пот имет и потом дрожь имет; и тако похожаше по всем суставом человечий недуг той; железа же не едина бяше; иному на шеи, иному на стегне, иному под пазухою, иному под скулою, иному за лопаткою, иному в паху. и на инех местех… В Новежегороде, и во Пскове, и в Торжьку и во Твери обещашеся людие обеты многими и во един день по многим местам церкви срубиша, и поставиша, и свящаша и литургисаша»[53].

