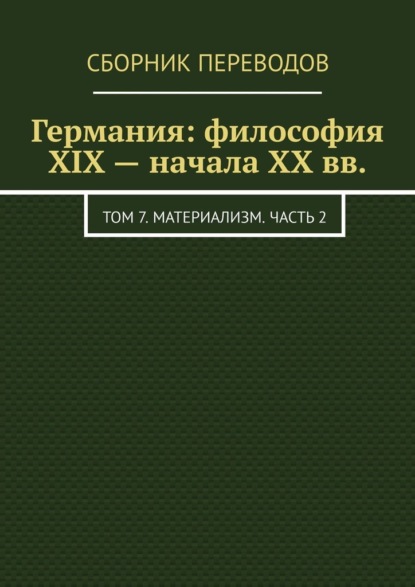
Полная версия:
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 7. Материализм. Часть 2
Но роковой момент приближается. Всякое царствование, позволяющее себя ограничить, заканчивается демагогией; всякое божество, ограничивающее себя (definit), растворяется в пандемониуме [совокупности всех демонов – wp]. Поклонение Христосу – последняя стадия этого долгого развития человеческой мысли. Ангелы, святые, девы царствуют на небесах с Богом, говорится в Катехизисе; злые духи и отступники живут в аду в вечных мучениях. Общество в потустороннем мире имеет правых и левых: пришло время завершить уравнение, чтобы эта мистическая иерархия спустилась на землю и проявилась в своей реальности.
Когда Мильтон описывает, как первая женщина, увидев свое отражение в ручье, с любовью раскинула руки, словно желая обнять свою собственную форму, он шаг за шагом описывает человеческую расу. – Этот Бог, которому ты, человек, поклоняешься, которого ты сделал добрым, справедливым, всемогущим, мудрым, бессмертным и святым, этот Бог – ты сам: этот идеал совершенства – твой образ, очищенный в пламенном зеркале твоего сознания. Бог, природа и человек – триединая форма одного и того же существа; человек – триединая форма одного и того же существа; человек – сам Бог, поскольку он достигает сознания самого себя через тысячу ступеней развития; в Иисусе Христе человек воспринял себя как Бога, и христианство по истине есть религия Богочеловека. Нет иного Бога, кроме того, кто от начала сказал: Я; нет другого Бога, кроме тебя.
Таковы окончательные выводы философии, ибо, раскрывая тайну религии и свою собственную, она сама становится иной.
II.
Кажется, будто на этом все должно было закончиться, будто теологическая проблема должна была быть устранена навсегда, как только человечество перестало поклоняться себе и делать себя тайной. Боги ушли: человеку ничего не остается, кроме как скучать и умирать в своем эгоизме. Какая ужасающая пустошь простирается вокруг меня и зарывается в глубины моей души! Мое возвышение похоже на уничтожение, и, поскольку я сделал себя богом, я вижу себя лишь как тень. Возможно, что я всегда есть Я, но мне крайне трудно думать о себе как о неограниченном; а если это не так, то я лишь половина идеи.
Некоторая философия, говорит какой-то ироничный мыслитель, далека от религии; но большая часть философии ведет обратно к ней. – В этом замечании есть своя унизительная правда.
Каждая наука развивается в три последовательные эпохи, которые, если сравнить их с великими эпохами цивилизации, можно назвать религиозной, софистической и подлинно научной. Таким образом, алхимия обозначает религиозную эпоху науки, которая позже была названа химией и чье окончательное доктринальное здание еще не найдено, так же как астрология является религиозным периодом другой науки, астрономии. 76
После шестидесяти лет насмешек над философским камнем химики, руководствуясь опытом, уже не смеют отрицать, что тела могут превращаться друг в друга, а астрономов механика строения мира заставила предположить, что мир тоже органичен, то есть нечто вроде астрологии. Не будет ли правильным сказать, подобно только что упомянутому философу, что немного химии уводит от философского камня, но много химии приводит к нему, и точно так же немного астрономии заставляет нас смеяться над астрологами, но много астрономии заставляет нас верить в них? 77
Я, конечно, менее склонен к чудесному, чем некоторые атеисты, но не могу отделаться от мысли, что рассказы о чудесах, пророчествах, магических подвигах и т. д. – не более чем искаженные сообщения о необычайных эффектах скрытых сил, или, как раньше говорили, темных сил. Наша наука все еще настолько груба и нечестна, наши ученые ведут себя так надуто, имея так мало знаний, они так беззастенчиво отрицают неудобные для них факты, чтобы защитить только те взгляды, которые они эксплуатируют, что я отношусь к этим вольнодумцам с таким же подозрением, как и к суеверным людям. Да, я убежден, что наш грубый рационализм – это лишь переход к периоду, который, благодаря науке, будет поистине чудесным. В моих глазах мир – это лишь лаборатория магии, в которой нужно быть готовым ко всему… Но теперь вернемся к сути.
Ошибусь, если после беглого обзора этапов развития религии, который я привел, буду считать, что метафизика уже сказала свое последнее слово в отношении двойной загадки, заключенной в четырех словах: Существование Бога, бессмертие души. Здесь, как и везде, самые обоснованные и самые глубокомысленные выводы разума, выводы, которые, казалось бы, навсегда решили и устранили теологический вопрос, возвращают нас к первоначальному мистицизму и содержат новые проблемы неизбежной философии. Критика религиозных мнений сегодня заставляет нас улыбаться и над собой, и над религиями; и все же воплощение этой критики есть не что иное, как возобновление проблемы. Сейчас, когда я пишу, человечество находится накануне того дня, когда оно признает и утвердит нечто, что станет эквивалентом древнего понятия Божества; и на этот раз оно сделает это не безвольным движением, как в прошлом, а с обдуманностью и силой непреодолимой диалектики.
Я постараюсь в нескольких словах объяснить, что я имею в виду.
Если философы и пришли к единому мнению, то это, во всяком случае, различие между разумом и необходимостью, между субъектом мысли и ее объектом, между эго и не-эго; проще говоря, между духом и материей. Я прекрасно понимаю, что все эти слова не выражают ничего реального и истинного, что каждое из них обозначает лишь разделение Абсолюта, который один только и является истинным и реальным, и что, взятые по отдельности, все они в равной степени чреваты противоречием. Но столь же несомненно, что Абсолют совершенно недоступен нам, что мы знаем его только в его противоречивых представлениях, которые одни только и поддаются нашему опыту, и что, если единство только и может завоевать нашу веру, дуализм является первым условием науки.
Так кто же мыслит и кто есть мысль? Что такое душа, что такое тело? Я заявляю, что избежать этого дуализма невозможно. С сущностями дело обстоит так же, как с идеями: первые появляются отдельно в природе, вторые – в разуме (entendement); и как идеи Бога и бессмертия души, несмотря на их тождество, последовательно представлялись нам как противоречия в философии, так и, несмотря на их слияние (нераздельное единство) в Абсолюте, Я и не-Я представляют себя отдельно и как противоречия в природе, и мы имеем существа, которые мыслят, и в то же время другие, которые не мыслят.
Но теперь каждый, кто потрудился задуматься над этим, знает, что такое различие, каким бы осознанным оно ни было, является самым непонятным, противоречивым и абсурдным, что только может прийти в голову разуму. Бытие не может быть постигнуто без свойств духа так же, как и без свойств материи, так что если вы отрицаете дух, потому что он не подчиняется ни одной из категорий времени, пространства, подвижности, непроницаемости и т. д., то он лишен всех свойств материи. Если вы отрицаете дух, потому что он не подпадает ни под одну из категорий времени, пространства, движения, непроницаемости и т. д. и кажется лишенным всех свойств, составляющих реальное, то я, со своей стороны, могу отрицать материю, которая, поскольку она не предлагает мне ничего определимого, кроме своей пассивности, ничего узнаваемого, кроме своих форм, нигде не проявляет себя как причина (волевая и свободная) и полностью ускользает от меня как субстанция: и так мы приходим к чистому идеализму, т. е. к небытию. Но небытие противостоит неким я-знаю-небытиям, которые являются живыми и в состоянии, которое я не могу назвать, объединяют в себе все противоречивые свойства бытия в состоянии зарождающегося состава или неизбежного разложения. Таким образом, мы должны начать с дуализма, о котором мы хорошо знаем, что его (индивидуальные) выражения ложны, но который непреодолимо принуждает нас к нему, поскольку он является для нас условием истины; короче говоря, мы вынуждены начать с Декарта и человечества с эго, то есть с духа.
Но поскольку религии и философии, растворенные исследованиями, слились в теории Абсолюта, мы не знаем лучше, что такое дух, и в этом мы отличаемся от древних только богатством языка, которым мы приукрашиваем окружающую нас тьму. Разница лишь в том, что раньше порядок, казалось, указывал человеку на внемировое прозрение, а теперь он, похоже, указывает на прозрение, присущее самому миру.
Если теперь отвести ему место внутри или вне мира, то, утверждая его существование на основе порядка, нужно либо признать его везде, где порядок утверждает себя, либо признать его везде, где появляется порядок, либо не признать его нигде. Приписывать проницательность голове, создавшей «Илиаду», не более правомерно, чем материалу, кристаллизующемуся в октаэдры; и наоборот, приписывать устройство мира простым естественным законам, не думая об упорядочивающем «я», так же абсурдно, как приписывать победу при Маренго стратегическим комбинациям, не принимая во внимание первого консула. Вся разница заключается в том, что в последнем случае мыслящее «я» находится отдельно в мозгу Бонапарта, тогда как по отношению к миру «я» не занимает отдельного места, а распространяется во всем.
Материалисты считали, что они легко справятся с противоположной их точкой зрения. Они говорили, что человек сделал концепцию мира подобной своему телу и завершил свое сравнение, одарив этот мир душой, подобной той, в которой он предполагал происхождение своей жизни и мысли. Таким образом, все основания для доказательства существования Бога сводятся к аналогии, которая тем более ложна, что главный пункт сравнения сам по себе гипотетичен.
Мне совершенно не хочется защищать старый силлогизм, который звучит так: всякое устройство предполагает упорядочивающее озарение; но сейчас в мире царит восхитительный порядок, следовательно, мир – дело рук озаренного существа. Этот вывод, столь бесконечно повторяемый со времен Мозеса и Хиоба, ни в коем случае не является решением, а скорее лишь формулой загадки, с решением которой мы имеем дело.
Мы совершенно четко знаем, что такое порядок, но совсем не знаем, что подразумевается под словами: душа, дух или разум; так как же мы можем логически вывести существование одного из них из существования другого? Поэтому я должен отвергнуть предполагаемое доказательство существования Бога из порядка мира до более полного исследования и могу, самое большее, видеть в нем уравнение, отданное на откуп философии. Между идеей порядка и утверждением духа лежит еще настоящая бездна метафизики, которую необходимо заполнить, и мне, повторяю, не приходит в голову принимать эту проблему за доказательство.
Но в данный момент речь идет не об этом. Я хотел показать, что человеческий разум неизбежно и неодолимо ведет к различению бытия на эго и не-эго, дух и материю, душу и тело. Кто не понимает, что возражение материалистов доказывает именно то, что оно призвано опровергнуть? Человек различает в себе духовный и материальный принципы: что это, как не сама природа, которая попеременно демонстрирует свою двойственную природу и свидетельствует о своих собственных законах? В то же время я обращаю внимание на непоследовательность материализма: он отрицает и вынужден отрицать, что человек свободен; чем меньше у человека свободы, тем весомее становятся его высказывания, тем больше они должны рассматриваться как выражение истины. Когда я слышу, как эта машина говорит: Я – душа и тело; такое откровение удивляет и смущает меня, но в моих глазах оно имеет несравненно больший вес, чем заявление материалиста, который изменяет сознание природы и позволяет ей сказать: Я – материя, ничто иное, как материя, а разум есть не что иное, как способность этой материи к познанию.
Что было бы, если бы я перешел в наступление и доказал, что существование тела, другими словами, реальность чисто телесной природы, является несостоятельной точкой зрения? —
Материя, говорят они, непроницаема.
– Непроницаема? Для кого или чего? Я хочу спросить.
Ну, очевидно, для себя самой, ибо нельзя осмелиться сказать: для духа, ибо это означало бы признать то, что хочется устранить. Я задаю двойной вопрос по этому поводу: что вы знаете об этом и что это значит?
1. Непроницаемость, свойство, по которому пытаются определить материю, есть не что иное, как гипотеза невнимательных натуралистов, грубое заключение, выведенное из поверхностного суждения. Опыт показывает нам в материи делимость до бесконечности, растяжимость до бесконечности, пористость, пределы которой мы не можем указать, проницаемость для тепла, электричества и магнетизма и в то же время способность удерживать их, и все это в неограниченной степени, сродства, взаимодействующие отношения и превращения без числа: все то, что едва ли совместимо с предположением о непроницаемости aliquid [чего-то – wp]. Упругость, которая легче, чем любое другое свойство материи, могла бы привести к этой непроницаемости через идею пружинистости или сопротивления, изменяется в тысячу раз в зависимости от обстоятельств и полностью зависит от молекулярного притяжения: но что может быть более непримиримым с непроницаемостью, чем это самое притяжение? Наконец, есть наука, которую можно со всей строгостью определить как науку о проницаемости материи: химия. Ибо чем то, что называется химическим соединением, отличается от проникновения? Короче говоря, о материи не известно ничего, кроме ее форм; что касается субстанции, то вообще ничего. 78
Как же можно утверждать реальность существа, которое невидимо, неосязаемо, несотворимо, всегда становится другим, всегда ускользает и непроницаемо только для мысли, из которой оно не позволяет увидеть ничего, кроме своей маскировки? Материалист, позволь мне уверить тебя в реальности твоих чувственных впечатлений: относительно того, что их вызывает, ты не можешь сказать ничего, что е содержало бы следующего двойного отношения: нечто (которое ты называешь материей) является причиной впечатлений, которые приходят к другому нечто (которое я называю духом).
2. Но откуда взялось это предположение о непроницаемости материи, которое не оправдывается ничем во внешнем восприятии, которое не является истинным, и какой смысл оно имеет?
Здесь мы видим триумф дуализма. Не свидетельство органов чувств, как воображают материалисты и великое множество людей, а сознание объявило материю непроницаемой. Эго, непостижимая природа, которая ощущает себя свободной, отчетливой и постоянной и которая сталкивается вне себя с другой природой, тоже непостижимой, но тоже отчетливой и постоянной, несмотря на свои трансформации, провозглашает, что не-эго протяженно и непроницаемо в силу впечатлений и идей, которые оно получает от этой сущности. Непроницаемость – это образное слово, образ, под которым мысль, как отщепление от Абсолюта, представляет материальную реальность, другое отщепление от Абсолюта; но эта непроницаемость, без которой материя испаряется, в конечном счете является не более чем автономным суждением внутреннего чувства, метафизическим априори, необоснованной гипотезой – духа.
Таким образом, философия, свергнув теологический догматизм, может одухотворить материю или материализовать мысль, возвысить бытие до идеи или поместить идею в реальность; или она может также отождествить субстанцию и причину и вменить повсюду силу – все эти фразы ничего не объясняют и ничего не значат: она всегда возвращает нас к вечному дуализму и, заставляя верить в себя, вынуждает нас верить в Бога, если не в духов. Однако, поместив дух обратно в природу, философия, в отличие от древних, отделивших его от природы, пришла к тому знаменитому выводу, который подытоживает практически весь плод ее исследований: «В человеке дух знает себя, а во всем остальном, как нам кажется, он себя не знает». – «То, что бодрствует в человеке, снится животному и спит в камне…», – сказал один философ.
Таким образом, в свой последний час философия знает не больше, чем в час своего рождения: как если бы она пришла в мир только для того, чтобы подтвердить слова Сократа, она говорит, торжественно кутаясь в свою предсмертную мантию: я знаю, что я ничего не знаю. Да, более того, философия теперь знает, что все ее суждения основаны на двух одинаково ложных, одинаково невозможных и все же одинаково необходимых и требуемых гипотезах – гипотезах духа и материи. Таким образом, если раньше религиозная нетерпимость и философские препирательства, распространяя повсюду тьму, запрещали сомнения и приглашали к развратному и удобному бездумью, то теперь торжество отрицания по всем пунктам делает это сомнение даже невозможным; мысль, освобожденная от всех оков, но побежденная своим собственным достижением, вынуждена признать то, что кажется ей явным противоречием и абсурдом. Дикари считают мир великим фетишем, находящимся под опекой великого Маниту. За три тысячелетия поэты, законодатели и носители цивилизации, передавая светильник философии из поколения в поколение, не написали ничего более возвышенного, чем это кредо. И вот, в тот момент, когда долгий заговор против Бога, называвший себя философией, подходит к концу, освобожденный разум полностью закрывается, как разум дикарей: Мир – это не-Я, превращенное в объект Я.
Таким образом, человечество неизбежно вынуждено признать существование Бога. Если, однако, в течение долгого периода, завершающегося нашим временем, оно верило в реальность своей гипотезы; если оно поклонялось непостижимому объекту ее; если теперь, когда оно постигло себя в этом акте веры, оно сознательно, но не более свободно настаивает на этом предположении о высшем существе, о котором оно знает, что оно не более чем персонификация его собственной мысли; более того, если оно собирается начать свои магические призывы заново: то поневоле веришь, что этот удивительный ослепительный образ таит в себе какую-то тайну, заслуживающую постижения.
Я говорю «ослепительный образ» и «тайна», но я не хочу отрицать сверхчеловеческое содержание идеи Бога или утверждать необходимость нового символизма, я имею в виду новую религию. Ибо хотя нельзя сомневаться в том, что человечество, утверждая Бога или что-либо еще под именем эго или духа, утверждает только себя, нельзя отрицать, что тем самым оно утверждает себя как нечто иное, чем то, чем оно себя считает. Это вытекает из всех мифологий, как и из всех теодицеи. Более того, поскольку это утверждение непреодолимо, оно, несомненно, основано на тайных связях, которые, возможно, будет крайне важно установить научным путем.
Иными словами, атеизм, называемый также гуманизмом, если бы он остался на стороне человека, каким он является по своей природе, если бы он опроверг как заблуждение первое утверждение человечества: быть сыном, эманацией, образом, отражением или словом Бога, – гуманизм, говорю я, если бы он таким образом отрицал свое собственное прошлое, был бы лишь еще одним противоречием.
Поэтому мы вынуждены заняться критикой гуманизма, то есть исследовать, в достаточной ли степени человечество, рассматриваемое во всей своей полноте и во все периоды своего развития, соответствует божественной идее, даже если мы не будем принимать во внимание гиперболические [преувеличенные – wp] и фантастические атрибуты Бога. Короче говоря, мы должны проанализировать, стремится ли человечество к Богу, как гласит старая догма, или же оно само становится Богом, как выражаются современники. Возможно, в конце концов мы обнаружим, что обе системы, несмотря на их кажущееся противоречие, истинны и в основе своей идентичны: тогда непогрешимость человеческого разума будет громко подтверждена как в его общих изложениях, так и в его обоснованных догадках. – Короче говоря, пока мы не проверили гипотезу о Боге, применив ее к человеку, атеистическое отрицание не имеет под собой ничего решающего.
Поэтому нам остается научно, то есть эмпирически, доказать идею Бога, что еще не было сделано, ибо теология потеряла себя в догматическом споре о весомости своих мифов, философия – в спекуляциях с помощью своих категорий, и поэтому Бог остался трансцендентным понятием, то есть недоступным для разума, и гипотеза всегда сохраняется.
Эта гипотеза сохраняется, говорю я, и сохраняется ярче и неумолимее, чем когда-либо прежде.
Мы вступили в одну из тех пророческих эпох, когда общество, порицая прошлое и мучительно тревожась о будущем, вскоре сжимает в безумном исступлении настоящее и оставляет нескольким одиноким мыслителям заботу о подготовке новой веры, вскоре вновь взывает к Богу из бездны своих наслаждений и желает знака спасения или стремится разгадать тайну своей судьбы в зрелище собственных революций, как в внутренностях жертвенного животного.
Что еще нужно для проникновения? Гипотеза о Боге оправдана, ибо она невольно навязывается каждому человеку; поэтому никто не может быть против меня. Верующий не может сделать ничего иного, как допустить, что Бог существует; отрицающий должен допустить это, потому что он сам до меня допускал то же самое, при условии, что всякое отрицание предполагает предшествующее утверждение; наконец, сомневающемуся достаточно задуматься, чтобы понять, что его сомнение обязательно предполагает «я-знаю-ничего», которое рано или поздно он назовет Богом.
Но если я обладаю правом предполагать Бога в силу факта своего мышления, я должен сначала завоевать право утверждать его определенно. Другими словами: если моя гипотеза навязывает себя неотразимо, то это пока все, на что я могу претендовать. Ибо утверждать определенно – значит определять, а всякое определение, если оно должно быть истинным, должно быть дано эмпирически. Ибо тот, кто говорит об определении, должен иметь в виду отношения, обусловленность свойствами, опыт. Итак, поскольку определение понятия Бога должно быть выведено для нас из эмпирического изложения, мы должны воздерживаться от всего, что выходит за пределы опыта, в исследовании этой высокой неизвестной величины как не данной опытом, чтобы не стать жертвой противоречий богословов и не бросить тем самым новый вызов протесту атеизма.
LITERATUR Pierre-Joseph Proudhon, Die Widersprüche der Nationalökonomie oder die Philosophie der Not, Leipzig 1847.
Пьер-Жозеф Прудон (1809 – 1865)
Право на полный трудовой доход
Предисловие к первому изданию
Цель данной работы – проанализировать основные идеи социализма с юридической точки зрения. Это фрагмент из более крупной работы, в которой я пытаюсь представить социализм как правовую систему. Только когда социалистические идеи будут очищены от бесконечных экономических и филантропических рассуждений, составляющих основное содержание социалистической литературы, и преобразованы в трезвые юридические концепции, практические государственные деятели смогут осознать, насколько существующая правовая система плохо сформирована в интересах страдающих классов народа. В этой юридической трактовке социализма я вижу важнейшую задачу философии права нашего времени; правильное ее решение будет в значительной мере способствовать осуществлению необходимых изменений в нашей правовой системе путем мирной реформы.
Мне было очень трудно проследить постепенное развитие права на полный трудовой заработок в социалистической литературе со времен Французской революции до наших дней. Не будет преувеличением сказать, что историческая трактовка социализма находится в состоянии, которое является не чем иным, как честью для немецкой науки. Старые исторические работы Штейна и МАРЛО все еще основаны на, по общему признанию, поверхностном и неполном изучении источников. Более поздние историки социализма, напротив, довольствуются выдержками из Рейбо, Штейна и Марло или просто выписывают их, не обращаясь к истокам английского и французского социализма, хотя отправную точку для социального движения современности следует искать именно в них. Естественно, что такой порядок, противоречащий всем правилам историографии, привел к тому, что наши исторические очерки о социализме тащат за собой постоянно растущий балласт ошибок и недоразумений, а некоторые из них, хотя и носят имена очень выдающихся ученых, производят впечатление пародии на обсуждаемый предмет. – Эта история развития одной из самых фундаментальных социалистических идей взята непосредственно из источников везде, где прямо не указано обратное. Почти абсолютное незнание английского и французского социализма, особенно более раннего периода, в немалой степени способствовало тому чрезмерному почитанию, в котором в настоящее время находятся труды Маркса и Родбертуса в Германии. Если бы через тридцать лет после публикации работы Гельмгольца о национальном богатстве кто-то «заново открыл» доктрину разделения труда или если бы сегодня какой-нибудь писатель захотел представить теорию развития Дарвина как свою интеллектуальную собственность, его сочли бы невеждой или шарлатаном. Только в области социальной науки, которая до сих пор почти полностью лишена исторической традиции, возможны успешные попытки такого рода. В этой статье я докажу, что Маркс и Родбертус заимствовали свои важнейшие социалистические теории у более старых английских и французских теоретиков, не называя источников их взглядов. Действительно, я без колебаний заявляю, что Маркс и Родбертус, которых так хотелось бы представить создателями научного социализма, намного превосходят свои образцы по глубине и основательности.



