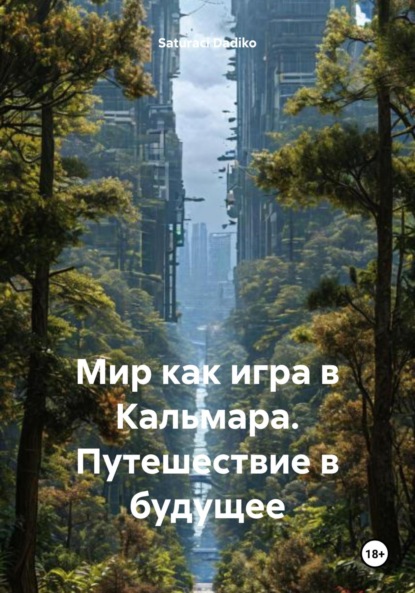
Полная версия:
Мир как игра в Кальмара. Путешествие в будущее
Глава 2. Догма универсальных истин: ESG, политкорректность и подавление инакомыслия
Усиление экологических, социальных критериев и критериев управления (ESG) в качестве важного фактора при принятии инвестиционных решений и корпоративной стратегии знаменует собой глубокий сдвиг в ландшафте глобального капитализма. В то время как сторонники приветствуют ESG как важнейший шаг к более устойчивому и справедливому будущему, интегрирующий экологические соображения, социальную ответственность и надлежащее управление в деловую практику, критики выражают обеспокоенность по поводу его потенциала подрывать свободные рынки и сдерживать экономический рост. Понимание этого сложного взаимодействия требует детального изучения как предполагаемых преимуществ, так и потенциальных недостатков широкого внедрения ESG.
Одним из главных аргументов в пользу ESG является ее потенциал для стимулирования бизнеса к внедрению более устойчивых практик. Принимая во внимание воздействие на окружающую среду при принятии инвестиционных решений, ESG стремится увести капитал от компаний с высоким уровнем выбросов углекислого газа или плохими экологическими показателями, тем самым поощряя переход к более чистым источникам энергии и более ответственному управлению ресурсами. Аналогичным образом, социальный аспект ESG побуждает компании учитывать влияние своей деятельности на рабочую силу, цепочки поставок и общество в целом. Это может привести к улучшению условий труда, более справедливой трудовой практике и большей корпоративной прозрачности. Аспект управления фокусируется на продвижении этичного лидерства, надежного внутреннего контроля и ответственного корпоративного поведения, направленного на снижение уровня коррупции и повышение подотчетности.
Однако сами механизмы, разработанные для продвижения этих положительных результатов, также являются источником серьезной критики. Основная проблема связана с присущей ESG субъективностью и отсутствием стандартизированных показателей в оценках ESG. Разные рейтинговые агентства используют разные методологии, что приводит к несоответствиям и потенциально предвзятым оценкам. Такое отсутствие ясности и прозрачности допускает манипуляции, когда компании потенциально занимаются "зеленой промывкой" – поверхностным внедрением устойчивых практик для улучшения своих показателей ESG без существенного изменения своей деятельности. Возникающая в результате непоследовательность затрудняет инвесторам принятие обоснованных решений на основе критериев ESG, подрывая саму цель инициативы.
Более того, применение стандартов ESG часто связано со сложным взаимодействием политических и идеологических соображений. Конкретные вопросы, которые считаются социально ответственными, могут существенно различаться в разных культурах и политических системах, что вызывает обеспокоенность по поводу навязывания бизнесу определенных ценностей и потенциального влияния идеологических предубеждений на инвестиционные решения. Это может привести к ситуациям, когда компании будут наказаны за действия, которые совершенно законны и коммерчески оправданы, но противоречат преобладающей ортодоксальности ESG. Такие ситуации эффективно создают параллельную систему регулирования, действующую вне традиционных рамок закона и рыночных сил, потенциально создавая перекосы в распределении ресурсов и препятствуя экономической эффективности.
Влияние на свободные рынки является критической областью разногласий. Критики утверждают, что включение соображений ESG в инвестиционные решения может привести к определенной форме рыночного вмешательства, искажающему ценовые сигналы и потенциально нерациональному распределению капитала. Если инвесторы ставят факторы ESG выше финансовой доходности, они могут отказаться от инвестиций в компании, которые являются финансово устойчивыми, но имеют низкие рейтинги ESG, даже если эти компании имеют решающее значение для экономического роста или предоставления товаров и услуг первой необходимости. Это может привести к сокращению инвестиций в определенные сектора, замедлению инноваций и потенциально сдерживанию экономического развития. Кроме того, введение стандартов ESG может создать неопределенность в отношении регулирования и затраты на соблюдение требований для бизнеса, увеличивая бремя работы в сложной нормативно-правовой среде.
Еще одним важным фактором является потенциальная возможность подавления инакомыслия. Компании, сталкивающиеся с необходимостью соответствовать все более строгим стандартам ESG, могут неохотно оспаривать преобладающий нарратив или выражать взгляды, противоречащие доминирующей идеологии ESG. Такая самоцензура может заглушить дебаты и ограничить разнообразие точек зрения, препятствуя критической оценке воздействия ESG и потенциально приводя к принятию недоказанной или даже вредной политики. Это создает среду, в которой голоса несогласных маргинализируются, а альтернативные подходы к устойчивому развитию и социальной ответственности не рассматриваются.
Крайне важно признать существование законных контраргументов к этой критике. Сторонники ESG часто подчеркивают долгосрочные преимущества устойчивых практик и ответственного ведения бизнеса, подчеркивая потенциал повышения прибыльности, укрепления репутации бренда и улучшения взаимоотношений с заинтересованными сторонами. Они утверждают, что рынок в конечном итоге приспособится к новым реалиям ESG-инвестирования, что приведет к более эффективному распределению капитала и более устойчивой экономике. Более того, сторонники предполагают, что проблемы стандартизации показателей ESG преодолимы, поскольку достижения в области анализа данных и разработка более надежных систем отчетности потенциально решают проблему непоследовательной оценки.
Дебаты вокруг ESG далеки от завершения. Это включает в себя сложное взаимодействие экономических, политических и социальных факторов, имеющее значительные последствия как для бизнеса, так и для экономики в целом. Сбалансированная оценка требует признания как потенциальных преимуществ включения соображений ESG в инвестиционные решения, так и рисков, связанных с потенциальными рыночными искажениями, идеологической предвзятостью и подавлением несогласных точек зрения. Важнейшая задача заключается в поиске способа сбалансировать стремление к устойчивым и справедливым результатам с необходимостью поддержания динамичной и эффективной экономики свободного рынка. Отсутствие общепринятых стандартов и продолжающиеся дебаты относительно надлежащего соотношения финансовой отдачи и соображений ESG требуют постоянного изучения и критического анализа. Только посредством прозрачного и открытого обсуждения мы можем надеяться разобраться в сложностях этого меняющегося ландшафта и гарантировать, что стремление к устойчивому будущему не будет осуществляться в ущерб свободе личности и экономическому процветанию. Продолжающаяся эволюция стандартов ESG, наряду с более глубоким пониманием ее влияния на рыночные механизмы и отдельные агентства, остается важной областью исследований как для социологов, экономистов, так и для политиков.
Политкорректность как форма социального контроля
Параллели между растущим влиянием принципов ESG и повсеместным явлением политкорректности поразительны. И то, и другое представляет собой попытки навязать определенный набор ценностей и моделей поведения более широким слоям населения, хотя и с помощью различных механизмов. В то время как ESG действует в основном за счет экономических стимулов и инвестиционных решений, политкорректность оказывает свое влияние через социальное давление, позор и страх общественного осуждения. По своей сути оба механизма действуют как формы социального контроля, формируя индивидуальное поведение и ограничивая выражение иных точек зрения.
Общеизвестно, что понятие политкорректности, часто сокращаемое как ПК, трудно поддается точному определению. Его туманный характер способствует его силе, позволяя ему адаптироваться и меняться, что затрудняет прямой вызов. В самом мягком виде политкорректность направлена на содействие инклюзивности и уважению к различным группам в обществе. Это включает в себя сознательные усилия избегать высказываний или поведения, которые могут быть сочтены оскорбительными или дискриминационными по отношению к людям на основе их расы, пола, сексуальной ориентации или других характеристик. Однако эта благонамеренная цель часто переплетается с более проблематичными аспектами.
Грань стирается, когда стремление к инклюзивности превращается в жесткий набор правил и ожиданий, препятствующих открытому диалогу и критическому мышлению. Акцент смещается с искренней заботы о других на навязчивое внимание к языковой политике, где малейшее отклонение от утвержденной терминологии может привести к быстрым и серьезным социальным последствиям. Людей поощряют и часто заставляют подчиняться узкому кругу приемлемых мнений и выражений, что приводит к самоцензуре и сдерживающему воздействию на интеллектуальный дискурс. Страх прослыть “оскорбительным”, “фанатичным" или “бесчувственным" может быть гораздо эффективнее любой официальной цензуры, создавая среду, в которой люди не решаются выражать взгляды, которые могут отклоняться от доминирующего нарратива, даже если эти взгляды подкреплены доказательствами и доводами разума.
Исторические примеры раскрывают коварную природу этой формы социального контроля. Эпоха сталинизма является яркой иллюстрацией того, как идеологический конформизм, насаждаемый посредством страха и репрессий, заставлял замолчать инакомыслие и подавлял интеллектуальные исследования. Хотя методы существенно отличались от тонкого давления современной компьютерной культуры, основополагающий принцип остается тем же: подавление любой точки зрения, бросающей вызов устоявшейся ортодоксии. Точно так же эпоха Маккартизма в Соединенных Штатах ознаменовалась демонизацией любого, подозреваемого в симпатиях к коммунистам, что привело к внесению в черные списки, потере работы и социальному остракизму. Хотя цели различались, механизм социального контроля – запугивание и подавление инакомыслия – был поразительно похож.
Современные примеры многочисленны. Быстрая эволюция приемлемого языка, обусловленная эволюцией социальных норм и активизмом в Интернете, часто создает среду неопределенности. Фраза или выражение, которые сегодня считаются приемлемыми, завтра могут быть сочтены оскорбительными, что затрудняет людям ориентирование в постоянно меняющемся ландшафте приемлемого дискурса. Это создает атмосферу страха и тревоги, препятствующую открытому и честному общению. Растущая зависимость от платформ социальных сетей еще больше усугубляет эту проблему, создавая благодатную почву для общественного позора и быстрого распространения обвинений в нетерпимости. Единичный предполагаемый проступок может привести к потоку онлайн-оскорблений, употреблению наркотиков и даже к последствиям, заканчивающим карьеру.
Последствия этой формы социального контроля имеют далеко идущие последствия. Подавление несогласных точек зрения препятствует прогрессу, препятствуя открытому и тщательному изучению идей, необходимых для интеллектуального роста и общественного прогресса. Когда люди боятся выражать свои взгляды, независимо от того, насколько хорошо они аргументированы или основаны на фактических данных, потенциал для инноваций и критического анализа серьезно снижается. Это особенно пагубно сказывается в академической среде, где свободный обмен идеями имеет фундаментальное значение для распространения знаний. Сдерживающий эффект компьютерной культуры может привести к самоцензуре среди ученых, что приводит к подавлению исследований и избеганию спорных тем.
Более того, политкорректность часто приводит к искаженному и нереалистичному пониманию социальных проблем. Ставя во главу угла предотвращение оскорблений, а не все остальное, можно заглушить содержательные дискуссии о сложных проблемах. Подлинные усилия по борьбе с неравенством и дискриминацией подрываются чрезмерным упором на полицейские формулировки, отвлекающие внимание от существенных изменений в политике и системной несправедливости. Сосредоточение внимания на поверхностных аспектах коммуникации затушевывает более глубокие, системные проблемы, тем самым препятствуя прогрессу в направлении подлинной социальной справедливости.
Различие между продвижением подлинной инклюзивности и обеспечением жесткого языкового соответствия имеет решающее значение. Подлинная инклюзивность способствует созданию благоприятной среды, в которой люди из разных слоев общества чувствуют уважение и ценность. Это поощряет сопереживание и понимание, способствует диалогу и сотрудничеству. Напротив, жесткое соблюдение правил ПК часто приводит к атмосфере подозрительности, нетерпимости и самоцензуры. Языковая чистота ставится во главу угла по сравнению с подлинным участием в обсуждении различных точек зрения. Это создает общество, в котором подлинная забота заменяется перформативным единством, где внешние проявления добродетели заменяют значимые действия. Фокус смещается с устранения лежащего в основе неравенства на регулирование языка и обеспечение соответствия.
Пределы консенсуса, бросающие вызов доминирующим нарративам
Коварная природа консенсуса, особенно когда он превращается в непререкаемую догму, является повторяющейся темой на протяжении всей истории. Стремление к универсальным истинам, хотя и кажется благородным в своем стремлении к общему пониманию и сплоченности общества, часто маскирует более мрачное подводное течение: подавление голосов несогласных и подавление интеллектуальных исследований. Это подавление не всегда является явным; оно часто проявляется незаметно, посредством социального давления, экономических стимулов и манипулирования информационными потоками. Стремление к единственному, общепринятому повествованию, независимо от его достоверности или полноты, в конечном счете ограничивает потенциал прогресса и понимания.
Рассмотрим сам научный метод, краеугольный камень современного производства знаний. В его основе лежит принцип фальсификации – готовность бросить вызов устоявшимся теориям и парадигмам путем тщательной проверки и принятия противоречивых доказательств. Наука прогрессирует не за счет непоколебимого следования консенсусу, а за счет постоянного подвергания сомнению и уточнения существующих знаний. Однако даже в кажущейся объективной сфере науки можно наблюдать влияние доминирующих нарративов. Предвзятое отношение к финансированию, давление с целью публикации положительных результатов и присущие самим исследователям предвзятости – все это может привести к маргинализации несогласных точек зрения и увековечиванию ошибочных теорий.
История науки изобилует примерами революционных идей, которые поначалу встречали сопротивление и насмешки, но позже были приняты как фундаментальные истины. Гелиоцентрическая модель солнечной системы, первоначально предложенная Коперником, столкнулась со значительным противодействием со стороны устоявшихся геоцентрических взглядов, которые глубоко укоренились в религиозной и философской мысли. Точно так же теория эволюции Дарвина столкнулась со значительным сопротивлением религиозных и научных сообществ, бросив вызов глубоко укоренившимся представлениям о происхождении жизни и месте человечества в естественном порядке вещей. Эти примеры демонстрируют ограничения, присущие опоре исключительно на консенсус как показатель истины. Научный прогресс часто требует оспаривания установленного порядка, принятия неопределенности и принятия возможности того, что существующие убеждения могут быть ошибочными или неполными.
Влияние доминирующих нарративов выходит за рамки научной сферы, глубоко формируя наше понимание социальных и политических проблем. Принятие критериев ESG (экологических, социальных и управленческих) при принятии инвестиционных решений, хотя они якобы направлены на продвижение экологически ответственных и социально сознательных методов ведения бизнеса, вызывает опасения по поводу потенциальной идеологической предвзятости и подавления иных точек зрения. Сами критерии часто определены расплывчато, что оставляет место для субъективной интерпретации и потенциально создает среду, в которой компании вынуждены соответствовать определенному набору ценностей, независимо от их фактического воздействия или потенциальных последствий для их долгосрочной жизнеспособности. Компании, отступающие от этих норм, рискуют столкнуться с финансовыми штрафами и репутационным ущербом, что создает сильный стимул для соблюдения требований и препятствует инновационным или альтернативным подходам.
Влияние политкорректности, как обсуждалось ранее, является еще одним примером опасности безоговорочного принятия доминирующих нарративов. Хотя стремление способствовать инклюзивности и уважению к различным группам заслуживает похвалы, жесткое соблюдение языковых и поведенческих норм может препятствовать открытому диалогу и критическому мышлению. Страх прослыть "оскорбительным" или "бесчувственным" может привести к самоцензуре, препятствующей изучению сложных и потенциально спорных вопросов. Эта самоцензура выходит за рамки индивидуального поведения, влияя на академические исследования, репортажи в СМИ и политический дискурс.
Подавление несогласных точек зрения характерно не только для современного общества; это было повторяющейся чертой на протяжении всей истории. Тоталитарные режимы 20 века являются наглядными примерами того, как навязывание особой идеологии может привести к повсеместным репрессиям и систематическому устранению альтернативных точек зрения. Подавление нацистским режимом голосов несогласных, в том числе художников, интеллектуалов и религиозных деятелей, является леденящим душу напоминанием об опасностях, связанных с неоспоримой властью и подавлением оппозиции. Точно так же подавление инакомыслия в Советском Союзе с помощью цензуры, пропаганды и политических преследований подчеркивает разрушительные последствия устранения альтернативных точек зрения. Эти исторические примеры служат предостережением, подчеркивая важность защиты свободы слова и права выражать особые взгляды, даже – и, возможно, особенно, – когда эти взгляды непопулярны или бросают вызов устоявшимся структурам власти.
Ограничения консенсуса еще больше подчеркиваются феноменом группового мышления, психологическим феноменом, при котором стремление к групповой сплоченности преобладает над критическим мышлением и независимыми суждениями. В группах, характеризующихся сильной групповой сплоченностью и стремлением к конформизму, члены могут не решаться выражать особое мнение, опасаясь неприятия или остракизма. Это может привести к неправильному принятию решений, поскольку альтернативные перспективы и потенциальные риски должным образом не учитываются. Вторжение в залив Свиней, например, часто приводится в качестве примера группового мышления, когда сплоченная группа советников не смогла должным образом оспорить решение президента Кеннеди, что привело к катастрофической военной операции. Это иллюстрирует важность создания условий, в которых голоса несогласных не только терпимы, но и активно поощряются и ценятся.
Задача заключается в нахождении баланса между стремлением к общим ценностям и сохранением интеллектуальной свободы. По-настоящему динамичное и прогрессивное общество должно быть способно учитывать широкий спектр мнений и точек зрения, даже тех, которые являются противоречивыми или бросают вызов устоявшимся нормам. Это требует приверженности критическому мышлению, открытому диалогу и готовности участвовать в идеях, которые могут вызывать дискомфорт или бросать вызов нашим собственным убеждениям. Подавление инакомыслия, какими бы благими намерениями оно ни было, в конечном итоге подрывает сами основы свободного и демократического общества.
Поиск универсальных истин не должен осуществляться за счет интеллектуальной свободы. Общество, которое заглушает голоса несогласных, – это общество, находящееся в состоянии стагнации, неспособное адаптироваться к меняющимся обстоятельствам или эффективно реагировать на новые вызовы. Постоянное подвергание сомнению допущения, тщательная проверка идей и готовность принять неопределенность имеют решающее значение для прогресса, будь то в научной сфере, социальном дискурсе или процессе принятия политических решений. Путь к истине редко бывает прямой; часто это извилистая дорога, полная обходных путей, тупиков и неожиданных открытий. Принятие ограничений консенсуса и признание ценности различных точек зрения необходимы не только для интеллектуального роста, но и для создания действительно справедливого общества. Постоянный диалог, столкновение идей, изучение альтернативных точек зрения – это источник жизненной силы процветающего общества, и их подавление представляет собой глубокую потерю для всех нас. Таким образом, задача состоит не в том, чтобы искоренить инакомыслие, а в том, чтобы научиться относиться к нему уважительно и конструктивно, учиться у тех, кто с нами не согласен, и использовать это несогласие для построения более тонкого, полного и, в конечном счете, более правдивого понимания окружающего нас мира.
Роль институтов в формировании систем убеждений
Предыдущее обсуждение высветило опасность неконтролируемого консенсуса и подавления мнений несогласных, особенно в контексте инициатив ESG и политкорректности. Однако влияние доминирующих нарративов выходит далеко за рамки этих конкретных примеров и глубоко укоренилось в структурах и функциях существующих институтов. Эти институты – религиозные, научные, политические и образовательные – играют решающую роль в формировании общественных систем убеждений и ценностей, часто укрепляя существующие структуры власти и ограничивая индивидуальную автономию. Понимание этого институционального влияния является ключом к пониманию сложностей формирования веры и проблем, связанных с развитием интеллектуальной свободы. Религиозные институты на протяжении всей истории играли первостепенную роль в формировании моральных и этических основ. Обеспечивая утешение, общность и ощущение значимости для многих, они также сыграли важную роль в сохранении определенных систем верований, часто посредством контроля над информацией и навязывания ортодоксальных доктрин. Историческое подавление научных исследований, противоречащих религиозным догмам, таких как дело Галилея, служит ярким примером того, как институциональная власть может подавлять интеллектуальные исследования. Даже в современных условиях роль религиозных институтов в формировании взглядов общества на такие вопросы, как сексуальность, гендер и репродуктивные права, остается значительной, что часто приводит к конфликту между религиозными убеждениями и светскими ценностями. Сама структура многих религиозных организаций с их иерархическими структурами власти и акцентом на подчинение авторитету по своей сути может препятствовать возникновению вопросов или инакомыслия. Возможность институциональных злоупотреблений, таких как сокрытие сексуальных домогательств или замалчивание внутренней критики, еще больше подчеркивает сложности и потенциальные опасности этой динамики власти. Научные учреждения, хотя и заявляют о своей приверженности объективному исследованию, не защищены от влияния властных структур и доминирующих нарративов. Приоритеты финансирования, процессы рецензирования и условия публикации – все это может незаметно (или явно) влиять на направление исследований и принятие новых идей. Давление на публикацию положительных результатов в сочетании с присущими самим исследователям предубеждениями может привести к предвзятому отношению к подтверждению – избирательному сосредоточению внимания на доказательствах, подтверждающих ранее существовавшие убеждения, и пренебрежению противоречивыми доказательствами. Кроме того, контрольная функция научных журналов и учреждений, определяющая, какие исследования считаются достоверными и достойными публикации, позволяет исключить маргинальные точки зрения и нетрадиционные выводы. Контроль за финансированием научных исследований, часто осуществляемым через государственные учреждения или частные фонды с конкретными целями, может еще больше повлиять на ход научных исследований, укрепляя существующие парадигмы и препятствуя изучению альтернативных подходов. Это не означает, что все научные учреждения по своей сути предвзяты, скорее, это признание системных проблем, связанных с поддержанием полной объективности и обеспечением равного доступа для всех исследователей, независимо от их точек зрения. Это требует постоянного критического самоанализа в научном сообществе в сочетании с механизмами прозрачности и подотчетности. Политические институты оказывают глубокое влияние на системы убеждений, формируя общественный дискурс, контролируя доступ к информации и определяя параметры приемлемой дискуссии. Пропаганда, цензура и манипулирование информацией в средствах массовой информации являются хорошо зарекомендовавшими себя инструментами формирования общественного мнения и поддержания власти. Контроль над системами образования, формирование учебных программ и повествований, предлагаемых молодым гражданам, позволяет правительствам прививать определенные ценности и перспективы, часто в ущерб развитию критического мышления и интеллектуальной независимости. Влияние лоббистских групп и корпоративных интересов, часто обладающих значительной финансовой и политической властью, может в дальнейшем влиять на политику и законодательство, способствуя принятию концепций, соответствующих их собственным целям. Это создает среду, в которой одни точки зрения пользуются привилегиями, в то время как другие остаются на обочине, препятствуя развитию по-настоящему разнообразной и инклюзивной общественной сферы. Динамика власти, присущая политическим институтам, с их акцентом на власть, влияние и поддержание статус-кво, может привести к значительным искажениям в политических решениях, ограничивая прогресс общества и препятствуя расцвету альтернативных идей. Образовательные учреждения, от начальной школы до университетов, играют жизненно важную роль в формировании мировоззрения и когнитивных основ личности. Реализуемые учебные программы, используемые методы обучения и общая институциональная культура оказывают глубокое влияние на убеждения и ценности, которые усваиваются учащимися. Хотя образование направлено на развитие критического мышления, содержание и подача информации в образовательных учреждениях могут незаметно усилить существующие властные структуры и доминирующие представления. Учебники, часто находящиеся под влиянием политического, социального и экономического давления, могут представлять упрощенный или предвзятый отчет об исторических событиях, научных открытиях или социальных проблемах. Сама структура образовательных учреждений, с их акцентом на авторитет, соответствие требованиям и стандартизированное тестирование, может непреднамеренно подавлять индивидуальное творчество и независимое мышление. Необходимость соответствовать ожиданиям, как академическим, так и социальным, может привести к самоцензуре и нежеланию бросать вызов устоявшимся нормам, препятствуя развитию навыков критического мышления и ограничивая изучение нетрадиционных точек зрения. Врожденные предубеждения, присущие системам образования, часто отражают предубеждения общества в целом, усиливая динамику общественного влияния и потенциально маргинализируя взгляды меньшинств. В заключение, роль институтов в формировании систем убеждений неоспорима, сложна и имеет далеко идущие последствия. Хотя эти институты выполняют важные функции по поддержанию общественного порядка и распространению знаний, их потенциал в укреплении существующих структур власти, подавлении инакомыслия и распространении предвзятых мнений должен быть критически изучен. Понимание этих институциональных влияний имеет решающее значение для создания по-настоящему инклюзивного и интеллектуально активного общества. Это требует критического осмысления структуры и функций этих институтов, содействия прозрачности, подотчетности и готовности бросить вызов устоявшимся нормам и взглядам. Задача заключается не в демонтаже этих институтов, а в их реформировании с целью создания пространства, где процветает интеллектуальная свобода, уважаются различные точки зрения, а несогласные мнения не только допускаются, но и активно поощряются. Только тогда мы сможем надеяться выйти за рамки догм об универсальных истинах, осознав сложность человеческого опыта и богатство различных точек зрения. Это требует постоянной приверженности критическому мышлению, открытому диалогу и готовности подвергать сомнению сами основы наших убеждений и институты, которые их формируют. Стремление к истине в самом прямом смысле этого слова требует постоянного переосмысления власти, постоянной переоценки установленных норм и неустанной приверженности ценностям интеллектуальной свободы и социальной справедливости. Путь к более справедливому будущему требует критического анализа роли институтов в формировании наших убеждений и продолжающейся борьбы за действительно инклюзивное и интеллектуально свободное общество.



