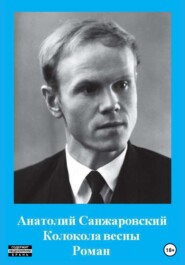 Полная версия
Полная версияКолокола весны
Жизнь у нас не заладилась.
Батюня не разговаривал со мной. В презрении вообще не видел меня, топтал под пяткой.
Я исправно платил ему той же звонкой монетиной.
Бедная мамушка слабым огонёчком на ветру металась меж нами, ловчила присмирить нас с отцом и день ото дня всё гасла, гасла, гасла…
С полгода я на измор косил изюмишко да прилежно читал храпницкого. Плотно отдохнул и прикопался в школе в воеводах.[28] В серпентарии[29] только у меня не было своего стола. Подоконник заменял мне стол.
А через неделю пристегнули мне и уроки по труду. Бывший трудила серьёзно заболел. Впрягли меня сразу в две тележки. Ну, впрягли, я исправно тащу свои возки. Видит директор такое моё пионерское прилежание и говорит: «Бог любит троицу. А чем ты хуже Бога? Кидаю я тебе и кнутик. Будешь ещё и погонщиком ослов.[30] Чего тебе? Денежки не нужны?» Я ничего принципиального не имел против шуршалок.
Месяцок так отпустя дуректор Баян Баяныч (этот бугор вёл музыку) великодушно воззывает меня на первую подковёрную бучу.
– Липягин, lumen mundi[31] вы наш! Если желаете in perpetuum[32] остаться in optima forma[33] в школе, hiс et nunc[34] прекратите с учениками здороваться за ручку да потрудитесь уж заставить их величать вас не Валеркой или Валерио-холерио, а Валерием Павловичем. Что за панибратство? Ещё чего доброго – такова, увы, natura rerum[35] – станут просить закурить!
– Не выпросят. Я не куритель.
– Ну станут угощать. Вы же не откажетесь!
– Может быть.
Я смотрел на дурика, не понимал его и думал, тёмная лошадка чиновничье начальство. К чему оно? Чтоб держать в вожжах подчинённых? Чтоб-с портить людям жизнь? Чтоб бить по протянутой детской руке только потому, что ты учитель, а он ученик? Глядя на старшого, не примется ли он по нашему образцу обижать младших, слабых? Кого мы так воспитаем?
Эха! Сеем, сеем вроде разумное, доброе… А нивка-то камень, вечно не пахана! Что взойдёт-то, господа сеятелёчки?
Тут, конечно, не нужно большого ума, чтоб уловить существенную разницу в моих и директорских взглядах на педагогику.
И мы, понятно, расстались без горьких слёзолитий.
«Обида как ни тяжела, а поскулила и ушла».
Я переметнулся на почту.
Правда, не ямщиком. Прилип письмоносцем.
– Э-эх… Был учителем и – несчастный почтальонишка! – Гордей солоно выматерился. Обругал меня круглым слоф фрайером.[36]
Я был, естественно, другого мнения о себе. Не мог согласиться с Гордеем и снова залез в спор.
– Хочешь, тупак, в твой СХИ я на спор поступлю!? И будет тики-таки!
– Ха! На рак бы не сел!..[37] Да ты, мозгодуй, хоть бы в морковкину академию[38] впрыгнул! Тебе даже наш нижнедевицкий кембридж[39] не светит!
Я доказал, что я вовсе не какой там дурилка картонный, не глупей него. На спор жикнул именно в тот СХИ, где уже заочно мучился Гордей.
И мы вместе стали ездить в Воронеж на сессии.
Будущие агрономы…
Гордей уцелился разводить сады. Метил во внука Мичурина.
Да снесло во внуки Обломова.
Как-то на маслозавод привезли саженцы киевских каштанов. Три саженца оказались лишние. Выбросить жалко.
Стали просить Гордея, возьми да возьми воткни у себя на пустом подворье.
Гордей вроде и не против каштанов под окнами. Да лень нести саженцы. Лень рыть ямки. Лень поливать.
Ребята с завода воткнули-таки ему под окном те каштаны.
Под кроной дальнего каштана темнеет курятник. Прямо из крыши курятника льётся радостный стан раскидистой яблони. И по весне, в пору цветения, бело-розовое облако плывёт над сараем и никуда не уплывает. Лишь одну эту яблоню и можно отнести на счёт Гордея и то с большой натяжкой.
Однажды после лесных яблок Гордей поленился бежать в ночи далеко в бундесрат на огороде, присел – такого совесть не убьёт! – меж закутками.
И поднялась-возросла на том месте яблонька.
Понадобилось место под курятник. Глухой простор забили досками, надёрнули толь, оставив в крыше дыру для яблонева тела.
И растёт яблоня из курятника. Густо цветёт. Только яблоки её никто ни разу не пробовал.
Червивые, гнилые яблоки опадали быстро. Даже кабану Гордей не осмеливался их давать…
Вот такой выплавился из Гордея садовод.
А я мечтал растить хлеба.
Да ни колоска у меня не поднялось.
Эхма, мечты, мечты… Так и манит пустить лихими стишатами уличного варева:
Мечты, мечты, где ваша сладость?Мечты ушли, осталась гадость…Весь ералашка в том, что, кончив институт, я не стал агрономом.
Парадокс.
Видишь ли…
Покуда я заочно мучился именно на агронома, дома меня постоянно крутило в учениках, будто щепку в омуте, и потом уже, как самостоятельно хватнул дело в руки, – во всякую работу я был въедливый! – кем только ни терпужил! И пекарем, и каменщиком, и маляром, и стропальщиком, и плотником, и слесарем, и токарем, и охранником, и милиционером, и лесником, и линотипистом… За шесть институтских лет я добросовестно изучил-прощупал до глуби все эти рукомёсла. Ну не богатство ли это моё?
Tyт нужно немного отшагнуть назад.
Как я уже говорил, после матери отец поджанился на другой, и я отбыл из дому чужие считать углы. Наверно, совестно стало батыю. Выкупил мне отдельную поганенькую хатёшку. Так, одно название. Под соломенкой. Всеми ветрами прожигалась.
Навалилась зима.
Мне и вовсе худо.
Была у меня тоскливая постель, как у курсанта. Ни пуха ни пера. Даже тёплого одеяла не заводил. Конечно, я б наискал тугриков на одеяло. Но я из принципа не покупал его. Ещё разоспишься в тепле. А долго спать вредно. На стенке у изголовья у меня сидели рядышком под ржавыми кнопками вот эти две газетные вырезки. Это мои иконки.
(Первую заметку я показал Глебу, но он её выбросил.)
Врачи признали длительный сон опасным для жизниСон, длящийся более рекомендуемых 7−8 часов, повышает риск преждевременной смерти.
Это установили исследователи из Килского университета в Великобритании. Работа была опубликована в журнале Journal of the American Heart Association.
Ученые проанализировали данные 74 исследований, участниками которых стали более трех млн. людей. Оказалось, что те из них, кто спал около 10 часов в день, на 30 % больше были подвержены риску преждевременной смерти, чем те, кто спал около восьми.
Также десятичасовой сон на 56 % повышал риск смерти от инсульта и на 49 % – от сердечно-сосудистых заболеваний. Плохое качество сна повышало риск развития коронарной недостаточности на 44 %.
Отклонение от существующей нормы сна в большую или меньшую сторону повышает риск развития болезней сердца, поясняют исследователи. Они рекомендуют врачам обращать больше внимания на качество и количество часов сна при консультации пациентов.
Здоровый крепкий сон приводит к тяжёлым заболеваниямКрепкий здоровый сон всегда считался источником новых сил. Однако любопытные британские ученые опровергли эту теорию. Как сообщает газета Daily Mail, именно во сне человек может приобрести целый букет болезней.
Если человек спит на спине, у него есть все шансы заполучить астму и проблемы с сердцем – объясняется это пониженным содержанием кислорода в крови.
Спящим на боку тоже не стоит радоваться. Им придется чаще обращаться к косметологам, поскольку при такой позе появляются морщины.
Если человек спит с подогнутыми коленями, ему понадобится помощь сразу нескольких врачей – боли в шее и мигрень практически обеспечены.
Шея пострадает и при сне на животе. Вдобавок будут неметь руки, а в определенных случаях можно свернуть еще и челюсть.
Что касается пар, любящих спать в обнимку, то у них спустя некоторое время начинают болеть и спина, и шея, и ноги, и руки.
Других вариантов сна у британских ученых не нашлось.
Плохо искали. Даже у себя дома. А у них же под носом, в Лондоне, дорогой товарищ Маркс вон нашёл. Сидячий. Но это, правда, всё равно его не спасло. Помер ведь вседорогой товарисч Маркс как отпетый тунеядец. Весна. Солнце. Народ кто где. Кто в поле. Кто у станка. А дорогой товарисч Маркс немного почитал за столом свою нудяшку «Капиталишко» и потянуло его накоротке отдохнуть. Прямо в кресле неосторожно сидя задремал, а там роковая дрёма плавно перетекла в сон, и товарисч неосмотрительно уснул. На минутку, как думалось. И то ли поленился проснуться, то ли просто забыл проснуться. И досвидос!
А ведь жутковато.
В каком же варианте спать безвредно?
Только в одном. Совсем не спать!
Совсем не получится. Ну, по минимуму надо ехать.
А минимум удобств гарантировал минимум сна.
Унырну под одеяла – у меня было целых два байковых! – обложусь для согрева всеми пятью кошками и до утра бедное сердце с холода дрожит. Дрожью я грелся и не давал себе разоспаться. Берёг себя для долгой жизни.
Воскресенья я ждал. Как Пасхи!
По воскресеньям были мужские банные дни.
В эти дни прилетал я в баню к открытию. К десяти. Уходил последним.
И так всю зиму.
Делал я это не потому, что был большой чистоха, а потому, что я не мог вынести дома морозину.
Бегал в баню греться.
Мда-а… Что и говорить, мёрз я тогда круто. Раз во сне мне был даже вещий голос с небес: «Хватит тут дрыжики продавать. Давай устраивайся в «Огни коммунизма»[40] старшим заместителем главного истопника. Минуту назад это место освободилось…»
По приказу небес я тут же проснулся и загоревал ещё пуще.
В Двориках же у нас крематория нету. И в Воронеже нету. Надо ехать в Москву. Да как же это я покину свои родные Дворики?
И не поехал я в Москву на тёплую работу.
Надо строиться!
За весну и лето рядом с отцовым чумом я поднял новый королевский домок, чем привёл в невозможное замешательство отца, соседей.
Об этом своём подвиге я не стыжусь сказать под момент.
Вот тут-то, на постройке своего детинца,[41] мне и понадобилось всё то, что на всяких ремёслах я твёрдо набил руку.
Работал я в ремстрое, выписал кирпича.
Мне как ударнику труда выписали без митинга.
Сам стены клал.
Верх сам сгандобил.
Двери с лазом для кошек сам навесил.
Сам печку выложил на чистую душу.
Окна сам вставил.
Одно слово, всё, всё, всё сам. Я не Машутка там какая Кривоногих. Руки у меня всё же правильно пришиты. А кому талан, тому всё.
Как видишь, не на засолку собирал я себе эти пятнадцать ремёсел. Нужда заставит сопатую любить…
Итак, учился я на агронома.
К этой главной своей идее я подлаживал всего себя. Уж к чему, к чему, а к учебе отношение у меня всегда почтенное. Коллекционировать тройки меня не прельщало. Такую зачётку стыдно поднести кому. Хотелось всё как посолидней сдать.
А хочешь сдать хорошо, готовься к сессии по серьёзке.
Я старался выкласть душу. Да разве одновременно ладом готовиться к сессии и работать возможно? Учеба первей всего!
За месяц-полтора до сессии я увольнялся, мёртво брался за учёбу, сдавал экзамены и зачёты. А после сессии шёл уже проситься на новую работу. Отсюда и набежало столько ремёсел мне в сети.
А самое важное дело, ради чего пускай и на спор весь сыр-бор я затевал, так и не далось мне.
Не-е, по бумажной части полный абажур. Диплом почти с отличием мне честь честью отдали. Ромбик такой красивый тоже отжаловали.
Ветром радости несло меня домой к мамушке. Была мамушка уже в больнице. Ну, думаю, увидит диплом почти с отличием, сразу поднимется!
Мамушка меня не узнала.
Я ласково поднёс поближе диплом почти с отличием, значок.
Она как-то сморщилась, изморно замахала на меня руками. Надёрнула одеяло на лицо и жертвенно, с надрывом заплакала.
До самого конца мамушка не узнавала меня. Только устало и угрюмо смотрела на диплом из моих рук, вовсе не понимала, что это такое.
Да понимал ли я сам?
Я уходил от мамушки…
Диплом почти с отличием топорщился в кармане. Мешал…
И с ним я так и не стал агрономом.
Не дошёл до своего полюшка…
10
Страх высоты многим мешает делать карьеру.
Джангули ГвилаваИ для Гордея, и для меня третий курс оказался завальным.
На третьем курсе быканат[42] требует справку, что ты, такой-то, арбайтен унд копайтен по избранной специальности.
Не постеснялись, спросили справку у Гордея. Гордей был богаче меня двумя курсами.
К той поре Гордей раскушал, что ему выгодней доспать до бабьей пенсии на лавочке под дверью у компрессорной,[43] чем менять всё, ставить всё кверх тормашками и начинать новое, садоводово, житие Бог весть где и Бог весть как. Тут ты воздаёшь храпуна, и сны идут тебе в зачёт как вредные. По вредности выскочишь на пенсион еще крепеньким петушком.
Это раз.
Во-вторых, прибился он к мнению, – хватил выше Ивана Великого! – что способней и спокойней покупать яблоки-груши в ларьке, нежели самому растить.
Вследствие всех этих умствований Гордей заленился соскользнуть на колею садоводческую – ему не послали вызов на сессию.
Неслышной, сухой веточкой отпал Гордей от института.
Но вот звонит мой час.
Я раскланялся с почтой и увеялся на практику в ближний колхоз, в село Малиновые Бугры, или, как их ещё звали, Вязники.
Там-то я и увяз.
Ни с того ни с сего кинули мне сразу вожжи от целой бригады. Иди направляй!
От такого навального доверия стало жутковато.
А тут посевная.
Первая моя посевная…
Что за народ сбежался в поле?! Мат на мате.
Шатнулся я в просвещение.
– Мужики! – кричу. – Не смей ругаться на севе! Урожая не будет!
Они ржут.
Я свои вожжишки не роняю:
– Один вон уральский учёный двадцать лет изучал силу бранных слов. И доказал… «Зёрна, политые водой, которую ругали трехэтажной бранью, проросли лишь на 49 процентов. Вода, заряженная вялым матом, подлучшила результат – 53 процента проросшей пшеницы. Затем учёный полил семена водой, над которыми читал молитвы. И семена проросли на 96 процентов».
Меня крепенько просмеяли на все боки и я притих со своей гипотезой "О влиянии ненормативной лексики на психофизическое состояние живых организмов".
Не дождался я своей первой уборки. Под матюжок сломала меня моя же первая посевная… Первый блин… На то он и первый, чтоб просвистеть комом.
Один сменьшил норму высева семян, ловчит побольше намотать гектаров на колесо. Второй архаровец в менялы заделался. Чувал семенного зерна при мне меняет на бутылку бормотухи или кисленького. Надирается по-чёрному и горит с вина.
Умом просекаю, надо бы мне этого менялу за хвост да к участковому. А я не могу.
Душа умирает…
Все тащат живым и мёртвым. Я не могу видеть эти страхи. Не то чтоб на дыбы всплыть – боюсь, ядрёна марш, голос поднять. Сбега́ю! Абы не видеть. Абы не быть свидетелем. А то ещё прибьют да закопают… В каждой избушке свои погремушки.
Или…
Погодистый день.
Позднее, старое утро. А у меня ещё не все в работе.
Иду, погоныч, гнать в толчки.
Приворачиваю к уваловатой, раскормленной бабёнке. Она будто ждала. Моментом на стол дымных щец, сметанки, мяска.
Буркнул про работу.
Надо бы и уходить – ноги́ поднять не могу.
Знамо, голодная блошка выше прыгает. И до таких степеней я напрыгался, что нету моей моченьки подошвы от пола оторвать. Приварило! Как тут уйти?
Столбом торчу на порожке.
Молчу.
А у самого голова с голода кругом идёт.
А в животе некормленые медведи ревут.
А она, ахрютка, заводит свою сахарную песнь песней:
– Жаль каковецкая! Поди, Валер Вы наш дорогой Палыч, устали, бегамши по дворам да выгонючи в толчки наших чёрных коммунариков[44] у поле? Не поевши сами, гляди? Жёнка-то хоть какая значится в наличности? Есть ли кому подкормить?
– Откуда… Я ещё студент. А студенту нельзя жениться. Если он будет уделять основное внимание жене, вырастут хвосты, а если учёбе – рога. А ежель разом хватнётся с жаром за то и за другое – отбросит копыта… Получается кислый пшик…
– А Господи! – полохливо и дробно крестится она. – Это ж куда такая ига бегить?! А… Совсема выпала из толку, совсема вылезла из ума… Пирожки ноне расхо́роше пеклись! Не зябли! – и выносит, смертушка верная моя, на расшитом петухами полотенечке цельную горуху ещё тёплых пирожков со смородинкой!
Знает, продувная бестия, чем добить!
Я вижу, как пирожок сам радостно заворочался в сметане, сам только ско-о-ок мне в самовольно распахнутую настежь варежку!
Я даже пожевал. Но проглотил лишь язык.
– Да что ж Вы, Валер Вы наш дорогой цветочек Павлович, навстоюшки? – всплёскивает руками. – Садитесь! Пожалейте по́лы. Нехай не висят. Нехай трошки отдохнут! Покуда полы отдохнут, и Вы ж, Валер Вы наш цветочек Павлович, подзавтрикайте чем Господь послал. А то што ж на пустой желудок об дело язык колотить?
Я, шпендик, отнекиваюсь.
А колёса сами несут к столу.
А цапалки сами хватают пирожок.
А бункер сам уже раскрывается!
Смотрела, смотрела жалобно тетёха, как я не жевавши заглатываю пирожки, подпёрла пухнявой ладошкой розовую щёку. Пожалела по-матерински:
– Худы, худы-то што! Впряме ходячая смертонька!
За работу хоть меня и не хвалили, так зато не корили за еду.
Отпустил я ремень на три дырочки.
Напёрся, как поп на Пасху!
Какую тут работенцию спрашивать?! Поклонился поясно да на разбольшом спасибе и выкатился.
Расписал я Гордею первую свою бригадирскую неделю.
Гордей и насыпься на меня:
– Когда ж ты станешь мужиком?
– А кто я по-твоему?
– Му-жик? Ты му-жик? Думаешь, раз таскаешь два яйца, так и мужик? Яйца и у козла есть! Зла не хватает… Хорош гусик! Хор-ро-ош! Вот только не летаешь!.. Или у тебя болты посрывало? Как же ты, Шляпкин, такое зевнул!? От этой глупости надо уходить так… Не с того ж конца погнал ты, дураха, свою практику. Не с того… Какую кашу сваришь, ту и будешь хлебать!.. Надо было, тайга, начинать с председателюги. И тогда все твои бугровские страдания сами собой рассосались бы, как нечаянная девичья беременность… Чего было с предом цацкаться? Он что, тебе родич? Как же… Твоему забору девятый плетень! Хо-оп этого председателька за жаберки, бумажулю в зубы. Хоть яловая – телись! Давай, контра, по госцене мясцо, картошку, млеко… Набрал и пускай хозяйка знай готовит. Тогда б ты чужие куски не сшибал! Был бы круголя независимый. Сам бы кусал!
– Не могу я… Люди же! Как-то неудобно…
– Ойя! Или ты, Недоскрёбкин, стукнутый? Как говорил один, «да тебя даже послать некуда. Всюдушку ты уже был!». Или у тебя кисель в коробке? Ну брякнешь, на кулак не натянешь! Видите, благородство его закушало! Святоша! Не про тебя ли сама Цветаева всплакнула: «Не стыдись, страна Россия! Ангелы всегда босые»? Боженька ни у кого не отымал права на глупость. Но зачем ты злоупотребляешь? Думаешь, они тебя пощадят? Подключай голову! Соображай! Действуй! Стучи!.. Разве дверь, в которую не стучишь, сама тебе откроется?
– Да-а…
– Вот именно! Шевели своей понималкой! А то придумал – неудобно! Неудобно на потолке спать, одеяло сползает, да и то гвоздями можно прибиться! А тут… Ты что же, хочешь прожить, как сурок в норке? Чтоб-с никто мимо не прошёл? Чтоб-с никто не спугнул? Чтоб никто, наконец, не пёрднул тебе в норку?.. Ты бригадир! Шишкарь! А быть давилой[45] и не кусать нельзя. Тогда тебя слопают! Вот что… Хочешь королевствовать в агрономах, дуй в рейхстаг.[46] Прямиком к первому. К самому партайгеноссе Сяглову! Распиши, что за безобразия в тех Буграх. Эта твоя неделя – экзамен на зрелость, на доброчестность! Экзамен на право быть настоящим человеком, если хочешь. Всякое дело начинай чисто!
– Я что, тормозной? Ты чему учишь маленьких? Выносить сор из избы?
– Выноси, милок. Чище изба будет.
Я рванул в райком. Прямой наводкой к нашему бобру Сяглову.
Но пока бежал я проклятые полкилометра, никакого запала во мне не осталось. Вместо молний и грома, на что поджёг меня Гордей, я развесил нюни, расплакался самым препасквильным образом.
– Заберите меня из Бугров… Я там помру с голода… Не могу я там… Не хочу… Виктор Семёныч… Миленький…
Меня отозвали.
Однако Бугры не отпустили меня с миром.
За неделю моего бригадирства у меня в бригаде скоммуниздили сто сорок мешков семенного зерна. Пролетел я с мешками, как фанера над Парижем… Так лёпнуться родным кокосом в грязь!.. За зерно я не отвечал, я отвечал за мешки. Один мешок стоил рублёвик. Мешки пустили как бывшие в употреблении по полцены и при расчёте с меня вычистили семьдесят рэ. Рупий таких я не успел заработать. Пришлось родительскими откупаться.
В институте лежала моя справка, что я бригадирствую в колхозе. Мне аккуратно подбрасывали вызовы на сессии. Я аккуратно сдавал. Но Гордею я признался, что агрономом, наверное, не буду.
– А зачем учишься?
– Чтоб-с умнее быть, пожалуй… Ёшкин кот! Докажу тебе, что не такой уж я пустолобик.
– Ну-у, братец, глупее не придумать. На что мне твои жертвы? Вон я… Почувствовал, что выпал из меня садовод, я честно и брось институт. Чего зря тянуть с государства? А ты, плужок… Ну кто ты сейчас? Маляришка? Маляр тоже нужен. Но нужен ли стране маляр с двумя высшими образованиями? Хапанул ты у родной державушки сверх полной меры. А кто за тебя будет отдавать?
11
Этот разговор долго не отпускал меня.
Как-то подспудно я чувствовал, что в ту бригадирскую неделю разминулся я, пробежал мимо чего-то очень большого и важного в самом себе, в своей жизни, но именно мимо чего – я не мог и себе сказать. Не знал. И это незнание тревожило, дёргало меня не во всякий ли день.
Задолго до диплома, не за полгода ли, засуетился я панически, завертелся.
Примчался в районное управление, открытым текстом прошусь к ним на службу.
– А опыт у вас какой-нибудь есть?
– Ну зачем же какой-нибудь? У меня хор-ро-оший есть! Я в Буграх бригадирил. Мно-огому научился! Мне б подале от материальной ответственности… Обжёгся на этих мешках… Как смерти боюсь этой матьответственности… Возьмите на самый бедненький окладушко… Ну что вам? Лишь бы только в управление. Лишь бы ни за что не отвечать.
А мне почему-то весело отстёгивают:
– Нет у нас такой должности, чтоб ни за что не отвечать.
Ладно.
Уже с дипломом беру я этажком ниже:
– Помогите устроиться агрономом хоть куда. В любой колхоз иду!
В управлении мне сулятся помочь. Твердят, нужен я. Заявляюсь на место – не нужен.
И что поразительно, на местах везде поют одинаково.
– Нам нужен на бригадира, на управляющего агроном со средним образованием. А у тебя высшая подготовка. Тебе подай главного агронома. А главный у нас есть. Так что ты нам не подходишь.
Мне тогда и подумалось, а не круговой ли заговор тут? Может, покуда доберусь я от районного кабинета до колхозного, из районного десять раз позвонят и накажут, чтоб не брали, расподробно раззвонив им про мой препасквильный скандал в Буграх?
Вот так клюква!
На родной сторонке места себе не найти…
А может, родная сторонка заколдована от меня?
Ну и пускай!
Не пропаду, не отброшу копылки в любом другом месте. Лишь бы при земле служить! Мне б только прикопаться хоть в самом захудалом колхозишке «Красное дышло».
Я в институт.
Попал под раз. Распределяли очников.
Попросился.
В охотку сунули в дальний конец области нашей.
Так уж припало, к бугру в овраге,[47] к председателю, я вошёл с одним парнем. Рука к руке пилили автобусом. Оказалось, этот телок тоже агроном. Только из морковкиной академии, из техникумишка. Тоже по распределиловке.
Взял пред наши дипломы и в бухгалтерию; вроде звонит куда-то и так громко говорит, а что говорит не разберу.
И что же вы думаете? Возвращается. Сначала в дверях появляется нос, семерым Бог нёс! Весь важнющий, спина шифером. И тычет пендюк в малого, рубит сразу, без митинга:
– Тебя я беру, середнячок. А тебе, – ткнул в мою сторону моим дипломом, – дать мне нечего. У тебя ж, – голос у него насмешливо улыбнулся, – слишком высокущая образованка. Нечего мне тебе предложить. Не знаю пока, что и делать…
Я и всполошись.
Чего ещё не хватает в этом колхозе? Что ещё не так? Неужели я снова не на той телеге не с теми людьми припёрся не в тот колхоз?
Он будто угадал мои мысли и как-то пришибленно кивнул:
– Да-а…
– Ка-ак?! – остолбенел я. Хватнул воздуха, как тот заяц, что выскочил от охотников на опушку, и ну наотмашку чертей лепить: – Вы ж давали заявку в наш институт! Просили именно главного агронома себе! Да я и сам прежде чем стукнуться к вам в кабинет заходил в бухгалтерию, спрашивал, есть ли у вас главный. Мне и ответь: нету, вот ждём-с.
Да кому было печатно сказано в одной газете: «Не греми ключами, подобранными к шефу»? Надо было вымолчать до поры. А я, козлиный лобешник, с горячки всё и бухни, что знал. Пред и всплыви на дыбошки.

