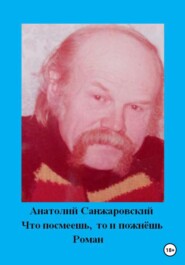 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
5. Лоб. Один. Сократовский.
6. Грудь. Можно как у брюлловской итальянки с виноградом в полдень.
7. Руки. Не менее шести. Как у танцующей Шивы. Будет больше – лично я за! Вот если б с сотней рук откопал… Пахала бы сразу кучу дел!
8. Ноги. Пара. Одинаковой длины и ни сантима из пластмассы.
9. Росточку миниатюрка. Чтоб мало переводила материи на платья. Чтоб мало брала места на кухне, на диванелли и в общественном транспорте.
Ох, Глебуня, попробуй отхвати без изъянца, без царапинки!.. Без сучка, без задрочинки!
Давнишнее письмо это, слетевшее с пера когда ещё, в холостую пору, письмо дурашливое, беспардонное – Боже, да сколько у нас copy не только в карманах, но и в душах, в головах! – я со стыда за себя того, вчерашнего, пыхнул было уже порвать, уже сложил вдвое, уже надломил, надломил с хрустом, как вдруг откуда-то сверху, сзади посыпались на меня ядовитые смешки.
Обернулся – навис надо мною скалушкой Глеб.
Я и не заметил, как он подкрался со спины.
– Ну что, – потыкал он подбородком в письмо. – У тебя жёнушка, какую хотел? Или?..
Что я ему мог ответить? Что обошлось без или?
Да, обошлось…
– Мне ни в чём не везло, только с женой и посчастливилось. Все мои беды перегорели в эту единственную радость.
– И не потому ли ты не боишься оставлять одну? А в Москве, между прочим, из мужиков ты не один.
– Лукавый, Глебка, ты человече. Луканька.
– А чего лукавить? Доведись мне, я б не оставил. Сказал, у меня, может, неверная молодая жена, и не поехал бы ни в одну командировку. Вот ты всё кудахтал про семейное счастье. А где оно? Холостому везде плохо. А женатому только дома. Так стоит ли жениться, чтоб от дома приходить в себя на стороне? Ты, наверное, как выскочил за светофор, так уже и холостой? Так уже и рыщешь, с какой бы скадриться?
– А зачем? – Из потайного кармана пиджака я достал кожаный крокодилий кошелёк, из кошелька – карточку. Подал Глебу. – Вот моя Валентинка. Всегда со мной. Один я не езжу.
– Мде-е… – Глеб грустно подмаргивает Валентинке. – Куколка, доложу, со знаком качества. От такой на сторону не позовёт… Где ты её, бедняжку, настиг, рыжеусый лев?
– В автобусе! – дуря выкрикнул я.
Мне не хотелось вот так походя расстёгивать перед ним горькую историю своей любви и я болтнул первое, что упало на язык.
– В каком ещё автобусе?
– В обыкновенном… Городском… Госпоже Судьбе угодно было усадить нас рядом…
– Потом, – оживившись, подхватил Глеб, – сводила на экскурсию в зигзагс и заштриховал мой братика остаток своей жизни в чёрную клеточку? Окольцовка – свободе концовка!
– Ни Боже мой! Прежде я скитался по жизни и не знал, зачем я, на что я, к чему я. Я всюду стеснялся себя некрасивого, стеснялся своего одиночества дома, стеснялся на улице, стеснялся в кино, в театре. Я считал себя обсевком, неудахой, никому не нужным, и эта ненужность, эта бесполезность убивали меня: я всегда прятал глаза, боялся смотреть прямо вперёд, боялся смотреть прямо людям в глаза, пялился всё себе под ноги, в землю, отчего и стал сутулым; я прятался от людей, гнал себя на задворки, гнал к стеночке, в угол, в тень – из года в год я убивал в себе себя… Я окреп её нежностью, поверил в себя… Неужели, думал я после загса, эта юная красавица моя жена? И досегодня не пойму, что же такое она, загадка без разгадки, нашла во мне?
– По-моему, – словил Глеб зевок в кулак, – грузчика. Раньше ты ездил в командировки с портфельчиком. А теперь с чемоданом да с комком сеток. В этом отличие холостяка от женатика? В этом счастье семейное?
2
Мне не хотелось отвечать ехидине.
Однако я не мог не согласиться с ним.
Действительно. Закатившись куда-нибудь в Фергану или в Самарканд самолётом, назад я тащился уже только поездом. Четверо суток умывался я, голый по пояс, грязным по́том в вагоне-душегубке. Но глупей меня от счастья не было человека. Я вёз то, что любила моя Валентинка!
На верхних полках золотились дыни-крокодильчики; доходили, набирались кумача бурые помидоры в два кулака; привяливался крупный, с палец, виноград, весело, ликующе овеваемый в открытые окна милыми Кызылкумами.
Что ни толкуй, а сладко бремя семьи!
Человека держит в радостных рамках, как обручем, забота о другом, пускай ближнем, пускай дальнем. Не потому ли одинокие люди, чтобы хоть как-то зацепиться за жизнь, заводят кошек, собак? Когда человеку не о ком голову ломать, из него как бы выдергивается главный стержень. Не отсюда ли чувство пустоты, угнетённости, ненужности?
– Вижу, – хмыкнул Глеб, – в чей огородко камушки. Но я не чувствую себя ущербным.
Он говорил неправду.
Досада в голосе выдавала его.
– Может, ты, бабан, из стали и сплавов? – терялся я в догадках. – Скажи, у тебя есть, с кем ты отводишь душу?
– Хах! Тебе скажи да покажи, да дай потрогать… Есть!
Он с какой-то полугрустной, полублудливой усмешкой раскинул на полкомнаты руки:
– Вот такие вдовушки!.. Загорится у какой – потушим.
– Эна! Женился бы в Насакиралях на своей Половинке… Не бегал бы сейчас в пожарных…
– Что вспоминать… Марусинка отломанный и потерянный сладкий ломоть…
– Горюешь по ней?
– Если честно – да.
– Странные штучки ты отливаешь. Горюешь по Марусинке, а юное народонаселение… этих внепапочных костогрызиков[188] рисуешь с какой-нибудь очередной Дашей-Клашей-Глашей?
– Может, и рисую…
– Как можешь, блюминг,[189] подправляешь демографическую картинку?
Он посмехнулся:
– Рад послужить Отечеству…
– Да радо ли оно? Кому нужна безотцовщина?
– Да что я, Вова алюминиевый? Я в тряпочку своё потомство собираю… Насколько знаю, я ни разу не мазнул… Даже б в случайном, нафантазированном пьяном водевиле[190] не зевнул. Так что у меня ни одного на стороне бейбёнка.
– Как это так у тебя получается? Нестыковочка-с…
– О-о… В жизни всё не состыкуешь. Я на Марусинке разбежался ещё до армии жениться. Женился бы и пошёл служить. А она мнётся-жмётся. Чую, чужая воля её ломает-давит. Мол, говорит, у тебя ещё армия. Да неизвестно, что там после армии… Да и Ваняга, братунец, против. И вообще все наши против… Тогда я и рубни ей: давай убежим!
Я тут невесть почему с подначкой и оскорбись:
– А! Так ты, братуля, хотел от нас убежать? От родной матери? От родного братца в моём лице? Хор-рош братучелли!
– Да ты сильно не переживай. Мы б далеко не побежали. Какую недельку пережали в лесу в шалашике и прибежали б назад. Распакованную дочуньку Половинкины без звучика отдали б за меня. Куда б они делись? Примерно такими словами прорисовывал я Марусинке картинку нашей будущей жизни, а она всё своё: «Да наши все сейчас против!..» Я и психани. А-а! Ваши все против, так и наши вовсе не за! Отказ не обух, шишек на лбу не будет!
– А дальше?
– Тут нахлынули к нам в совхоз вербованные баядерки из-под Кировограда. Я шутя и пришнурись к Веруньке. Так… Абы развеяться да налегке отдохнуть от правильной Марусинки. И отдых мой завалился. Такие страсти на новом фронте пыхнули! Нет лучше игры, как в переглядушки… Целу-у-у-уется – я тебе дам! Как присосётся… Трактором не оторвёшь! А поцелуй – это звоночек на первый этаж. Звоним с вечера до утра. Без останову. Звоним ночь, звоним две. Дозвонились… Кончил в тело – гуляю смело. Прогулял так недели три. Про Марусинку и думать забыл. Как-то бегу с пустым ведром к кринице – она сама у угла попадается на жизненном пути. Видал!? Гонит девка молодца, да сама прочь нейдёт! Намекает, надо, мол, встретиться. А я уже к ней как вроде приостыл, успокоился. Говорю, раз ваши все против, так и наши тоже все выбежали против. Даже куры… А на второй день сам и побеги снова к Марусинке и к Веруньке ни ногой. Вот и пойми нашего братчика обалдуя. Чёрт ли нёс на дырявый мост?.. Случай злодеем делает… Корю себя, что сбéгал от Марусинки налево.
– Не от неё… Это ты от себя бегал. Женись тогда на Марусинке, сейчас бы не бегал по горящим колобкам. Амплуа пожарного штука непрестижная. Да и не век же бегать бизону с пожарным крюком. Ну что за бином Ньютона? Прости мои извилины, но я так и не понимаю, почему нельзя жениться в сорок с небольшим?
– Жениться-то можно. Да лучше в тридцать с большим!
– Ну… Тридцать давно проехали… Тут не до переборов. Чего б тебе, пластилиновый ты рыцарь, просто не жениться?
– Что ты? Что ты, сердешный!? – протестующе замахал на меня Глеб. – Держи, Кармен, шире! Уже и неудобно…
– Неудобно на потолке спать. Одеяло сползает.
– Что ты!.. Ну к чему на шею камушек в мои-то остарелые года? К чему?
Я молчал.
Задетый за живую рану, Глеб продолжал, думая вслух:
– Брать разбитое корыто своих лет нет смысла. А молодки… Какой же интерес молодке со мной? Может, тут наработала взрывчатка или тоска по открытому слову, а может, то и то вместе, как бы тебе объяснить? Чувствуется какое-то внутреннее скопление. Похоже, настал момент, когда человеку надо разгрузиться мыслями. Это очень важно. Но не каждый говорит искренне, без смеха в душе… Дружбу ради выгоды я в дружбу не ставлю. Дружбаков у меня стоящих нету. В последнюю пору я как-то прижался к чтению. Книги – высококалорийная духовная пища. До самого Толстого докачал.
– И чего ты хочешь от Толстого?
– И от Толстого, и от тебя я хочу ответа, почему я один?
– А блондинка?[191]
– А-а… Блондинка мимо счёта… Вот только лишь блондинка со мной и не расстаётся… Неужели я совсем такой бесшансовый? Сыновья моих сверстников уже отслужили – когда же мои сыновья вернутся из армии? Дочки моих сверстников уже матери – когда же я возьму на руки своего внука? Почему я, мемеля Пустоголовкин, до се один? Потому что дундулук? В этом есть правда, да не вся, рак меня заешь! Тогда слишком много, получается, топчет землю дураков. В одной Гнилуше знаешь, сколько холостует тридцати-сорокалетних байстрюков? Как собак нерезаных! Я не стану распинаться про чужих. Я про себя да про своих дружков. Про Шурика с Валеркой. Три каких бабая! А толк? Ну!?
Он горячечно схватил с верха серванта листок с карандашом, припал к столу, размашисто вывел: 3 = 0 и, карандашом тыча то в тройку, то в ноль, почти крикнул с отчаянием:
– А толк – ноль целок хренище десятых! Ты ж знаешь ребят. Не калеки… Не забутыливают… Красавцы – я те дам! А где их семьи? Валерка дважды расписывался – дважды укушенный… В разводе… Шурик укушен раз… А я и не пытался. Ну куда я приведу молодую? В этот наш сарай? В одну комнату с матерью? Извини, я не скотина… Похеренная жизнь… И Шурик, и Валерка приводили в одну комнату с родителями, пожались-пожались да хрясь горшок об горшок и в стороны. Э!.. Когда его только и перестанут так легко смотреть на молодую семью? Поманило сойтись – распишут, надумали разойтись – разведут, спишут убытки по графе не сбежались характерами. А что же делать, чтоб люди не разводились? Не то ли, что делает наш Начальник?
Мы с Глебом дразнили Митрофана Начальником ещё с детства, когда он, старший из нас, братьев, большак, с самым серьёзным видом, основательно, совсем по-начальнически командовал нами. Попробуй только не выполни какой его указ или огрызнись – по уху мазнёт. Начальник не поважал мышат брыкаться.
Наша дразнилка намертво припеклась к нему и – деваться некуда – после, в почтительные годы, он действительно продрался в начальники, и теперь среди нас имел самую начальничью, верховную должность – председатель колхоза.
Вовсе не то, что я, журналист.
Журналисты интервью не дают. Про журналистов не пишут, и только – журналист на десять лет живёт меньше обычного человека – и только когда опрокинешься, может, наберут петитом отходное извещение, возьмут в чёрную рамочку на последней странице, в нижнем правом уголке – был, отлепился, больше не будет приставать с интервью…
Глеб был компрессорщиком на маслозаводе.
– Знаешь, – продолжал Глеб, – как-то открылось, что у нашего Начальника меньше всех по району разводов. Где-то возле ноля дело крутится. И неженатых сорокалетних бабаёв нет!
– Может, он сват хороший? Какими-нибудь травками присушивает молодых друг к дружке?
– Не знаю, как насчёт травок, но в колхозе в своём «Красное дышло», – я на свой манер зову его «Родину» – он души не чает. У него душа колхозом растолочена. Колхозника своего он жалеет-ценит так, что за эту жалость ему спокойно можно вешать вторую звезду Героя, можно и – уникум наш братец! – упрятать в клеточку. На выбор. Это кто как посмотрит.
– Антире-есно гутаришь, дядя… Дай расшифровочку… Что это за жалость такая странная?
– Жалость у него с кулаками… Объезжает он на «Ниве» свои поля…И вдруг видит: в колхозную кукурузку залез его же колхозанчик… Этот мичуринец[192] внагляк ломает кочанчики и в мешок. Ломает и в мешок. Митя выскочит из машины и – заниматься мозгоклюйством некогда! – и ну ломать бока труженичку. Не тронь колхозное! И так наломает, что тот полный месяц нянчит свои охи. Но ни за что никому не сознается, кто это его так отделал. И в душе доволен. Могло ведь быть хуже. Мог бы сдать в хитрый дом,[193] а за митлюками тюряга не заржавеет. А Митюшка, святая душа, по-отецки отхлопал и мягко сказал: «Пойдёшь жаловаться – в рейхстаг[194] загоню». И дальше делу ходу не даёт. Смазал мозги[195] и все отдыхают! Как русская баба говорит про своего муженька? «Бьёт, значит любит». Человеку дешевле потаскать синяки, чем добыть срок за расхищение соцсобственности. Вот так наш Начальничек страшно жалеет-любит своего колхозничка… этого чёрного коммунара… И смотреть на эту любовь можно разно…
Чтоб было всё ясней, я отбегу чуток в прошлое.
Не в давних годах стоял над землёй стон. В самом распале была чумная мода. Рушили хуторки. Мол, в хуторочке ни школу, ни дворец культуры, ни комплекс не посадишь, на улицы асфальт не надёрнешь… Рушили хуторки, свозили, сдвигали всех на жильё на центральные усадьбы.
А Митрофан не дал страшной беде воли.
Несколько лет назад, когда его, механика маслозавода, райком перекинул в председатели, он в первую же свою председательскую весну схватил ту моду за жаберки.
Строиться степняку особенно не из чего. Поблизости хорошего прутика выдрать парня не найдешь. Как зима, ехали мужики помогать северянам-архангельцам лес валить. Какой-то процент шёл в его «Родину». Два-три дома в год выводили.
Плюнул Митрофан на таковское заведение, толкнулся собственной персоной к архангелам и хлоп карты на стол. Вы нам лесу досхочу, а мы ваших детишек со всего леспромхоза, всех детишек школьных лет на полное лето принимаем к себе в колхоз, будем и тёплым нашим воронежским солнышком прогревать, и медком гречишным отхаживать. Три месяца рая гарантирую!
И в каждый июнь стал открываться в колхозе у пруда подпольный, тайный «Артек».
Тут комитету глубокого бурения работы никакой. И так видно – тёмненькое дельцо этот «Артек».
Зато в «Родине» не осталось ни одного хозяина, чтоб не поставил себе новую домовуху. Всяк строил где и как хотелось, строил на свой вкус, на свой цвет. В новых сосновых пятистенках вода, газ. Тротуарчики, улочки в асфальт вырядились.
То, бывало, молодежь летела в город. А зачем чужой топтать-то асфальт? Свой не лучше ль завести?
И завели…
В других деревнях плач: некому сено косить, некому картошку-свёклу копать, а у Митрофана сверх всякой меры народу. В трактористы, в доярки-операторы по конкурсу берут! Своя молодежь никуда, а тут ещё, прочитав про колхоз в «Комсомолке», потянулся городской люд. Один электрик даже из Магнитогорска прибился…
3
Глеб перешёл к печке, растопырил руки над калеными кружкáми.
– Чух-чух… С твоим появлением в нашем бомж-отеле больше не гуливать госпоже Гренландии. – Он опустился на мамину койку у печки, пододвинул мне стул, жестом сказал сесть. – Вернёмся к молодым. Молодые что? Витают в облаках, регистрируют брак и того выше. На небесах. А жить-то спускаются всё равно на грешную землю. Медовый месячишко ещё не сломался, а люди уже оглядываются да задумываются. Но только не у Начальника. У Начальника молодая семья, если есть в том нужда, получает отдельный дом, лучшую корову из колхозного стада, поросёнка, птицу. Живите, богатейте! С «Родиной» расплатитесь, когда сможете. Видал, какая забота о молодых! Достаток крепит семью. Начальник это хорошо знает и старается, никто от него никуда не уедет никогда, постесняется из-за пустяка развестись. Подать себя Начальничек мо-ожет… Борец за счастье народное!.. Расшибётся в блин, а сделает добро чужому человеку. Он на своего колхозанчика не даст ветру подуть, зато родному брату – да что брату! – родной матери…
– Ну-ну! Пой, соловушка, пой, что я там перенедодал родному братцу, родной матери?
Вот так под раз!
Оказывается, припав к косяку, Митрофан слышал наш разговор. Как он мог войти, что мы и не заметили?
– Ну что же ты, Глебарий-кулумбарий, замолчал? – спросил Митрофан.
– А чего мне молчать? – Глебуня воинственно приподнял как бы для удара одно плечо. – Чего мне бояться? Это ты бойся! Сошли долгие годы, но мы твою заботу о нас у-ух и по-омним!
– Огня много! – усмехнулся Митрофан. – Горячее начало…
– После техникума тебя сослали в Каменку на маслозавод. В то лето Тоник кончил школу. Осенью вернулся из армии я. Мы и попади под непосредственное твоё горячее начало. Ты взял нас подметайлами.
– Извини, не мог я взять вас директорами. Сам всего-то что механик, якорь тебя!
– У нас было по одиннадцатилетке. Мы могли большее, чем колоть до окоченения лёд на смертельном ветру или таскать в котельную центнерные носилки с углём! Через полгода разнарядка – послать на курсы компрессорщиков одного человека. Ты забыл, как молил тебя Тоник? А послал ты кого?
– Колюню Болдырева с четырьмя классами. Так Колюня и сейчас терпужит! А пошли я, – Митрофан качнул головой в мою сторону, – как бы я наказал производство? Он же спал и видел себя в редакции! По выходным пехотинцем да на велосипеде скакал из деревни в деревню, всё строгал свои заметулюшки. Я знал, рано или поздно увеется в газету. Так и повернулось. За юнкоровское рвение обком ему хлоп грамотку и получите направленьице в Щучье, в редакцию. А сунь я его на курсы? Отучил бы он те курсы и всё равно причалил бы к своему журналистскому бережку. А я кусай локотки? Красней перед начальством? Оставил же завод без специалиста!
– А таки умно ты вертанул, что не сослал меня тогда на курсы, – буркнул я Митрофану. – Благодарствую.
– Не за что, – кисло отмахнулся он.
– А со мной какую ты собаку утворил!? – распаляясь, почти выкрикнул Глеб. – Ты разготов окунуть меня в своё озеро![196] У тебя сколько гуляла-пустовала ставка компрессорщика? И ты меня не брал!
– Но – взял! И на курсы воткнул! Есть вопросы?
– Есть! Видали!.. Я со зла ушёл в промкомбинат. Шлакоблоки месил, плотничал и только через три года он снова позвал к себе на завод. А чего ж сразу было не взять?
– А чтоб пальцем не ширяли. Мол, своих пригревает! И ты у меня в обиде не горел. С учётом сверхурочных я частенько прилично и честно подсыпал тебе витаминчик Д.[197] Оклад в полтора уха[198] выскакивал! Как из пушечки! Живёшь в центре, а отхватываешь северные! Чем не цирк?.. Глебарий! Ты ж труженичек вроде без задвигов. Вопросы ещё будут?!
Митрофан оттолкнулся плечом от косяка и, потирая зазябшие руки, пошёл прямо к Глебу, просительно и искательно заглядывая тому в глаза.
– Мужики! Да что ж мы лаемся, как на тухлой мозгобойке?[199] Милые братове! А не совершить ли нам вливание? Не время ли окружить присутствующих теплотой градусов эдако в сорок? Сам Господь высочайше шепнул моей, и она откомандируй меня взять забытую у вас нашу сетку с вашей капустой. Сетка в сенцах спокойно лежит, без волнений. А у меня душа не на месте. У вас не осталось неразминированных углов? Опасно ж как сидеть на минах! За вас я весь начисто испереживался… Думаю, я-то пошёл… Мне-то что, я вне опасности… А как они-то там, на минах-то!?
– Ты уж так сильно не убивайся за нас, – весело пустил Глеб слова. – Вовсе не из-за нас ты весь в переживальном страдании, а из-за опохметолога.[200] Но нормальные люди на второй день опохмеляются! А ты?.. Ах, Митёк, ты и есть митёк… Испугался проспать? А ты через час после большого вливания прибежал! Досрочно, милый братико!
– Никак нет! – обрадованно гаркнул Митрофан. – Глядим всеколлективно на времечко! – ткнул на будильник. – Побежала первая минута нового дня!
– Откуда? – разом выпалили мы с Глебом. – Сейчас ровно одиннадцать!
– Скучные вы люди, господа! Никакой у вас фантазии… Представьте, что сейчас уже полночь. И никаких проблем! Уже вот и прошла целая минута дорогого нового дня. Какие вопросы? Как приближённый бацика[201] в прошлом ответственно заявляю: пропуск бодуна[202] опасен для вашего здоровья! Я не претендую, чтоб срочно явилась сама госпожа Ок Салла.[203] Я согласен вхреначить хотеньки один ограничитель какой-нибудь баядерки[204] или портвешка. Подумайте и о своей безопасности. Внимательно посмотрите, не осталось ли у вас заминированных углов? Ловите моменто! Помогу квалифицированно обезвредить если не все, так хоть одну мину…
– Ну, разве что одну, – сдался Глеб.
Митрофан в довольстве потёр руки:
– Тогда давай поживей… Русское вливание не терпит отставания!
Закрыв глаза, Митрофан с наслаждением пил маленькими глотками. И когда кончилось в стопке, он как-то панически быстро открыл глаза и испуганно дрогнул, глянув по сторонам. Не выпил ли за меня кто другой?
Глеб же, сжав стопку в кулаке, брезгливо распахнул рот, подумал, разом вытолкнул из себя воздух и точно с разбегу плеснул в рот, картинно постучал указательным пальцем по заднюшке стопки над раскрытым ртом, стряхивая последние капли, степенно прополоскал водкой рот, затем всего одним генеральским глотком проглотил и, с тщанием обсасывая зубы и мягко наглаживая живот, запоздало крякнул:
– Пошла, родимая, по кровям!.. Вообще-то я не пью, – тут он котовато мигнул мне. – А по мне хоть бы она и не слезала со стола… – Глянул на мою руку на перевёрнутой стопке, хмыкнул: – А! Не корчь непьющего. Слабó… В наш век легче поймать шпиона, чем найти непьющего. Не верю – рак меня слопай со шнурками! – что не потягиваешь! – ералашно, подначливо вывернул он.
– Разубеждать не берусь.
Давая понять, что затеваемый докучный разговор давно навяз у меня в зубах, я отвернулся от Глеба.
Прямо перед самым моим лицом очутилась полупустая бутылка. Для видимости я с собранным рвением прилип глазами к этикетке на ней.
Этикетка меня удивила, так удивила, что я, не удержавшись, сказал, что на наклейке даже не помечено, какой завод делал эту водку.
Глеб огорчился:
– Не захмелеешь… Не знаешь, на кого и жалобу писать… А чую, придётся писать. Выпили – никакого эффекта! Ни кулеш ни каша! Налью ещё до каши… Меня одним бутыльцом не с-с-с-свалишь. А тут ещё, – кивнул он на Митрофана, – этот бусыга…[205] Нежданный труженичек Помогалкин!
Удивлённо радостно Глеб посмотрел на Митрофана, коротко дёрнул головой, будто хотел кого-то легонько боднуть.
Они выпили ещё и ещё, совсем не закусывая, лишь сосредоточенно нюхая после каждого стаканчика таинственный аромат подушечек сложенных вместе пальцев.
Наконец Глеб катнул пустую бутылку под стол. Потребовал от меня:
– Р-р-ручку!.. Б-б-бумагу… Ж-ж-жалобу!.. Без-з-з-зобразие!.. С-с-совсем раз-з-збежались у них г-г-градусы!.. Не видал, тут не пр-р-робегали? А?.. Дойди тут до ваньки-в-стельку! Ну?
4
Митрофан и Глеб сидели друг против друга за пустым, мною убранным столом, с обеих сторон подперев щёки кулаками и стараясь внимательнейше рассмотреть друг друга остановившимися глазами.
– Я теперь знаю. Это ты виноват, что я один, – Глеб тяжело поднял и потянул к Митрофану руку.
Руку вело-клонило куда-то в сторону.
Стоило немалых сил удержать её, не уронить и героически донести до адресата.
– А ты к-к-кто, якорь т-т-тебя!?.. – Митрофан с предельным усилием едва оттолкнул трудно и подозрительно принципиально приближавшуюся руку. – Р-р-руки п-п-прочь от винта!
Рука упала на стол.
Не поднимая, Глеб волоком потащил её к себе.
Это была всё таки его рука, как он скоро догадался, и откровенно обрадовался своей проницательной сообразительности.
– Которая мамзелька засиделась, понятно, будет старая дева, – философствовал Митрофанио. – Ты тоже засиделся… Залежался! Кто ты т-т-теперь? Старый дев? Да?
– С-с-старый почти лев… Эх, мужики, мужики… С какой радости нас мать рожала? Три каких бабальника! А что мы дали? Отец навсегда остался моложе самого меньшего из нас уже на девять лет! И то!.. Не останови отца война на трёх, как бы размахнулся? А? Может, на весь десяток! А мы что оставляем? На троих бугаев три… всего-то три… – Он медленно загнул у себя на руке три пальца. – Всегошеньки три девчоночки! Лику, Ляльку, Людку. Это Митькин партвзнос… Тоник, может, чегой-то выколупнет там ещё… А я, извините, – обречённо пронёс перед собой сведённый хмелем в крюк палец, – прочерк… Бетонно!.. Мимо-с… Зачем живёшь, если от себя ни росточка не пустишь в жизнь? За-чем?.. Хотел бы оставить, а – нечего… Всё своё з-з-забирай с с-с-собой… И, пожалста, не вон-н-няй…



