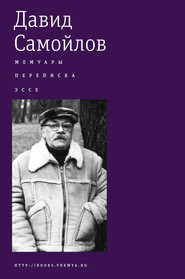
Полная версия:
Мемуары. Переписка. Эссе
Пройдет три десятилетия, и «протеизм» предстанет не только сутью поэзии, но и залогом ее величия – Протеем (тем самым античным божеством, которое у Карамзина воплощало поэтическую ложь) Гнедич назовет Пушкина, а тот откликнется посланием-манифестом «С Гомером долго ты беседовал один…»:
Ты любишь гром небес, но также внемлешь тыЖужжанью пчел над розой алой.Таков прямой поэт. Он сетует душойНа пышных играх МельпоменыИ улыбается забаве площаднойИ вольности лубочной сцены.То Рим его зовет, то гордый Илион,То скалы старца Оссиана,И с дивной легкостью меж тем летает онВослед Бовы и Еруслана.От такого «протеизма» совсем недалеко до «всемирной отзывчивости». Но не менее важно, что он накрепко связан с идеей автономии, самодостаточности поэзии, цель которой (по известному письму Пушкина Жуковскому) в ней самой.
Соединив «протеизм» (открытость любым темам, культурным традициям, духовным веяниям) и «бесцельность» (отрицающую не саму по себе возможность политических, философских или религиозных смыслов, но жесткое целеполагание, подчинение творчества внешней задаче), Пушкин (вослед и благодаря оставшемуся в тени Жуковскому) поднял русскую поэзию на немыслимую высоту – она обрела отчетливо сакральный статус. Этого не могли (не хотели) понять как всевозможные апологеты «цели», «мысли», «пользы» или «веры», так и столь же одномерно судящие адепты «искусства для искусства» или «искусства как игры». (В сущности, истовый пушкиноборец Писарев и весело гуляющий с Пушкиным Абрам Терц истолковывают свой «предмет» одинаково, хотя один выставляет поэту обличительно-угрюмый минус, а другой – дразняще-игривый плюс.) Такое – «царственное» – понимание поэзии (и соответственно – собственного статуса и назначения) после Пушкина вполне не давалось практически никому. Утрата веры в самоценность поэзии (ощутимая уже у Баратынского, Тютчева, Лермонтова) сопровождалась отходом от пушкинской универсальности (того самого «протеизма»). Целое поэтической культуры постоянно усложнялось, обогащаясь неожиданными творческими решениями больших и малых стихотворцев; индивидуальные же поэтические системы столь же непреложно оказывались «беднее» не только этого целого, но и его прообраза – всеохватной поэзии Пушкина. Молодой Корней Чуковский дерзко острил: по сравнению с Пушкиным все остальные поэты (включая гениев) кажутся «уродами», только «уродство» у каждого свое. В сущности, он выражал общее мнение: ответить на вопрос, кто же «второй русский поэт» (Лермонтов? Некрасов? Блок? Пастернак?..) можно только с оговоркой – «для меня», в то время как проблема «первого» была разрешена уже при жизни Пушкина. Перманентные пароксизмы пушкиноборчества раз за разом оборачивались либо неуклюжими попытками «перетолкования» и «присвоения» Пушкина, либо бунтом против поэзии как таковой.
Здесь не место описывать этот сложнейший процесс. Для нашего сюжета важно, что Самойлов достаточно рано – вопреки своей модернистской выучке и не боясь предстать замшелым эпигоном – сделал ставку не на характерную, узнаваемую (а потому – ограниченную и волей-неволей ведущую к монотонии) неповторимость авторского высказывания, но на «протеизм». Определить доминанту его поэтики (на уровне бытовом – опознать Самойлова по нескольким строкам) гораздо труднее, чем охарактеризовать (угадать) стих Слуцкого, Окуджавы, Глазкова (его лучших времен) или Левитанского (называю поэтов-сверстников Самойлова, им высоко ценимых). Тематическое, жанровое, метрическое, интонационное разнообразие самойловской поэзии просто бросается в глаза, а «вытягивание» какой-либо одной линии тут же деформирует образ поэта. Даже если это такие не отпускающие Самойлова темы, как война («Сороковые», «Перебирая наши даты…», «Если вычеркнуть войну…», «Та война, что когда-нибудь будет…», «Полночь под Иван-Купала…», «Часовой», «Звезда», «Поэт и гражданин», «Дезертир», поэмы «Ближние страны», «Блудный сын» и «Снегопад»), или русская история («Стихи о царе Иване», «Конец Пугачева», «Дневник», «Пестель, поэт и Анна», «Солдат и Марта», «Декабрист», «Убиение Углицкое», драма «Сухое пламя», поэмы «Струфиан» и «Сон о Ганнибале»), Москва, обычно видимая при свете детства-отрочества-юности («Выезд», «Двор моего детства», «Памяти юноши», «Пустырь», «Я теперь жилец Замоскворечья…», «Старомодное», поэмы «Снегопад», «Юлий Кломпус» и «Возвращение»), или любовь («Алёнушка», «Названья зим», «Была туманная луна…», «Мне снился сон жестокий…», «Пярнуские элегии», «Памяти Антонины», цикл «Беатриче»), или творчество («Стих небогатый, суховатый…», «Заболоцкий в Тарусе», «Шуберт Франц», «Слова», «Смерть поэта», «Соловьи Ильдефонса-Константы», «Болдинская осень», «Рождество Александра Блока», «Кончался август…», «В третьем тысячелетье…», «Ночной гость», «Стансы», «Дуэт для скрипки и альта»). Перечислив ключевые (списки, конечно, далеко не полны!) тексты пяти действительно важнейших для Самойлова «тематических комплексов», сразу же понимаешь, во-первых, сколь многое осталось за кадром (следовательно, даже к сумме «войны», «истории», «Москвы эпохи детства», «любви» и «искусства» поэзию Самойлова не сведешь), а во-вторых, сколь условна намеченная рубрикация. История в «Рождестве Александра Блока» (1967) не менее важна, чем поэзия. «Полночь под Иван-Купала…» (1973) да и еще множество стихов говорят в равной мере о любви и войне. Поэзия, любовь и история сведены в «Пестеле, поэте и Анне» (1965). «Поэт и гражданин» (1970 или 1971) свидетельствует не только о трагедии войны (войне как трагедии), но и о том, что поэт остается хранителем истины и сыном гармонии в проклятом мире и проклятом веке. «Плотность» поэтического мира Самойлова (постоянные мотивные переклички, оговорки, слегка сдвигающие «знакомые» смыслы, варьирование сказанного прежде, зримые для читателя споры с самим собой) не противоречит его разнообразию, но прямо им обусловлена.
Отсюда приверженность Самойлова к «эпическим» жанрам, его верность поэме (основательно во второй половине ХХ века дискредитированной), балладе, стиховой новелле (балладе, строящейся на современном «бытовом» материале, – таковы, к примеру, «Грачи прилетели…» или «Маша», 1986). В «чужие» сюжеты он вкладывает мощный лирический заряд, претворяя старинные «костюмированные» истории или заурядные бытовые «случаи» в лирические исповеди, символичность и таинственная недоговоренность которых лишь усиливает читательское сопереживание. Особенно ясно ощущается это в откровенно стилизованных – не скрывающих своей «игровой» природы – «Балканских песнях» и балладах середины 1980-х («Королевская шутка», «Песня ясеневого листка» и др.). «Проклятые» сюжеты, за пристрастие к которым Самойлова, по его позднему признанию, корила Ахматова, отнюдь не мешали ему быть поэтом. Напротив, сюжетность, стилизация, высокая игра страховали от дешевого самоупоенного эгоцентризма, банализации «вечных тем», сужения повествовательного (а потому – и смыслового) пространства. Поэмы Самойлова – от «Шагов Командорова» (1947) и «Чайной» (1956) до «Возвращения» (1988) – неуклонно напоминали о том, что мир велик, разнороден и полон таинственных неожиданностей, а «большая история» соткана из множества историй частных, по-разному рифмующихся меж собой и с полускрытой историей самого поэта.
К прямому лирическому высказыванию Самойлов довольно долго относился с гипертрофированной ответственностью. Объем его «потаенной» – избежавшей печати и распространения в самиздате – лирики весьма велик, причем касается это отнюдь не только взрывоопасных стихов на общественно-политические темы. Интимные, резко откровенные, как правило, исполненные глубокой печали, а то и отчаянного надрыва вещи на долгие годы остаются в столе – и к понятным цензурным мерзостям (которые, разумеется, со счета тоже никак не сбросишь!) этот сюжет не сводится. Так опубликованное в журнале стихотворение «Зрелость» (1957), где поэт ясно выразил свое раздражение теми, кто был неспособен его расслышать вовремя, но бодро платит бессмысленной «позднею ценой», не попало ни в «Ближние страны», ни во «Второй перевал» – только в «Дни». Так загадочный «Поэт» («Средь бесконечных русских споров…»), герой которого намекающе ассоциативно соотнесен с автором, дерзнувшим сказать о своем назначении (и величии), сперва прождал пять лет (с 1974-го по 1979 год) журнальной публикации, а потом не включался в новые книги, хотя сторонних придирок вызвать явно не мог. Не только пакости советского литературного быта имел в виду Самойлов, признаваясь «Не хочется идти в журнал…» (1964), но и, если угодно, природную «сокровенность» весьма многих (в пределе – всех) стихов, с которыми так жаль расставаться. (На сей счет печалился уже первый русский стихотворец – князь Антиох Кантемир.) Чем искреннее и откровеннее речь, тем она беззащитнее (потому и сравниваются стихи с прядкой детских кудрей), но рано или поздно воля «глагола» одолеет человеческий инстинкт самосохранения художника, тайное станет явным. И об этом Самойлов тоже прекрасно знал.
В середине 1960-х, уже чувствуя себя «артистом в силе», но не соблазнившись этим выигрышным амплуа, он выстроил своеобразную творческую систему, разделенную на потаенно дневниковую поэзию «для себя» (не для узкого круга!) и совершенную (порой с кажущимся легким холодком) «поэзию для публики», лучшая часть которой постепенно (чем дальше, тем больше) признавала Самойлова выразителем своих чаяний. Но поэт вовсе не хотел оставаться в этой – по-своему комфортабельной – позиции. Медленно, от книги к книге, рефлектируя и рискуя, экспериментируя и не избегая самоповторов, кое-что по-прежнему оставляя за кадром, но готовя читателя к неожиданным открытиям (каковые и случились после ухода Самойлова), он сводил два разностройных массива в смысловое единство. Все больше доверяясь читателю (не только завоеванному, но и должным образом воспитанному, на верный лад настроенному), открывая свою тайную трагическую ипостась, Самойлов не позволил ей отменить или затенить ипостась иную, давно знакомую – полную любви к жизни (тут-то и срабатывал его «протеизм»), веры в большую поэтическую (и историческую) традицию, надежды на грядущее.
Во второй половине 1980-х, когда русская история словно бы вдруг (а на самом деле – вполне закономерно) вырвалась из муторной и лживой, одновременно удушающей и обольстительно комфортабельной дремоты (уходящий исторический период был изящно наречен «застоем»), Самойлов испытывал острое чувство тревоги. (Подтверждения тому можно найти и в дневниковых записях поэта, и в его публичных выступлениях, и в сокровенных стихах – см., например, «Трудна России демократия…», «И страшны деревенские проселки…», «Не имею желания…», «Три стихотворения».) И все же в октябре 1989 года он написал:
Фрегат летит на риф.Но мы таим надежду,Что будет он счастливИ что проскочит междуХарибдою и Сциллой,Хранимый Высшей Силой.Надежда не умирала вопреки всей железной аргументации, предъявленной историей – многовековой и новейшей, общероссийской и личной. У Самойлова совсем немало горьких и страшных стихов, где жесткие счеты предъявляются и бесчеловечному времени, и своему поколению, и самому себе. Но как стихи о любви потерянной, преданной либо обманувшей, жгущей ревности, безлюбье в конечном счете становятся гимнами могучему, просветляющему и существующему наперекор внешним воздействиям чувству, так и самойловское поэтическое переживание истории – при ясном осознании ее трагизма – последовательно противостоит циничному приятию якобы всемогущего зла или надрыву темного отчаяния.
Я слышал то, что слышать мог:Баянов русских мощный слог,И барабанный бой эпох,И музы мужественный вдох.Слышать по-прежнему в «мертвом» 1981 году такую музыку и хранить ей верность дано только поэту. Благодаря которому «долго будет слышен гром / И гул, в котором мы живем».
Если эти гул и гром затихают, если жизнь больше не воплощается в слове, а людям становятся не нужны «туманные стихи», приходит катастрофа. Об этом еще одно позднее (1989), словно бы шуточное, стихотворение Самойлова, где небрежение поэзией сравнивается с исчезновением луны.
И если месяц не засветит,Никто не хватится сперва.А ту пропажу лишь заметитОдна шальная голова.В «Ночи перед Рождеством» странную недостачу в небесах примечает казак Чуб (его у Самойлова метонимически заменяет другой персонаж гоголевской повести – Голова). Больше «в Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц». В поэзии Самойлова присутствие месяца – знак устойчивости и правильности мироздания. В «Блудном сыне» (1973) тема отсутствия света задается строкой «Не найти дороги без луны»; тьма и подводит старика к преступлению – убийству неузнанного сына, от которого спасает рассвет. В «Поэте и гражданине» несколько раз помянутый месяц – наряду с неназванным прямо Богом («Как Моисеев куст горел костел») и самим поэтом – свидетель преступления свершившегося, хранитель высшей – неизбежно открывающейся – страшной правды. «…Когда под утро умер Цыганов, / Был месяц в небе свеж, бесцветен, нов» – мир остается равным себе, то есть прекрасным после ухода праведника («Смерть Цыганова», 1976). Равно как после зловеще-дурацкой смерти худшего из грешников, шарлатана и самозванца, прожившего подменную жизнь («Похититель славы», 1988):
Месяц плыл неспешно поНебесам в туманном лоне.«Як Цедрак Цимицидрони.Ципи Дрипи Лямпопо…»Для Самойлова мир без луны (отождествляемой с поэзией и высшей правдой) – это мир тленный, фальшивый, мертвый. Скрыто, но внятно противопоставленный миру живому и необъятному, тому – подлунному – миру, где царствует Пушкин, доколь «жив будет хоть один пиит».
Суть поэзии в том, что подобно жизни она необъятна, неопределима и несводима к той или иной доктрине или тенденции. Гражданин (выхваченный причудой случая из Толпы), ощущая чуждость Поэта («Вот то-то вижу, будто не из наших»), готов дать ему тему («А ты ее возьми на карандашик») и ждет от него то ли поучения, то ли развлечения («А ты бы рассказал про что-нибудь» – вариация темы «А мы послушаем тебя»). В ответ он слышит сокровенную правду, превышающую личные волю и опыт его странного собеседника («Ты это видел? / Это был не я»). В стихотворении, озаглавленном именами персонажей-собеседников (1979), Ученик убежден, что «наука» Учителя «сильно устарела», и, алча определенности и самостоятельности, не слышит сострадательных предупреждений:
Природа мысли такова, мой друг,Что доведи любую до конца –И вдруг паленым волосом запахнет…Похожий на Алеко «ночной гость» в кульминационной точке одноименного стихотворения (1972) оспаривает глубокие, выстраданные и, что всего существеннее, вроде бы «пушкинские» (то есть им же «заповеданные») суждения хозяина о человеческом достоинстве, невозможности спорить со временем и возврате к истокам, ставит под сомнение те ценности, что были особенно дороги Самойлову (и не ему одному):
Не напрасно ли мы возносимСилу песен, мудрость ремеселСтарых празднеств брагу и сыть?Я не ведаю, как нам быть.Как и его ночной гость (все же не до конца равный Пушкину, ибо подлинный Пушкин так же неопределим и неуловим, как сама поэзия), Самойлов «не ведает, как нам быть» – то есть осознает ограниченность и опасность «универсальных» ответов, которые в иных случаях могут быть действительно спасительными, а в других – губительными. Истинная свобода больше того, что каждый из нас может вложить в это слово. Даже поэт, произносящий в ночном уединении заветное: «Наконец я познал свободу».
Дело не только в том, что история (и не одного лишь ХХ века) свирепа, а человеку всегда трудно дается его звание, которое Жуковский назвал «святейшим». Дело в том, что всякое бытие – греховодника и праведника, баловня судьбы и мученика, домоседа и скитальца, подвижника и бездельника, героя и проходимца, пахаря и властителя, учителя и ученика, гражданина и поэта – конечно. Жизнь может быть праздничной и страшной, счастливой и безотрадной, короткой и долгой, но рано или поздно наступает смерть. Некогда вкусивший всех земных благ, достигший небывалой высоты, а затем с нее низвергнутый Меншиков (драматическая поэма «Сухое пламя», 1963) пытается вытеснить страх смерти предположением о будущей людской неблагодарности, возможном забвении его великих государственных заслуг. Одряхлевший, давно растративший себя, никому не нужный Дон Жуан куражится над злорадным посланцем небытия – Черепом Командора, словно бы развивая свои сетования на «гадкую» старость, но невольно вырвавшийся вопрос («Но скажи мне, Череп, что там – / За углом, за поворотом, / Там – за гранью?») отменяет браваду, в которую Дон Жуан сам почти верил. Но и самый любимый герой Самойлова – могучий, счастливый и свободный от грехов и страстей Цыганов, жизнь которого была воистину прекрасной, почувствовав приближение конца, повторяет и повторяет мучительное слово «Зачем?». Он вспоминает всю свою жизнь, но ни верность семейному обычаю, ни любовь к единственной женщине, ни хозяйственная основательность, ни победа на войне, ни продолжение рода сыном не могут отменить рокового недоумения – «Зачем, когда так скоро песня спета?». Призрак ответа приходит вместе с самой смертью:
«Неужто только ради красотыЖивет за поколеньем поколенье –И лишь она не поддается тленью?И лишь она бессмысленно играетВ беспечных проявленьях естества?..»И вот, такие обретя слова,Вдруг понял Цыганов, что умирает…Красота, бессмысленная (с практической или рациональной точки зрения) игра, неподвластность тлению (заметим вновь отсылку к Пушкину)… – это и есть бесконечная и свободная жизнь, на тайну которой может намекнуть строящаяся по тем же «беззаконным законам» поэзия.
Разумеется, такое мироощущение можно подвергнуть сомнению и/или порицанию. Что и делалось неоднократно, в том числе – незаурядными поэтами. Что ж – они в своем праве. А Самойлов – в своем. Хорошо зная возможные контраргументы, не превращая внутреннее чувство в догмат, он верил в нерасторжимое единство жизни и поэзии. Так писал – так жил. Утверждая и строем стиха, и складом судьбы, что время поэзии не миновало, что она по-прежнему таинственна и целительна, что во второй половине ХХ века (да и в третьем тысячелетии, которого Самойлову увидеть не довелось, но о котором он много думал) можно быть не только «традиционалистом» или «экспериментатором», проводником «идей» или изобретателем «приемов», но и поэтом. Просто поэтом. И что это – счастье.
Глубокая внутренняя сосредоточенность истинного поэта в иных случаях не мешает его открытости миру, но прямо ее подразумевает. Так было с Самойловым. На протяжении всей жизни он остро нуждался в общении с читателями – личном (очном) и эпистолярном. (Из чего, разумеется, не следует, что временами поэт не испытывал не менее острого желания остаться наедине с собой.) Читатели – от тех, что общались с поэтом на протяжении многих лет, до тех, кто так и не решился познакомиться с Самойловым и/или оповестить его о своей любви к его слову, так или иначе улавливали эту особенность самойловского мироощущения, отчетливо отразившегося в самом строе его поэтического мира. Последовательно выдерживавшаяся Самойловым установка на диалог закономерно принесла обильные плоды; при жизни поэта – это письма (разумеется, наряду с откликами в печати; собранные вместе, они составили бы очень интересную книгу!), после его ухода – воспоминания.
Этот несомненно большой и не в полной мере ныне известный «диалогический» корпус постепенно становится достоянием заинтересованной аудитории. Не исчисляя здесь всех публикаций эпистолярия, напомним о важнейших. Это переписка поэта с Л. К. Чуковской (М., Новое литературное обозрение, 2004;) и Ю. И. Абызовым (Таллин, 2009), подборка «Письма литераторов Д. Самойлову» («Знамя», 2010, № 6; републикуется в предлежащем издании). Назовем и некоторые обнародованные ранее мемуары: Марк Харитонов «История одной влюбленности» (Марк Харитонов «Способ существования» – М., «Новое литературное обозрение», 1998); Лидия Либединская «Все это будет без меня» («Самойловские чтения в Таллине: материалы международного научно-практического семинара 29–30 мая 2000 года» – Таллин, 2001; цитируются фрагменты писем Самойлова); Борис Грибанов «И память-снег летит и пасть не может» («Знамя», 2006, № 9).
Андрей Немзер, автор работ о поэзии Давида Самойлова, ординарный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»Мемуары. Письма. Эссе
«Жизненная позиция в наше время – вещь сложная»: Переписка Д. Самойлова с А. Черняевым
№ 1. Д. Самойлов – А. Черняеву. 07.07.1978
[3],[4]
07. VII.78
Дорогой Толя!
Всегда что-нибудь помешает – либо я отключусь слишком рано, либо кто-нибудь встрянет. Последний раз произошло и то, и другое.
‹…›
Думаю, если в следующий мой приезд (в начале сентября) ты будешь в столице, нам бы с тобой хорошо смыться на дачу и посидеть вдвоем. Мне этого давно хочется по многим причинам.
Во-первых, многое хочется у тебя спросить. Жизненная позиция в наше время – вещь сложная. И нуждается во многих коррективах, потому что многие аспекты жизни мы отвергаем или принимаем по привычке, по традиции, мало зная и понимая. Думаю, что глубинное содержание главных явлений мы с тобой понимаем сходно. Так мне кажется по урывкам, по отрывкам наших общений. Но сказать наверное я не могу.
Перед большей частью людей, которых я знаю и с которыми общаюсь, дилемма стоит как будто так: действовать или бездействовать, т. е. вписываться в действительность (вписываются очень по-разному, с любой стороны, но в сущности это одно и то же) или уходить. Причем решение принимается без знания к чему прилагаться и от чего уходить. Мы мало знаем структуру времени.
А дилемма совсем другая: знать или не хотеть знать.
Я по устройству своего характера предпочитаю знание действию.
Как когда-то Блок сказал, что слово это дело поэта, можно сказать сейчас: дело поэта – знать.
Так вот. Если у тебя тоже есть потребность поговорить, мы это осуществим. Вообще-то круг людей, с которыми хочется поговорить, у меня все уменьшается. В большинстве случаев я все знаю наперед. И человек, вроде Вадика[5], для меня – сборник цитат из давно читанного. ‹…›
Но, как всегда, будем надеяться на лучшее.
Напиши, если будет время и охота.
Привет всем твоим.
Твой Д.
№ 2. А. Черняев – Д. Самойлову. 11.07.1978
11 июля 78. Вторник
Дорогой Дезик!
Я все порывался в последние дни тебе написать, но не было адреса. Фигель[6] по телефону не отвечает. Левка уехал опять в ФРГ… писать о Малой земле с другой (с той) стороны[7].
‹…›
На днях, перед отъездом, он потащил меня к Лильке[8]. Я сопротивлялся, боясь обычных пошлостей, когда меня начинают допрашивать, почему это так, а это не так и т. п. Но, во-первых, пришлось-таки пойти (сама Лилька включилась), а во-вторых, ничего «этого» не произошло, была встречная разведка с отчасти лагерным вокабулярием, который меня всегда умиляет в устах рафинированных интеллигентов. А Левка сидел и помалкивал, видимо, очень довольный, что он нас свел. Ну, хватит об Л. Ушел я довольный собой и всеми.
‹…›
Теперь вкратце о жизни. Меня, Дезька, в самом деле очень волновала твоя лаконичная раскладка на этот счет. Скажу тебе, что, несмотря на всю «врожденную» (с отрочества, от школы) близость нашу, придыхание-то у меня к тебе тоже есть. Я горжусь, что я не просто рядовой почитатель, а еще и… Тем не менее я не осмелился позавидовать, как в нескольких фразах была сказана суть. Для меня, ты понимаешь, проблема в том, прилагаться или нет.
Проблема – приложившись раз и навсегда, как делать «хорошо» (в толстовском смысле) на предназначенном шестке. Помогает мне то, что, как мне кажется, я достаточно «знаю» (в твоем смысле), чтобы перед кем-либо оправдываться. Словом, я думаю, у нас состоится сентябрьская дача. Я вроде бы никуда не собираюсь в это время. А отпуск у меня в августе.
Обнимаю тебя. И привет Гале. Т.
№ 3. Д. Самойлов – А. Черняеву. 16.08.1978
16.08.78
Дорогой Толя!
Рад был твоему письму. Я понимаю всю особенность твоего общения. Общение субординационное неполноценно. А в «дружеском», особенно со старыми товарищами, неизбежен момент «прощупывания» и «испытания».
В случаях же социальной неполноценности, как у Вадима, это и задирание, и желание «врезать», потому что это единственный способ «врезать». На другие у него нет ни характера, ни идей, ни храбрости.
Оба варианта – и субординационный и «дружеский» – раздражительны, потому что в основе своей исходят не из тебя-личности, а из тебя-функции.
В меньшей степени порой такое раздражение чувствую и я, когда со мной общаются, как «с поэтом», т. е. с уверенностью, что знают, как именно должен вести себя поэт и что должен думать по тому или иному поводу.
Дружба, по-моему, именно и означает исключение функционального момента. И восприятие личности и судьбы в какой-то особенной связи с твоей личностью и судьбой. Часто объяснить это трудно, я всегда это чувствую. Это и называется дружеским чувством, которое, как и все чувства, избирательно, нечасто и содержит какой-то акцент ответственности – тоже, может быть, не совсем сознательно.



