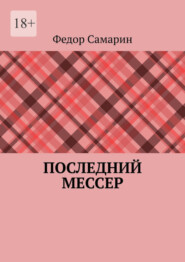скачать книгу бесплатно
Последний мессер
Федор Самарин
Случайное путешествие оборачивается приключением в тот самый момент, когда герою повести этого совсем не хочется. Сам того не желая, он проживает полную треволнений и напастей жизнь подмастерья оружейника, связанного с таинственным орденом монтегасков и династией грозных герцогов Монтефельтро…
Последний мессер
Федор Самарин
© Федор Самарин, 2022
ISBN 978-5-0056-9475-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПОСЛЕДНИЙ МЕССЕР. Повесть.
Рафаэль вернулся домой в сильнейшем жару, и решили, что он простудился, а так как он в распутстве своем не признавался, ему по неосторожности отворили кровь, что его ослабило до полной потери сил, в то время как он как раз нуждался в их подкреплении…
Джорджо Вазари, «Жизнеописания…».
– … что такое «sia». Ошибки. На каждом… как это…
– Шагу. На каждом шагу. Но это не ошибка, просто маленькое словечко, которое надо воткнуть, куда надо… А кто не ошибается? У соседа вон машина вчера сама собой завелась, поехала и сбила монахиню! Молоденькую такую… Подумаешь, язык. Профессоры – и то ошибаются. Даже нотариусы. Меня вот хотели назвать Филиппе, а по ошибке записали Сципионе. Ошибайтесь, ради Бога, это и церковь советует.
Не официант, а Синдбад-мореход из «Золотого путешествия». Пират с руками альтиста. Звонкий, как лезвие. Черная рубаха с закатанными по локти рукавами. На белом долгополом переднике пятна от соуса. И в черных, в обтяжку, кажется, даже шелковых штанишках.
Он бы мог сказать, к примеру: «Родители мои, впрочем, благочестивые и ревностные католики, хотели назвать меня во имя святого благоверного Филиппо Нери, но, будучи неграмотны…»… И был при этом похож – а ведь похож – на Ромео из фильма Дзеффирелли. Напрасно.
– Пиццу, конечно, порезать? Слушай, а зачем ты его выучил?
– Язык? Не знаю. Так… Чтобы читать.
– Чего читать?
– Ну, к примеру, Умберто Эко.
– Чего?
– Умберто Эко.
– Cazzo! И все?..
А чего с меня взять. Я человек случайный. Бестолковый и трепетный.
Здесь все трепетные. Коллективный тремор. Афферентные сигналы.
Хруст глазодвигательных мышц.
К тому же, я из такого города, где очень много менестрелей, бардов и поэтесс, белобрысых и страстных.
Мимо – европейский народ, вальяжный, с голыми коленками, два дерева лимонных, жирные тени на мостовой, в канале плещутся окурки и всякая парусная мелочь, в игрушечном парке изящный Иоанн Павел Второй парит в мраморной кипени, велосипеды, прикованные к чугунной ограде возле крохотного вокзальчика, подобно одрам перед таверной…
Что, если бы не на деревянной доске внесли, а на серебряном блюде, вроде как не пиццу, а святые дары. А блюдо пусть будет белого серебра, с четырьмя майоликовыми оконцами, а в оконцах… например, четыре евангелиста, а еще одно блюдо, точно такое же, было заказано, допустим, королем Августом Сильным, да пропало где-то в Саксонии…
В общем, вопрос в том, что к еде надобно иметь абсолютный слух, и его надо упражнять, играя гаммы и разучивая этюды.
Снедать, вкушать и трапезничать – это вам не «кушать». Этому полагается набивать руку. Как в художественной школе: правильно держать карандаш, уголь, кисть.
Еда – это как акварельные краски. Именно поэтому в еде больше всего преуспели японцы и итальянцы.
Взгляните на политически мотивированную пиццу – и сравните ее, допустим, с небольшим произведением Тойо Ода. 15-й век. В манере разлетающейся туши: «Пейзаж в стиле хабоку».
И берите шницель с картошкой.
Немотивированная пицца, это когда на диске охровом заморских ягод алый сок, а сверху ископаемые.
В раковинах гребешков, наутилусов и мидий – скрюченные, убиенные невинно, может быть, во сне даже, или когда любовью занимались, лобзая ложноножкою округлости тегментума, заживо печеные жители, а вокруг них – скабрезные креветки и крупно натертый пармезан, который варят из молока сизых, манящих буйволиц.
Есть ложноножку, то есть, употреблять, жуя – как-то сомнительно; смаковать – перебор, потому что гады, но вот отведать – в самый раз.
Именно отведать, – вот, приблизительно, как итальянец красную свеклу. Он ее признает за съедобное, но в душе презирает. И никогда не поймет рассольник. На взгляд итальянца человек, поедающий вареные соленые огурцы, нездоров и наводит на известные размышления. И есть тут какая-то связь с тем, – а может, и нет, хотя это предстоит еще обдумать… – что именно северяне из Ломбардии называют сицилийцев «макаронниками».
Не надо преувеличений.
Итальянская еда утомляет разнообразностью, именно потому что монотонно разнообразна. Не утомляют, однако, окорока, ветчины и колбасы, которые, однако, уступают польским и чешским, а из всех паст исключение сделаю только для лазаньи (белой!). В сырах я не силен: меня кормили в столовой школы с продленным днем.
Если бы я с детства ел пасту с оливковым маслом и пармезаном, я бы не спешил посмотреть, как ее едят и в чем тут загвоздка.
Если бы я с детства макал белый хлеб в оливковое масло, то на борщ с чесночком, перчиком и чтоб багряный был, полыхал бы как кленовый лес в октябре, смотрел бы я с ужасом и любопытством. Как дитя Памира на «Лебединое озеро».
Еда – вот первая граница между людьми.
Терпи.
На то ты и гунн, если верить классику.
Видишь, как изумленно смотрит на тебя вон та остренькая, в теле, чернявенькая, в соломенной шляпе с бантом? Что там еще помимо изумления теснится в голове ее? О чем мечтает греховно и со страхом?
Головку вытянула, подобралась, вот-вот на цыпочки встанет: так нежные римлянки взирали на голодных диких кельтов из-за Альп.
Да, я ем. Дико. Напоказ. Руками. Прямо на виа Чеккарини. Оттуда на троллейбусе минут пятнадцать до родины Муссолини, Федерико Феллини и Тонино Гуэрра.
Она меня ощупывает взглядом, мне неловко, но почти приятно, а где-то щиплет корм подножный стреноженная мысль твоя о том, что скоро пора седлать коней. В родные степи, потому что там уж и травы в соку, и дымы над кочевьями сладки, и из черепа соседа давно б уместно было сделать кубок, да оковать его червленым серебром.
…Лючиано, портье в отеле, седовласый тощий очкарик в белой распашонке, на вид – либо гроссмейстер, либо состарившийся худородный кавальере, блиставший некогда на площадях и в двух, пожалуй, кампаниях изрядно отличенный (один шрам поперек щеки, от носа до подбородка, второй – над бровью), но без галстука, потому что прыщ на кадыке, на вопрос: «а где тут у вас исторический центр?», ответил печально, но прямо:
– Исторический центр в Риччионе – это три старых дома. Один – очень старый, а два мой дедушка построил. И, чтоб ты знал, сюда люди приезжают, в основном, покушать. И вот они едят, едят, едят и покупают всякую ерунду, а не восхищаются.
– А где восхититься?
– Урбино. И еще Веруккио. Сан Леоне. А будешь в Равенне – там похоронен твой тезка. Теодорих. Король остготов. Мы все тут несколько остготы, понимаешь…
…Ромео из таверны с легким сердцем обсчитал меня на четыре евро.
***
Остготы, похоже, давно и тайно оккупировали Риччионе.
На ступенях отеля – сладкое название: «Джульетта» – жена вождя. Маленькая. Очень стройная. Чуть суховата, без сомненья, но стать и бюст – не такова ль валькирия? Лет, пожалуй, за шестьдесят. Маленький нос, полные губы, глаза синие, липкие. И под квадратными, как у прилежной школьницы, очками. Очки носит сознательно: чтоб в заблуждение ввести. Скрупулезные глаза. Одета в черно-белое, длинное, стильное, иногда – с легкими вольностями: что-то там, эдак вот, скандибобером вокруг бедер… Джульетта, вышедшая замуж за, скажем, герцога. Гонзаго.
Нет, не так. Начинала активным членом, допустим, ячейки местных анархистов, иль Бунюэля исповедывала рьяно, а ныне воцерковленная дама (по-настоящему, а не для того, чтоб снискать в девятом круге облегченья), но благоухает дорого, и квартиру сдает семье из двух человек без ребенка. Выделим: вся в отцовских идеалах. Дома (маленькая вилла в горном селении) держит немецкую овчарку…
И вообще вся – начало тридцатых, пальмы, олеандры, новое поколение, стадионы в духе наследия великих предков, черные автомобили с откидным верхом и дуче делает заплыв прямо здесь, в порту…
А вождь! А герцог! Отставной капрал. Меч поменявши на орало, возможно, пробовал себя на поприще попа. Не преуспел. И не потому, что в непорочное зачатие не верил (а не верил), иль с катехизисом имел прямые расхожденья, а нравилось носить мундиры и кардиганы. В кардигане и пиво пьется иначе, и молодое вино, когда в мундире, навевает об арке Траяна…
Мал, коренаст, жилист. Взгляд и мимика добермана.
Сколько душ на совести твоей? Кого загрыз, исчадье? А был ли в облике ты пуделя, который мастью черен? Кому сапог испанский ты на икры вздел, и в рот кому залил расплавленный свинец?
Челядь: Лючия, Лючиано, и прочее (средь них невольница-славянка и из Албании прислуга пожилая, лет около, наверно, сорока).
Лючия собрана из плоскостей, как воздушный змей, однако огромно-черные, антилопьи, очи и прямой безупречный нос – это надо показывать туристам.
Приходит ровно в пять, и до обеда протирает, возится со швабрами и всяческими средствами, соблюдая чистоту, выдерживая запах сирени, еще раз чистоту и, наконец, чистоту окончательную и бесповоротную. Родом же с Сицилии она.
– Кино про нас не кончится никогда! Такова натура человека… Я вон тоже раньше думала, что русские это не нация, а просто другое название коммунистов, ну и что? Мы – народ респектабельный. Око за око – конечно, но не перекреститься, когда мимо проносят покойника, это нет!.. Мы настоящие итальянцы. А Лючиано выродок, хоть и знает, кто такой этот дохлый Теодорих! А когда меня лапает, то называет Клаудиа…
Может быть, приехала на это побережье еще девчонкой, в надежде мужа обрести, но принята была уборщицей при термах, иль в храме Божием, а после родила от моряка, теперь же из всех сил живет единственно для сына. А может, обучалась ремеслу художника она в Урбино: чему ж еще? вон, какой рисунок шваброй: квадраты, линии, круги…
Да нынче живописцам ходу нет: как нет пути поэтам и актерам. Устроилась сначала в гостиницу для студентов, потом в тратторию, а родила лет в пятнадцать от неизвестно кого: мало ли их, кобелей, на белом свете, а аборты в Италии – преступление.
А возможно, и нет у нее никого, кроме мамы, больной на голову (целыми сутками поет, поет, поет, щиплется, громко и зло пукает, и при том писается, глядя прямо в глаза). А маме нужны теплые минеральные ванны и лекарства, и за квартиру платить нужно в три раза больше, чем три года назад.
Теперь часов с пяти утра она покои постоялого двора исправно прибирает, и комнаты, с такой же, как она сицилианкой, по трем перемещаясь этажам. И из бассейна черпает сухие листья молодых акаций и оливы древней кленовые ладони, столь древней, что тень ее после полудня собою накрывает весь Риччионе. А вечером кормит маму кукурузной кашкой с сыром, а ровно в десять вечера выходит пройтись по виа Чеккарини, надев испанский сарафан, короткий, легкий, возжигающий желанье. До маленького собора новой постройки, еще без живописи внутри, присаживается в скверике, опушенном фиолетовым букетом бугенвиллий, выкуривает сигарету: мимо нее прошествовал, в жару и пламени пышных труб оркестр в соломенных гондольерских шляпках: ведь нынче праздник цеха садоводов…
Спать ложиться, раздевшись донага и помолившись безнадежно, и спит чутко, как ласка, и сны ее не посещают тому уж лет пятнадцать. Мужчины у нее не было так давно, что все мужчины сделались однообразной плотоядной массой, которая источает запах желез.
И всякий раз молит Пресвятую Деву ей сон послать, в котором средь холмов любезной Марке, сквозь млечный сок рассвета, мерцают башни…
1.
Самое значительное всегда обрушивается позже. Всей своей массой. Огромная туша, слепленная из дат, имен, веков, непроизносимых названий рек и горных хребтов, бесформенная и неживая.
Гастурбал, Урвинум Метаурензий… Времена, когда Венера не была богиней любви, а только плодовых садов и огородов, ей молились, чтобы капуста взошла. И был еще другой Урвинум, но Гортензий: там жили какие-то умбры, племя воителей, впрочем, малочисленных, но в ремеслах искусных.
И пошло-поехало.
Книги гремели железом и сочились кровью. Легионы и когорты римлян резали карфагенян. А потом над рекой Метауро поставили заставу. Урвинум.
Затем из-за Альп хлынули готы, потому что их – вот именно – гнали злобные гунны.
И вот те готы, что пришли к Урвинуму, были такими готами, чье королевство Германарих не удержал там, где теперь, приблизительно, Новочеркасск.
А за готами приперлись черные болгары, а были еще серебряные, которые ушли от аваров на север, и много позже иное имя взяли, став татары…
Альцеко было имя царя черных болгар, и был Альцеко младшим сыном великого хана, вещего Кубрата. Этот Кубрат крестился, только по обычаю арианскому, как верили в Спасителя и готы восточные. А вера Христа не видит изначально в Его божественной природе, а лишь вместилищем единого Творца, когда свершилось таинство Преображенья…
У Альцеко был брат, принц Кувер, и вот он-то повел надел свой от Танаиса в Паннонию, а за ним следом и вся эта публика: авары, гунны, мадьяры…
Резня, бардак и пепелища….
Тогда этот Кувер свой удел направил из Паннонии левее, поселившись на землях тех, где проживали южные славяне, и там болгары тоже расплодились, дав потомство от славян, назвавшееся позже именем древнейших македонцев. Греки с этим не согласны.
Альцеко ж поступил иначе. Пройдя сквозь Русь, немножечко пожил в Карпатах, а после в Чехии остановился, но и там его терзали авары и гунны, и пришлось через Моравию, а после через земли племен германских, добраться до владений Дагобера, франков короля. И то случилось от Рождества Христова в 630-м годе…
И поселились на баварских землях болгары принца славного Альцеко, обязавшись нести дозоры на конях и в бой вступать своей всей мощью при первом слове Дагобера, кто б ни случился у ворот баварских.
Однако гунны и авары подобно лаве из жерл вулканов хлынули на земли франков, и, чтоб спасти народ свой, Альцеко из Баварии на юг направил движенье коней своих. И так прошел сквозь Альпы, и сократился народ болгарский на этом переходе, остались только воины, из самых выносливых и сильных, да женщин невеликое число, да несколько детей…
И вот пред ними море, кипарисы, солнце и город, называемый Равенна, где упокоен был в час, ему отведенный, а это ныне всякому известно, Данте Алигьери. Там поселился Альцеко, и готы приняли его, как брата.
И навсегда болгары там осели, обретя покой, достаток и довольство, и до восьмого века говорили они на языке своем, и письменностью римской пренебрегали, употребляя меж собою свою – она составлена из тюркских рун, которые ни на славянские руны, ни на скандинавские не похожи. А позже смешались с готами они, и веры истинной прияли свет от подножия Святейшего престола, и стали итальянцы…
И многими победами и делами многими прославились на новой родине болгары, чем снискали уважение и почет средь всех насельников той области, которая зовется в тех краях Эмилия-Романья, и той еще, чье имя Марке. Так повелось с тех пор еще, как на Равенну двинулись войной войска Юстиниана, и с готами сражались супротив еретиков бок о бок славные рыцари болгар, потомки венценосного Альцеко.
Зачем я все это теперь знаю, мне не понятно.
Мне нехорошо от аваров, Альцеко и Дагобера. Впрочем, ничего плохого не могу сказать про Юстиниана.
Мне теперь с этим жить. Потому что все эти дела случились до того, как полчища троглодитов, войны, наводнения, пожары, гендерное и трансгендерное равенство, цифровизация, извержения далеких вулканов и эпидемия вновь не погрузили континент в пучину темных веков…
Откуда мне было знать?..
…Тем более, не знал я этого и на вокзале, который и вокзалом-то назвать язык не поворачивался…
Была мысль сесть просто в троллейбус. До Римини минут двадцать, посмотрел бы во что, собственно, был обернут «Амаркорд».
Сам Микеланджело в Римини имел под старость канцелярскую должность, утратив доходы с переправы в Парме. Канцеляристом был ваятель, видимо, изрядным, хотя и сонеты сочинял недурно. Меж тем, заметим, сам-то не из выдвиженцев, не голь перекатная: граф Каносса, на секундочку. И на свет Божий уродился не абы где, а недалече от тех мест, где стигматы принял святой Франциск. Но должность при папе – какую, не помню – подсидел у графа какой-то папский кравчий.
Ругался ли, прознав о том, Пьету из Палестрины нам оставивший, и купол над святым Петром вознесший, отборным матом? Или когда послал в задницу (а ведь известно, что послал) всю предыдущую команду зодчих?
Я думаю, что – да.
Билеты на поезд, на котором можно доехать аж до Венеции (с пересадкой) стоят четыре евро, семь – туда и обратно, но мне обратно не надо.
А надо, сказал Лучиано, пересесть на автобус.
Я сел спиной к движению, а напротив меня уже сидела, с большой кожаной рыжей сумкой на коленях, может быть, та, которую мне в грядущей жизни отложили на потом.