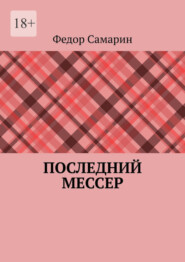скачать книгу бесплатно
Она всего один раз сверкнула на меня миндалинами глаз цвета черненого золота.
Этого хватило (я еще этого не знал) для всего остального, а главное, что звали ее…
2.
…Ее звали так, что имя это хотелось укусить и высосать всю мякоть из него, как из хурмы, морозом тронутой едва: Клаудиа.
Она пропела свое имя, растягивая последний слог, и я сразу вспомнил, что мне только что исполнилось тринадцать лет, и родители мои, впрочем, благочестивые и ревностные католики, недавно отдали меня на учение в боттегу Баччио Понтелли, который сам флорентинец, но был родственником семейства Альбани, славного в Урбино своим попечительством святым местам. А потому и лавка, принадлежавшая этой фамилии, носила его имя, знаменитое вплоть до дальних венецианских пределов.
В особенности же, многое от Альбани всяческих даров наследовала церковь ди Сан Доменико, от которой сегодня мало что осталось. Тут я имею в виду великолепие, которым обладала она прежде, смешав в себе тяжелую и угловатую прежнюю манеру и новые веяния, до которых так охоч был монсеньер Монтефельтро, наш грозный, но вместе просвещенный герцог.
Сам же сер Понтелли расписывал шаловливыми античными историями и продавал сундуки и шкатулки, редко отвлекаясь на копирование гравюр и досок известных наших мастеров, которые к нему, по его склонности держать синицу в руке, и не обращались. Давным-давно когда-то сер Понтелли написал фреску да еще какой-то алтарный образ для часовни в Сан Бернардино. Потом быстро вступил в гильдию аптекарей и открыл боттегу, надеясь преуспеть, но в результате у него из всех учеников и подмастерьев теперь был только я, да еще два юноши из Фано, имена которых теперь совершенно истребились из памяти моей.
Мастерскую свою, однако ж, обустроил он, не знаю, по чьей протекции, весьма выгодно: во втором доме как войдешь чрез Порта ди Вальбона: почти супротив тетушки Бибите.
Занятия мои состояли в том, что я разрисовывал птицами и ветвями бесконечные истории про Елену и Париса, растирал краски да принужден был мотаться между боттегою сера Понтелли, боттегою Альбани и лавчонкою фра Филиппе, у которого, хоть по внешней жизни своей пьяница и сладострастник, были лучшие красители в Урбино.
Отец мой, несмотря на фамильный постоялый двор, чем немало вызвал толков и порицаний наших обывателей, имел еще и небольшую должность при мастерской, которая одновременно была и лавкой Джованни Санти – отца Раффаэлло Санцио, столь безвременно ушедшего из жизни и оставившего по себе несколько прекрасных произведений.
Ни одно из них, по совести, не нравится мне, потому что у его мадонн одинаковые лица из-за того, что на всех своих фресках и полотнах помещал он, говорят, свою любовницу. К тому же, будучи учеником Перуджино, дважды менял он манеру свою, многое подсмотрев у Леонардо и, в особенности, у Микеланджело.
Тут я предпочту ему Пьетро делла Франческа, рискуя навлечь на себя гнев поклонников Санцио, чему оправданием возьму мнение о нем несравненного Луки Синьорелли, создавшего «Распятие», заказанное ему Филиппо Гуэролли для Братства Святого Духа…
И не потому, что делла Франческа не был Раффаэлло превзойден в ремесле, а оттого, что Пьетро более прочих сердцем подвижен.
В Ареццо, говорят, на своде капеллы некоего семейства Баччи, оставил он фреской всю историю Креста Господня, с того часа, как дети Адама под язык ему, почившему уже, кладут семя древа, из которого, спустя время, и сбит был Крест тот, и до воздвижения Креста императором Ираклием в Иерусалиме. А в святой этот город император вошел босой и в рубище, влача Крест на спине своей. И, хоть и не видел я фрески этой, а тяжесть креста своего ощущаю всечасно, поминая судьбу делла Франческо и судьбу Раффаэлло, ибо первый, войдя в старость, ослеп, а второй умер тридцати семи лет от роду и по случаю нелепому. Но и тот, и другой прошли путь, ровно отмеренный, как в свой час взошло дерево из семени, что было под языком Адамовым…
Неясно, однако ж, мне и до сего часа, был ли Раффаэлло посвящен в дела, которые связывали отца его с моим батюшкой, но известно, что Санти сбывал кое-какие вещи в боттегах сера ди Вапоре в Венеции. А боттеги ди Вапоре получали, в свою очередь, заказы и от Немецкого подворья, и из мастерской Тициана: так, например, на размножение «Венеры Урбинской», и портрета скрипача Баттисто Чечелиано, которые сам Тициан и сын его Орацио выполнили для Гвидобальдо, несчастного герцога урбинского. И то случилось как раз в канун событий, бесповоротно переменивших судьбу мою, или, правильнее будет, проложивших ей означенное русло, и чуть было не перевернувших устройство всех владений государств итальянских. А, может быть, и устройство всего мира…
Знаю я, впрочем, что в свое время в Бельведере встречался Буонаротти с Тицианом по поводу его «Данаи» будто, из чего заключаю, что и этот венецианец был посвященным, и, стало быть, к судьбе моей касательство имел. Чему подтверждение нахожу и в его портрете равеннского кардинала Аккольти: именем его высокопреосвященства открывались ворота самого глухого монастыря в Умбрии, а также еще и в том, что портрет Франциска Первого Тициан написал как раз по прихоти этого кардинала.
Доказательством служит и то еще, что произведен был Тициан Карлом Пятым в рыцари с пенсионом от неаполитанского казначейства в двести золотых ежегодно, да Филипп Испанский еще двести положил ему, да на Немецком подворье имел он должность сенсерия с прибылью в триста цехинов ежегодно, и все не считая заказов от сообществ, Сената и торговли в боттегах, в особенности, той гильдии, к которой принадлежали Бенотти.
Кроме же того, из Кадора, деревни, в которой Тициан уродился и которую всегда вниманием своим почитал, написавши для тамошней церкви, кажется, Пресвятую Деву, много вышло у нас маэстро, и, на памяти моей, несколько великих мастеров.
Что до манеры тициановой, то коль не по сердцу мне Раффаэлло, о чем я сожалею, так вдвойне не по сердцу Тициан: у Санцио хотя бы, по изучению древних и усвоению манеры Буонаротти, рисунок крепкий, и всегда с эскизами работал. А венецианец прямо красками писал безо всякого рисунка, и эскизами пренебрегал, полагая, что мазок широченный, да пятна – это-де и есть так, как оно в природе устроено, так что вещи его последние в боттегах совсем не копировали, а в оригиналах, говорят, только с расстояния и можно их разобрать…
Мать же моя была женщиной скромной, но властной, никогда не ходила никуда дальше городского рынка и церкви Санта Лючия, которая вделана прямо в одноименные городские ворота, а за ними для матушки моей и вовсе кончался всякий обитаемый мир. Однако ж, мнение обо всем она имела свое и была твердо убеждена, что в Равенне, о существовании которой она слышала, живут не итальянцы и добрые католики, а грубые дикари и язычники, скорее всего, турки. Как оказалось впоследствии, ненависть ее к Равенне и предубеждение супротив этого города имели основания, возможно, безотчетные, в виде тех предчувствий, которыми в полной мере изо всех живых существ обладают только женщины и птицы.
Что до самого Раффаэлло, то дом его отца располагался чуть выше нашего, который стоял на самом углу виа Санта Маргерита – уютной и тесной улочке, от которой до боттеги Альбани семь потов сойдет. Сначала надо было карабкаться по крутизне к Пьяцца делла Федерико, а потом чуть не на той части тела, которая заменяет голову дуракам и бездельникам, сползать вниз вплоть до виа Сан Джироламо…
Вот возле дома Джованни Санти, первый этаж которого занимала лавка, над которой со стороны улицы, почему-то, болталась эмблема Братства дисциплинатов, я и увидел Клаудию. А, увидев, сразу же влюбился.
А, влюбившись, сразу же страстно пожелал совершить в ее честь какой-либо подвиг.
Она стояла прямо перед входом в боттегу, чуть поодаль, впрочем, и два ее спутника, молодые люди, одетые как того требовали уставы и правила приличия, и о чем-то весьма оживленно беседовала с самим сером Джованни.
Всякому было известно, что сер Джованни, помимо всего, что обычно продается в боттегах живописцев и прочих мастеров искусств изящных, торговал, и весьма успешно, гравюрами особого рода, как собственного изготовления, так и привозными, даже и из Испании, на которых изображались поединки. По этим гравюрам можно было обучиться фехтовать, да они, собственно, для этого и предназначались, хотя тогда модно было украшать помещения для гостей всякими героическими штучками, к тому же, в боттеге сера Джованни гравюры были тончайшего исполнения. Моду эту у нас ввел как раз Раффаэлло, став поклонником гравюр и офортов немца Дюрера, с которым состоял в переписке, и манеру и приемы коего столь тщательно изучил…
Она сделала движение, оказавшись полуоборота к Санти, и легкий ветерок слегка тронул две-три пряди золотых как спелая пшеница волос, отнюдь не случайно выбившихся из-под сетки, украшенной жемчугом, которая ловко обнимала ее очаровательную головку.
Трудно сказать, были ли волосы и в самом деле золотыми, а не выбеленными на солнце: в те годы я об этом не задумывался, а теперь с сомнением отношусь к поголовью златокудрых дам. Половину жизни проводят они, сидя на крышах домов в беседках и соломенных шляпах, на солнцепеке, чему я сам свидетель, с одной-единственной целью: вскружить голову юноше либо зрелому мужу…
– Так вы считаете, дорогой сер Санти, что использовать валлет в поединке бесчеловечно?
– Я бы не сказал – бесчеловечно, ваше сиятельство, но бесчестно. Если двое сражаются, как то заведено у нас, прилично с самого начала употреблять дагу. А коли дерутся без нее, на шпагах, то выхватывать валлет из пряжки, когда противник этого не ожидает, есть, на мой взгляд, трусость и подлость. И та гравюра, которую вы оказали мне честь приобрести…
Солнце, внезапно вспыхнувшее из случайного облачка, высветило ее высокий лоб, затылок, длинную, стекавшую за вырез на спине, шею, профиль казался несколько размытым, будто его тронул сфумато сам Господь: короткий, с едва заметной горбинкой нос, маленькие чувственные губы и продолговатые желтые глаза под сбритыми бровями…
Конечно, будь я постарше, и если б случилась у меня опытная наставница в делах такого рода, я бы сразу обратил внимание на то, что рукава ее платья, изящно пристегнутые к корсажу, были без разрезов. И из самой дорогой материи, аксмита, с тончайшим бархатным рисунком, а также – и в особенности! – на кинжал (веер висел у нее на запястье), выглядывавший из крупных складок юбки, лежавшей прямо на булыжнике, вокруг ее, без сомнения, очаровательных ножек.
Это не был обыкновенный дамский трехгранный стилет и не даггер, а мизерикордия: узкий, как туловище змеи, в старинных кожаных ножнах, но с большим рубином возле самой гарды. У нас, в Урбино, дамы, обычно, выходя на прогулку, брали именно стилет: никому в голову не пришло бы нацепить на платье мужской чинкуэдэа или, скажем, венецианский сандедеа, оружие серьезное и опасное. Тем более, мизерикордия, благочестивое имя которого выглядит как мрачная шутка, таящая в себе память о рыцарских турнирах и христовом воинстве…
Трудно сказать, был ли я смешон. С течением времени, многое предстает пред тобою совсем в ином свете, чем казалось когда-то. Клянусь, я бы с радостью уступил всю мудрость, которая, как полагают, приходит по достижению почтенного возраста, недержания и подагры, и которая, по сути дела, есть только зависть и бессилие перед всей полнотой жизни, за тот краткий миг чистого упоения красотой.
Сегодня, поливая цветы в нашем атриуме, я столкнулся взглядом с таким же точно юношей, каким был сам: он стоял, забыв, что шаг еще не закончился – и лицо его, казалось, плыло навстречу портику. В его прохладной глубине прорисовывалась белого мрамора Пресвятая Дева в накинутом на головку куске материи, работы Джованни да Фьезоле, давным-давно подаренная обители кем-то из маркеджианских кардиналов…
Когда кто-нибудь скажет вам, что он был как громом пораженный, не спешите обвинять человека этого в недостатке воображения или в косноязычии. Ему не до изящного стиля: солнце залило весь город, и один из его бесчисленных лучей – я помню этот опустошительный восторг – пронзил меня насквозь, намертво пришпилив к булыжнику.
Если бы тогда вдруг случилось извержение, или на Урбино, сметая все на своем пути, напали бы сарацины, и речь бы шла о жизни и смерти, я и тогда бы не смог пошевелиться.
Мгновенно в моем мозгу вспыхнула картина сражения – я один в окружении толпы, вооруженной кривыми сарацинскими мечами, окровавленный, яростно отбиваю атаки, закрыв телом прекрасную даму, наконец, последний сарацин падает к ее ногам, я подхватываю ее на руки, и…
Но виа Санта Маргерита – просто крутая улочка. И прыгнуть с нее, как, например, бывает, делают любовники, покидая навеки отчее гнездо, прямо на спину коня, который умчит их в безопасные горы, невозможно. Мне, после сражения с сарацинами, представился еще и этот, очень соблазнительный, момент: я, переодетый капуцином, она в одеянии служанки, полная луна…
На этом самом месте один из спутников дамы, высокий, в испанском коротком камзоле и очень коротком черном плаще, сделал ко мне не более двух шагов (Санта Маргерита – улочка тесная, немного шире того переулка, который называется Переулком Смерти):
– Тебе чего здесь надо, бездельник?
Бездельник! О!..
Случалось ли вам сносить незаслуженные насмешки старших? Случалось ли, находясь среди таких же, как вы, учеников мастера, получать от них щипки и подзатыльники, в то время, когда мастер занят делом и не видит, что твориться за его спиной? Не приходилось ли оказаться в таком положении, когда весь пятничный рынок показывает на вас пальцем, потому что вам подставили подножку, и вы со всего маху угодили прямо в корзину с макрелью? Не испытывали ли вы когда-нибудь чувство горького бессилия и стыда от того, что не можете ответить обидчику, из опасения, что он выше по происхождению и сильнее вас, да к тому же еще и окружен слугами?
Я еще и до сих пор заливаюсь краскою, когда на память мне приходит угол виа Санта Маргерита, залитый солнцем, теплое свечение жемчужин и ее взгляд, который последовал вслед за окриком. Так, наверное, благочестивые горожане посмотрели бы на повозку зеленщика, внезапно и не к месту оказавшуюся перед торжественной процессией епископов, изображенной Паоло Уччелло на знаменитой истории из шести эпизодов, представляющей сказание об оскорблении святой реликвии, которая и поныне хранится в герцогском дворце.
Думаю, это чувство стыда, гнева, унижения и еще тысячи оттенков этих греховных движений души, будет сопровождать меня вплоть до могилы, дыхание которой, по счастью, не так уж и далеко от меня теперь. И ничего поделать я не в силах, хотя уж несколько раз исповедывался и сам на себя налагал суровую епитимью.
Бывают люди, не умеющие, в силу жизнелюбия и непоседливости, долго таить огорчения и обиды.
Бывают праведники, постом и молитвою смиряющие движения плоти, властители чувств мелких и суетливых.
Бывают, наконец, те, кто обучился жить с невзгодами и напастями, вовсе не замечая оных, принимая их за предопределенную часть своего естества и мироустройства. Но большинство, все-таки, есть сочетание всех пород человеческих, со всеми, присущими человечеству страстями, в том числе, самыми ничтожными и низменными.
Более того, эти-то страсти и приводят нас к неожиданным открытиям и еще более нежданным злоключениям.
Я поступил так, как поступают обыкновенно юноши из благовоспитанных семейств, в отличие от простолюдинов, всегда готовых ответить метким словцом или же иным способом.
У нас в Урбино горожане разных сословий привыкли относиться друг к другу в высшей степени учтиво, потому что каждый из них с детства умел обращаться с испанской альбацетой. А это такая вещь, которая хорошо приспособлена для наших переулков, тупиков и проходных дворов, тесных, как игольное ушко. И если поединок не происходил сразу же на месте оскорбления, то можно было быть уверенным, что обидчика, рано или поздно, найдут где-нибудь между виа Санта Кьяра и виа дель Соккорсо. Даже в жилах учтивейшего и добродетельнейшего Раффаэлло Санцио текла кровь свирепых остготов и того народа, имя которого ныне забыто, и который, как говорят, был одного корня с гуннами Атиллы.
В общем, я бросился наутек, испепеляемый жаждой мести.
Мне пришлось сделать порядочный крюк, чтобы не дать повода подумать, что я, чуть что, сразу бегу к маменькиной юбке. Поэтому, взмокший от пота, я сначала бегом, а потом кое-как доплелся-таки до церкви Сан Доменико, а уж оттуда, переулками, добрался до дома, оставаясь незамеченным: компания все еще пребывала возле боттеги сера Санти…
Не могу сказать, кинулся ли я прямиком к себе в комнату и, как то бывает, со всего маху шлепнулся на постель лицом в подушку, или же сразу в залу на третьем этаже, где у отца были собраны разнообразные кинжалы и прочее оружие. Но отчетливо помню себя, столбом стоящего во внутреннем дворике рядом с колодцем, и мать мою, прижимающую к рукам моим губку.
Кровь залила мой новенький, со сборками, джуббоне, которым я очень гордился; кровь была везде: на груди, рукавах, на полу… Чинкуэдэа, в котором было больше, чем пять пальцев у основания, располосовал мне обе ладони до кости. Видимо, ярость и слезы помешали мне схватить кинжал за рукоять, а не за клинок.
Матушка уложила меня сразу же в постель. Хотели, было, послать за братом Филиппе в монастырь Санта Катерина, но я воспротивился, потому что фра Филиппе был на язык не воздержан, хотя слыл самым лучшим лекарем в округе, притом, и брал за труды скромно. Если вы хотели пустить по городу сплетню, то лучшего способа, чем шепнуть что-либо по секрету фра Филиппе, причем, взяв с него клятву именем святой Екатерины, не существовало.
3.
Около двух недель меня отпаивали бульоном, подогретым вином с медом и ставили пиявок. Наконец, кризис миновал, и завершился он могучим сном: я проспал почти двое суток, а проснулся другим человеком. Для того чтобы повзрослеть, вовсе не обязательно становиться старше.
Прежде всего, потребовал я обильного завтрака, чего за мною никогда не замечалось. Наоборот, до самого ужина мне иногда довольно было печеного яйца, немного хлеба с сыром да несколько глотков вина. Матушка, всплеснув руками, тут же кликнула прислугу, и вскоре передо мной были и ветчина, и сыр, и свежевыпеченный хлеб, и свиные колбаски, прожаренные на очаге, и зелень.
Насытившись, я объявил, что отныне не стану больше ходить в боттегу Баччио Понтелли, а равно и ремеслу его обучаться более не стану никогда.
Отец к этому отнесся, на удивление, сдержанно: а был он человеком крутым: имея небольшой постоялый двор, в котором, обыкновенно, останавливались торговцы скотом, народ грубый и вспыльчивый, батюшка мой всегда умел найти с ними общий язык. Однажды, в самый базарный четверг, на площади, перед Порта ди Вальбона, он в одиночку справился с двумя жителями Каттолики, нашими постояльцами, взявшимися за ножи прямо на пьяццале дель Меркатале, переполненной скотом и горожанами, среди которых были и люди благородного происхождения. На глазах у многочисленной толпы он выбил альбацету у одного, а другого, ухвативши за пояс, поднял над собой, как куклу, и отшвырнул на несколько шагов. Тем нелепее и несправедливее обошлась с ним судьба…
– Известно тебе, – сказал мне отец, дождавшись, пока я прожую последний кусок, – известно тебе, говорю я, что записано в книге Понтелли. Отдан ты был на три года, с уплатою вперед, а также и с выплатами тебе за те работы, которыми служил ты сеньору Понтелли. За эти годы должны тебе выплатить 25 полновесных флоринов. В первый год тебе было уже уплачено 7, а за второй – вперед – восемь… Да из них я уже получил 14 лир и 10 сольдо… Что ж, коль не по тебе мастерство, которым занимается Понтелли, а вместе с ним еще добрая сотня наших добрых сограждан, скажи свое слово. Я мог бы и не спрашивать тебя, а просто дать тебе хорошую взбучку. Но по себе знаю, что эдак только хуже будет, и много слез пролил я сам, прежде чем смирился с волей твоего деда и стал продолжателем семейного поприща… Оттого, раскрою тебе секрет, и поступил я приказчиком к серу Санти! Вовсе не от нужды. А в отрочестве нещадно бит бывал за склонности свои к рисованию. В тебе, Франческо, я, видимо, ошибся, как обыкновенно ошибаются отцы, думая, что и их потомство обязано в точности повторять не только образ жизни, но и черты характера, и все склонности их натуры. Ты не в меня пошел… Итак, говори, и ничего не бойся.
С этими словами отец подвел меня к большому ларцу орехового дерева, в котором у нас хранится одежда, и, став ко мне спиною, извлек оттуда некий предмет, заботливо обернутый в кусок холста и перевязанный черной лентою крест накрест.
Развернув холст, он протянул мне небольшую, взятую в изящную резную рамку, гравюру. На ней тончайшим образом изображен был поединок двух сеньоров, один из которых, как мне показалось, был похож на самого отца моего, да так оно и было. При этом тот, который походил на моего отца, – со шпагой в левой руке, и дагой с загнутыми к острию концами гарды в правой, – скрестив в воздухе клинки отбивает рубящий выпад соперника, одетого так, как обыкновенно наряжаются знатные испанцы. Вся сцена, а также и пейзаж, заботливо выполненный на заднем плане и представляющий вид церкви Сан Бернардино, и сад вкруг нее, были столь прелестны, что я не удержался от возгласа, и сама фигура отца моего предстала предо мною совсем с иной стороны.
– Вот доказательство того, что я говорю тебе истину, не лукавя перед тобой ни в чем, и ничего не скрывая. Это единственная гравюра, которую оставил я по себе от того времени, когда был намного старше, чем ты. Остальное уничтожил, ибо негоже отцу семейства, такого, как наше, тешить себя ремеслом низкого свойства, да еще таким, в котором он никогда не преуспеет. А я был тебе хорошим отцом, и хорошим супругом твоей матери. Но я не хочу, чтобы и на твою долю выпали мучения, равные моим. Что может быть хуже, чем дело при человеке, в котором тот ничего не смыслит?… Итак, чего же ты хочешь?
Чего я хотел?.. Ни один юноша на свете не скажет вам, чего ему хочется на самом деле. А хочется многого, причем, одновременно. Стать рыцарем и сражаться за Святую Землю, совершить плавание к далеким берегам Индии, пройти караванным путем вплоть до Персии, испытывая всякий час невероятные лишения и вступая в бой с чудовищами и дикарями, стать герцогом и править народами, или выучиться на алхимика и добыть философский камень…
Я хотел, чтобы меня немедленно полюбила бы всем сердцем та, из-за которой я претерпел унижение и лихорадку, и память о которой отныне навеки обезобразила мою ладонь. А чтобы это, наконец, произошло, нужно было, во что бы то ни стало, прославиться. А прославиться можно, только если слава о твоих подвигах пойдет впереди тебя.
Я так и видел, как она, промыв золототысячником волосы, сидя на крыше в алтане под ослепительным солнцем, или за обедом, в окружении домочадцев и прислуги, вдруг получает известие. О том, что некий молодой и мужественный дворянин, в одиночку, победив целую армию магометан, взял в плен самого Великого Турку и освободил Константинополь.
Она немедленно посылает разузнать все, что можно об этом дворянине, и вскоре получает известие, что он направляется прямо в герцогство Урбинское, откуда, как выясняется, и сам родом.
И вот, получив приглашение остановиться на ее вилле под Пезаро, дворянин подъезжает верхом на гнедом жеребце наилучшей арабской породы к воротам палаццо, от которых, вглубь большого сада, ведет широкая аллея, с обеих сторон обставленная античными статуями…
Она в нетерпении…
Ветер едва шевелит ее джаллабу, просторную и нарядную, буффы на рукавах скреплены жемчугом и золотыми застежками…
Вот он все ближе, ближе…
Сходит с коня, легко взбегает по ступеням, придерживая шпагу, наконец, падает пред нею на одно колено и целует подол ее платья. Поднимает глаза…
– Отдайте меня ювелиру Бенотти, чьи даггеры и даги славятся не только в Италии, но и в Испании, и в землях французов.
Отец молча обнял меня за плечи, коротко кивнул и, ни разу не обернувшись, быстро вышел из залы.
Утром следующего дня, заручившись рекомендательным письмом от настоятеля монастыря Святой Екатерины отца Бенедетто Скальци, что, как я понял гораздо позже, делать было совсем не обязательно, а только для властей равеннских, и уладив все дела с сером Понтелли, мы выехали из ворот Святой Лючии, покинув этот город, причем, один из нас, как оказалось, – навсегда…
4.
…Равенна встретила нас так, как и встречает, обыкновенно, всякого чужестранца по сию пору: собором, в который ноги ведут сами по себе. То же самое происходит и в Урбино.
Сколько раз я проделывал одну и ту же вещь, и это и теперь одно из моих самых любимых воспоминаний: ранним утром, когда над крышами еще вьется белесый, влажный туман, надо быстро сбежать до городской стены к воротам Порта Лаваджине. А потом, с остановками, оглядывая волны холмов, покрытых серебристыми зарослями мирта и седоватой, пыльной зеленью масличных деревьев и оливковых рощ, медленно идти вдоль по виа делле Мура к Борго Меркатале, и оттуда встретить драгоценнейшую из итальянских столиц как невесту, в воротах Порта ди Вальбона.
Площадь перед ними со времен войны гвельфов с гибеллинами, а может, и еще раньше была приспособлена для наездников с их лошадьми, на ней и до сих пор стоят солдатские казармы, там же и постоялый двор для странников и паломников, а также и торговцев.
По словам отца, эту гостиницу наша семья получила в наследство от какого-то далекого предка, офицера гвардии гибеллинов. Этот предок был, говорят, чуть ли ни крестником самого Антонио да Монтефельтро, того самого, который, будучи сам по происхождению немцем, выступил на стороне Фридриха Барбароссы против папы, освободил Урбино от римской опеки и которому Фридрих жаловал титул графа и назначил имперским викарием над всей урбинской землей…
Раз в неделю на эту площадь стекаются окрестные торговцы скотом, и тогда площадь становится похожа на огромное чудище, на левиафана, сплошь покрытого сотнями блестящих черных рогов. Ярмарки урбинские вообще не идут ни в какое сравнение с любым из городов вплоть до Венеции. Исключая, впрочем, только Болонью, да и то я говорю так потому, что сам никогда толком в Болонье не был.
И вот, войдя в Урбино через эти ворота, прямо по виале Маццини, ты поднимаешься к сердцу города, в то время как твое собственное напоено суровой красотой и покоем, заключенным в этих стенах. И отовсюду неминуемо влекут к себе, возносясь стройными колоннами, башни дворца нашего герцога…
Справа, восьмой дом от Порта ди Вальбона, почти напротив боттеги Понтелли, находится боттега тетушки Бибите. Ее так прозвали потому что, помимо мелких женских безделушек, ниток, пряжек, заколок и брошек с булавками, – а также небольших копий с работ Пьетро делла Франческа, ее двоюродного племянника, – жила она тем, что готовила изумительные настойки из каких-то трав и с лимоном, всяческие морсы, и пекла блинчики, заправляя их медом.
Дом ее в два этажа примечателен тем, что над входом в него и сейчас еще можно увидеть барельеф с венецианским львом святого Марка. Откуда он тут взялся – сказать наверное не может, видимо, никто: на остальных зданиях у нас если не герцогский орел, то папская тиара с ключами… а не то череп со скрещенными костями, подразумевающий Голгофу, над которым крест, а внизу песочные часы: герб ордена Успения. В часовне этого ордена (на виа Порта Майа) висит, между прочим, «Распятие со скорбящими и Марией Магдалиной» Федерико Бароччи, творение редкой красоты: копию можно купить как раз у тетушки Бибите всего за три лиры и пять сольдо.
Тетушка Бибите, рыжая, округлая и близорукая, с ямочками на гладких, как у девушки, щеках любила, угощая блинчиками, порассуждать на всякие отвлеченные темы:
– Известно ли тебе, Франческо, – говорила она мне, подкладывая порцию пышущих жаром блинцов, – известно ли тебе, юный Гвидобальдо, что в нашем славном городе водится нечистая сила? Причем, не просто водится, а живет себе, и получше нас с тобой. Ходит в церковь, причащается, даже исповедуется и, вот, видишь ли, вовсю торгует всяким товаром гильдии лекарей и каменщиков. А обитает она, говорят, в подвалах под дворцом, где сделаны устройства для сбора дождевой воды, которую очищают, пропуская каким-то образом через чертов уголь… Племянник мой у меня покупает красители, и у меня же продает то образ для какого-нибудь деревенского алтаря, не то шкатулки со всякими аллегориями, а вон там, в углу, давеча прислали от него сундук, расписанный на языческий манер, с голыми красотками… блудницами вавилонскими!.. Меду тебе еще, или, может быть, хочешь вареного сахару?.. Н-да. А между тем, если бы ты посмотрел на герцогский дворец несколько снизу и издалека, то ты б заметил, что и сам наш городок – не город, а настоящая клетка. Дворец, в котором все мы, хотя и передвигаемся, кто куда хочет, а как бы бродим по одним и тем же покоям и анфиладам. Да! И редко кому в голову заходит мысль не то, что покинуть его, как это сделал Раффаэлло, а и просто погулять за городскими стенами. Так что, угощайся: ты храбрый малый… И еще. Известно ли тебе также, Франческо, что сер Данте Алигьери в двадцать седьмой песне своей комедии поместил одного из Монтефельтро, Гвидо, в тот адов круг, где пребывают негодные советники?..
Я уминал блины и ни словечка не разбирал во всей этой трескотне.
Кто такой этот самый Данте, и зачем ему понадобилось так обижать какого-то Гвидо? И, клянусь Пресвятой Девой, если б я встретил какую-нибудь нечистую силу по пути от Порта Лаваджине к Борго Меркатале, то уж наверняка мне бы это с рук не сошло.
Город от Порта ди Вальбона устроен так, что лавка тетушки Бибите – это вроде первой остановки: предвкушение встречи, причем, в буквальном смысле.
Прекрасное всегда сопряжено с опасностью, и всякое прекрасное предваряет крушение, как прекрасно безмятежное море перед смертоносной бурей: чем прекраснее то, что ты видишь и чему восхищаешься, тем больше зависти скапливается в сердце твоем, тем больше ты, в итоге, ненавидишь то, чем восхищаешься.
Так и с Урбино.
Я люблю этот город так, что готов сжечь его дотла, истребить, как это чуть не сделал Борджиа. Разобрать по камешку, а камни растереть в порошок. Я ненавижу этот город, как юноша ненавидит свою первую любовь, которой он еще вчера ночью нашептывал безумные, невозможные слова, взобравшись по виноградной лозе до балкона на третьем этаже, рискуя сломать себе шею или быть убитым стражей. Я убью этот город, а потом погибну, защищая его славные руины. Я всадил бы нож ему в горло, как убивают женщину от безответной любви, исполненной бессонными ночами, насмешками, равнодушием и снисходительностью, в которой так легко угадать презрение. Прости мне, Боже…
Так плебей разоряет и обращает в прах дворец государя, жжет картины и книги, крушит античные статуи, испражняется на ободранное золото алтаря, попирает останки величия и плюет в лицо духовнику, которому вчера еще истово исповедывался…
Причин таких злокозненных движений души во мне нахожу я множество, и ни одного оправдания, как нет теперь уж и сил в теле моем немощном препятствовать страстям молитвою.
Но есть и еще одна, возможно, и не самая разрушительная, а, скорее, умозрительная причина.
Через какие бы ворота, к примеру, вы не зашли в Урбино, вам не миновать нашу Базилику. Возводить ее начали почти за десять лет до моего рождения, но и теперь этот кафедральный собор не вполне еще закончен. Федерико, герцог добрый, возложил обязанность по строительству его на сиенца Франческо по прозванию Джорджо Мартини, но и по теперь еще купол не установлен. И конца краю работам, как дошло до меня, не видно.
Базилика же примыкает, со стороны площади, на которой находится церковь Сан Доменико, к герцогскому дворцу. Церковь эту, о которой я говорил уже прежде и в которой я хотел бы упокоиться, построил задолго до моего появления на свет некий Мазо ди Бартоломео из Флоренции. И этот храм Божий был, пожалуй, самым первым из творений такого рода, хотя многое в ней осталось и от веяний, дошедших до нас из-за Альп. Однако ж, добрый наш герцог выстроил свой дворец таким образом, что церковь эта оказалась напротив, почему и зодчий постарался придать ей соответствующий облик, то есть, поступиться модою на все нормандское.
Особенно меня умилял терракотовый люнет, прямо над порталом, где на голубом фоне вырезаны фигурки Мадонны с младенцем и четыре евангелиста, пёстрые, как раскрашенные лавочником офорты. Этот люнет был выполнен Лукой делла Роббиа, и эту вещь я лично почитаю за первый провозвестник падения вкуса.
Сейчас таких разукрашенных терракотовых безделиц полным-полно в любой боттеге, висят они и в домах людей с совсем уж скромным достатком, а в годы моего отрочества приличным считалось такое отношение к художеству, какое явил нам Паоло Уччелло. Всякая работа мастера должна поучать и наставлять, излагая истории нравственные и понятные, при том же, краски не должны искушать и отвлекать от сути. Такова, к примеру, фреска Оттавиано Нелли, изображающая историю вознесения Мадонны, окруженной музицирующими ангелами и в компании со святыми мучениками, среди которых и святой Доменик. Фреску эту, написанную в часовне Сан Гаэтано, которая примыкает к абсиде церкви Сан Доменико, я советую изучить всякому, кто ищет душевного покоя.