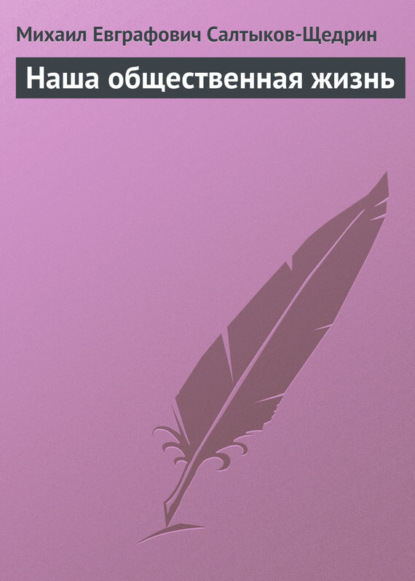 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Наша общественная жизнь
Свобода выражения тоже немало в этом случае помогает. Когда преднамеренно и сознательно смешиваются понятия самые противоположные, когда этим смешением угощается публика малосведущая и плохо различающая и когда вся эта нетрудная работа производится безвозражательно, то понятно, что публика становится, так сказать, в положение крепостного человека, который, постоянным давлением на него крепостного права, доводился, наконец, до совершенной бесчувственности и полного непонимания его ненормальности. Она постоянно испытывает одни и те же веселые впечатления и потому весьма естественно покоряется их влиянию. Едва успела она сегодня прочитать веселый рассказ о Басардине, как уж назавтра готов к ее услугам не менее веселый рассказ о гимназисте Горобце. И таким образом, воспитанная па Басардиных, Кукшиных и Горобцах, доводимая до опьянения наркотическими завываниями «Московских ведомостей» и не видя этой галиматье отпора, публика не вступает даже в разбирательство причин, почему нет и не может быть этого отпора, а прямо приходит к убеждению, что так тому делу и быть.
Но, без сомнения, всего более содействуют заблуждению публики некоторые вислоухие и юродствующие, которые с ухарскою развязностью прикомандировывают себя к делу, делаемому молодым поколением, и, схватив одни наружные признаки этого дела, совершенно искренно исповедуют, что в них-то вся и сила. Эти люди считают себя какими-то сугубыми представителями молодого поколения, забывая, что дрянь есть явление общее всем векам и странам и что совершенно несправедливо и даже непозволительно навязывать ее исключительно современному русскому молодому поколению.
Выше я сказал, что самым тяжким положением мысли следует признать то, когда она не только обязывается тратить свою силу на мелочах, но, сверх того, не имеет даже возможности объяснить самоё себя надлежащим образом, очистить исследуемый ею предмет от тех примесей, которые ему вредят. В самом деле, что такое это молодое поколение, о котором так много говорят, какие его стремления и какова его деятельность – всё это вопросы темные не только для публики, но и для большинства самих тех, до которых они ближайшим образом относятся. А этот туман еще более способствует размножению тех темных личностей, которые упомянуты мной выше под именем юродствующих и вислоухих и которые сами совершенно серьезно готовы признать воришку Басардина за тип современного прогрессиста, как признали таковым в недавнее время болтуна Базарова.
В январском обозрении общественной жизни я сделал очень скромную (и даже, сознаюсь, не довольно резкую и определенную) попытку отличить этих вислоухих и юродствующих и изъять их из общего представления о молодом поколении, которое и без того уже захламощено различными услужливыми ревнителями, – и надобно видеть, какую бурю в среде этих милых лилипутов подняла моя мимоходная и притом лишенная всякого злостного характера заметка. В одном невинном, но разухабистом органе невинной нигилистской ерунды (по врожденной мне скромности, я не называю здесь этого органа) стали доказывать, что я всегда был такой, что в прошлом году я притворялся, а теперь, дескать, не выдержал и обнаружил свою настоящую суть. Очень приятно.
Да, я всегда был такой, но и в прошлом году отнюдь не притворялся и высказывал свои мнения с полною откровенностью. Вислоухие никогда не прельщали меня; я всегда был того мнения, что они одним своим участием делают неузнаваемым всякое дело, до которого прикасаются, подобно тому как мухи летом в одну минуту засиживают какую угодно вещь, хотя бы самую драгоценную. В прошлом году, как и нынче, я с сожалением смотрел на людей, которые в слове «нигилизм» обрели для себя какую-то тихую пристань, в которой можно отдыхать свободно, по временам делая набеги в область ерунды; в прошлом году, как и нынче, я находил, что эти невинные существа отнюдь не должны считаться представителями какого бы то ни было поколения, но что они изображают собой тот паразитский, из угла в угол шатающийся элемент, от которого, по несчастью, не может быть свободно никакое, даже самое лучшее дело. И если я выражал свою мысль не всегда одинаково рельефно, то это происходило, во-первых, оттого, что сюжет сам по себе еще слишком деликатен, а во-вторых, оттого, что при срочной журнальной работе трудно и требовать, чтобы писатель был всегда одинаково ясен и изобразителен.
Но предмет этот так интересен сам по себе, что в настоящее время я решаюсь посвятить ему несколько слов, причем предупреждаю читателя, что здесь не будет и речи об обвинениях, на меня взводимых, так как к этим последним я совершенно равнодушен.
Всякая партия, всякое дело имеют своих enfants terribles,[74] которые до тех только пор и бывают терпимы, покуда дело еще слабо и покуда малейший разлад в недрах той партии, которая его поддерживает, может повредить ему. Эти enfants terribles юродствуют, мечутся, не умеют держать язык за зубами и всего охотнее хватаются за внешние признаки дела, так как других они и понимать не могут. Серьезно на них никто и не смотрит, но видя, с одной стороны, их невинность и усердие, а с другой, опасаясь, чтобы от их невоздержности не изгибло хорошее дело, стараются действовать на них посредством ласки, которая, как известно, имеет свойство отчасти поощряющее, а отчасти умеряющее. Большинство убеждается этими ласками, и хотя продолжает заниматься мелкоплаваньем и не обещает никакой существенной помощи делу, однако уже и тем ему отрицательно содействует, что не мешает и не умножает собой победоносные ряды его противников.
И таким образом шло бы это дело воздержно и безопасно к вожделенному концу, если б из среды невинных enfants terribles не возникали своего рода горлопаны, юродствующие и вислоухие. Эти последние плавают столь же мелко и точно так же не идут далее внешних признаков какого бы то ни было дела, но уже возводят эти признаки в принцип и проповедуют громко, самодовольно и с ожесточением. На этих людей простая ласка уже не действует, и дело, в своих собственных пользах, должно оградить себя от их несносного и навязчивого влияния.
В позапрошлом году пущено было в ход слово «нигилизм», слово, не имеющее смысла и всего менее характеризующее стремления молодого поколения, в которых можно, пожалуй, различить всякого рода «измы», но отнюдь не нигилизм. Между тем слово пошло в ход и получило право гражданственности, и совсем не потому, что его пустил в ход г. Тургенев (это-то бы еще небольшая беда), а именно благодаря тем вислоухим, которые ухватились за него, словно утопающие за соломинку, стали драпироваться в него, как в некую златотканую мантию, и из бессмыслицы сделали себе знамя. Если б г. Тургенев употребил вместо «нигилистов» слово «дураки» или «безголовые», как выразился однажды г. Юркевич, они бы и за эти слова ухватились с жадностью и самодовольно склоняли бы в настоящее время: мы дураки, мы безголовые, нам, дуракам, и т. д. Это уж такая несчастная страсть красоваться глупостями, беседовать о глупостях и лезть на стену по поводу глупостей, и главный источник этой страсти заключается, конечно, в скудном запасе умственных способностей.
Другой пример: в прошлом году вышел роман «Что делать?» – роман серьезный, проводивший мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указывавший на эти основы. Автор этого романа, без сомнения, обладал своею мыслью вполне, но именно потому-то, что он страстно относился к ней, что он представлял ее себе живою и воплощенною, он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных. Для всякого разумного человека это факт совершенно ясный, и всякий разумный человек, читая упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей. Но вислоухие понимают дело иначе; они обходят существенное содержание романа и приударяют насчет подробностей, а из этих подробностей всего более соблазняет их перспектива работать с пением и плясками. Точно так же, например, в сочинениях Фурье их увлекла бы не теория страстей, положенная в основание его универсальной ассоциации, не плодотворная концепция гармонического воспитания и проч., а какие-нибудь anti-lions и anti-réquins,[75] а какие-нибудь когорты мальчиков, с самоотвержением предающихся очищению отхожих мест и т. п. В этом случае они следуют примеру составителей паскудных французских литографий: посмотришь на надпись – написано «L’oiseau envolé»,[76] посмотришь на картину – никакой oiseau envolé тут нет, а просто девица грациозно приподняла платье и показывает sa jambe bien faite…[77] И когда такие их пошлые проделки останавливают чье-нибудь насмешливое внимание, то они на того человека указывают пальцами и восклицают: «Эге! да вы, кажется, уж над Чернышевским глумитесь!» И таким образом сваливая с больной головы на здоровую, думают прикрыть свое неистовое нравственное убожество.
Третий пример представляет вопрос женский… но здесь предпочитаю остановиться, потому что вовсе не желаю увлекаться, а говорить хладнокровно об этом предмете, благодаря паскудному покрову, который набросили на него вислоухие, совсем не легко.
Одним словом, нет мысли, которой наши вислоухие не обесславили бы, нет дела, которого они не засидели бы. «Я демократ», – говорит вам вислоухий и доказывает это тем, что ходит в поддевке и сморкается без помощи платка. «Я нигилист и не имею никаких предрассудков», – говорит вам другой вислоухий и доказывает это тем, что во всякое время дня готов выбежать голый на улицу. И напрасно вы будете уверять его, что в первом случае он совсем не демократ, а только нечистоплотный человек, и что во втором случае он тоже не более как бойкий человек, без надобности подвергающий себя заключению в частном доме, – не поверит он ни за что и вас же обругает аристократом и отсталым человеком.
Если вы посещали, читатель, петербургскую биржу весною, то, конечно, имели возможность наблюдать за неугомонною деятельностью обезьян. Сидит обезьяна в клетке и все кругом озирается, все высматривает, нет ли чего перенять. Видит она, например, рабочего, который заколачивает ящик, и тотчас же начинает суетиться, отыскивает на дне клетки завалящую щепочку, в другую лапку берет орех и пресерьезно начинает щепочкой постукивать по ореху. Вот действительный смысл работы наших enfants terribles. Насколько он полезен, предоставляю судить читателю, с своей же стороны думаю, что он вреден уже тем, что возбуждает смех в зрителях и дает им повод делать неправильные и произвольные обобщения. Конечно, мне могут возразить, что много будет чести, если обращать внимание на мнения каких-нибудь праздных зрителей, и я, разумеется, принял бы подобное возражение, если бы оно исходило от людей серьезных (впрочем, оговариваюсь: принял бы только отчасти, ибо, по моему мнению, праздных зрителей нет и не может быть, и презрительное отношение к ним составляет большую и очень часто неисправимую ошибку), но ведь надо же понять, что деятельность наших enfants terribles совершенно по плечу самому праздному из праздных зрителей, и, следовательно, от них никакое возражение в этом смысле принято быть не может.
Но этого мало. Не забудем, читатель, что, кроме enfants terribles, y нас есть вислоухие, которые потщатся подчеркнуть пошлость и возвести ее в принцип. Об enfants terribles можно бы еще объясниться, что это просто милые люди, на невинную переимчивость которых стоит только не обращать внимания, чтоб она упала сама собой; об вислоухих же этого сказать нельзя, потому что они лезут вперед, входят в азарт, выдают себя за людей серьезных и убежденных и подбирают себе поклонников. Посторонний зритель, непосвященный, смотрит на вислоухого уже с некоторым трепетным смирением, как на сосуд некий, в котором заключена мудрость будущего, и если ему порою кажется, что эта мудрость смахивает на ерунду, то он тут же спешит поправиться и уверить себя, что это оттого ему так кажется, что он сам преисполнен ерунды, а что ерунда вислоухого есть действительная мудрость, но только мудрость не настоящего, а будущего. Скажите же, не обидно ли это?
Итак, вот каких именно вислоухих и юродствующих имел я в виду в моем январском обозрении нашей общественной жизни, а совсем не то, чтобы «выругать огулом молодежь», как выразился в письме ко мне некоторый анонимный корреспондент, который обругал меня при этом самым вислоухим образом. Ибо я очень хорошо понимаю, что взгляд на молодое поколение, как и на всякое другое, должен определяться общею его деятельностью, общими его стремлениями, а не уклонениями и юродствами, хотя бы этих последних было и великое множество.
А еще и вот что имел я в виду сказать: что одно из самых пагубных свойств вислоухих составляет непомерное их самолюбие. С одной стороны, им кажется, что вся Россия взирает на них и что сам Молешотт напутствует их из своего далека, с другой стороны, – что нет на свете ни одной отрасли практической деятельности, которую бы они могли занять, не уронив своего достоинства. Вольными ремеслами они заниматься не могут, потому что нет у них ни ума, ни искусства, ни прилежности, ни даже физической силы, которая потребна в некоторых из них, называемых низшими. Обязательным ремеслом, тем самым, которое как бы нарочно создано для того, чтоб давать приют всякого рода неспособным и от природы обиженным, заниматься несогласны, потому что: что скажет Россия! А Россия даже не подозревает, существуют ли они, эти нового рода социалисты, взирающие на жизнь как на увеселительное представление с пением и плясками! От этого-то слово «нигилизм», слово бессмысленное и ничего решительно не выражающее, было для них как бы манной небесной, потому что оно дало им повод успокоиться, дало возможность на вопрос: «Чем вы занимаетесь?» – отвечать: «Мы занимаемся нигилизмом».
Но это презрение к практической деятельности (я разумею здесь эту деятельность в известном и притом весьма ограниченном смысле) составляет столь любопытное явление, что я считаю не лишним поговорить об нем несколько подробнее.
Принято за правило рассуждать таким образом: действительность притязательна, притеснительна и несправедлива, следовательно, вступать с нею в какие-либо соглашения значило бы признать себя солидарным с ее притязаниями и несправедливостью; сверх того, в своем настоящем практическом развитии она представляет чистейший продукт принципов фальшивых или бессмысленных, следовательно, принять в ней деятельное участие значило бы оказать прямую или косвенную поддержку тем самым принципам, которые мы презираем и отвергаем. Надобно, чтобы лучшие общественные силы отказались от всяких стачек с нею, и тогда она изгибнет сама собою, жертвою своего собственного бессилия.
Рассуждение, по-видимому, правильное, но, не знаю почему, оно напоминает мне рассуждение одной очень глупой барыни, которая до того обозлилась на упразднение крепостного права, что дошла, наконец, до желания, чтоб «уж хоть бы бог, что ли, ее поскорее прибрал». И вот при таком-то экзальтированном состоянии, однажды этой самой барыне нагрубил какой-то временнообязанный Антипка или Прошка, – и как вы думаете, что она сделала? «А вот погоди, – сказала она, – ты видишь: я беременна, а как от твоей грубости выкину, так тебя в Сибирь ушлют!» И должно думать, что сильно было в ней желание допечь грубияна Антипку, ибо она действительно выкинула и даже подала жалобу, что от Антипкиной грубости «изныл у нее внутри сын». Так вот до чего может доходить фанатизм идеи: до того, что приходится сражаться за нее уж своими боками!
Не знаю, может быть, этот пример и неостроумен, но он мне нужен, потому что очень верно характеризует всякого рода экзальтацию. Господа, столь логически рассуждающие о презрении к действительности, слишком легко забывают, что эта действительность есть сама жизнь, сражаться против которой нужно средствами, по малой мере равносильными и притом по образу и по подобию. Что пользы будет в том, что вы станете ненавидеть ее своими боками? Она будет помыкать вами, будет пригибать и трепать вас, а вы в ответ на это станете в уединении и самодовольно скрежетать зубами? Подумайте, что за глупую роль вы играете в этой глупой комедии! Кого вы удивите ею? кого убедите? И робеет ли эта несправедливая и притязательная действительность, если вы не удостоите ее своим участием? Нет, она не изгибнет, а будет себе скрипеть и тянуть потихоньку канитель своими собственными средствами.
Когда я желаю, чтобы голос мой был слышен, то всегда выбираю такое место, которое наиболее этой цели способствует (обыкновенно устраиваются даже в этих видах особенные возвышения). Никто не знает, что буду я говорить, и я сам не знаю, будет ли иметь моя речь успех, но и мне и всякому другому совершенно ясно, что первое условие, о котором я должен позаботиться, все-таки заключается в том, чтобы аудитория моя могла меня слышать. А если и есть такие ораторы на свете, которые находят за лучшее пищать где-нибудь в укромном месте, куда никому даже лазу нет, то я их не одобряю и успеха им предрекать не могу. Это могут быть люди, обладающие очень сильными талантами, но таланты их так и погибнут без следа.
В январском моем обозрении я уже имел случай заметить, до какой степени может изменяться значение действий и слов, смотря по тому, откуда они идут и в какой среде совершаются и произносятся. Это же самое замечание я считаю не лишним повторить и здесь, ибо, действительно, мне случалось встречать в этом смысле примеры поистине изумительные.
Воображаю я себе, например, что я не смиренный хроникер «Современника», а какой-нибудь тюкалинский городничий, и что, несмотря на свой пост, выражаю такую мысль, что не следует сажать в часть зря, а не мешает при этом и рассматривать. Мысль, несомненно, либеральная, хотя и не пронзительная, но тем не менее все-таки такого рода мысль, что выражай я ее, в качестве простого хроникера, тысячу раз на дню, она отнюдь не запечатлеется ни в чьих благородных умах. Но так как я тюкалинский городничий, и за всем тем не гнушаюсь некоторым либерализмом, то речь моя производит решительный восторг. Умеренные консерваторы опираются на нее, как на каменную стену, и побивают ею безумных мальчишек. «Это только вы, мальчишки, говорят они, сеете семя вражды, распуская невыгодные слухи о городничих! а знаете ли вы, безумцы, что сказал на днях наш тюкалинский городничий? Он сказал, государи мои: не следует сажать в часть зря, а необходимо при этом рассматривать!» Мальчишки, с своей стороны, тоже цепенеют и перемигиваются между собой, нет ли в словах моих подвоха. Даже «вислоухие» – и те, я уверен, поднесут мне серебряную стопу, на которой с одной стороны будет вычеканено: «Не следует никогда сажать в часть зря, но лишь по внимательном рассмотрении» «» «Марта 1864 года», а с другой стороны: «Тюкалинскому городничему благодарные вислоухие сию стопу».
Но что ж бы это было такое, если б я при исправлении должности белебеевского исправника вдруг брякнул: «Н-да, милостивые государи! женский вопрос стоит на очереди, а вопрос об эманципации детей требует непременного и ближайшего разрешения»?.. Да тут, наверное, поднялся бы такой гвалт и вой, что я не ручаюсь даже, чтобы вислоухие в восторге не лишили меня нечаянно жизни (самые ласки их бывают убийственны)!
Увы! все это я говорю и повторяю почти ежедневно, а за всем тем ни один вислоухий не поднес мне серебряной вазы, хотя, конечно, никто и не лишил жизни. Обвиню ли я современников моих в неблагодарности? Заподозрю ли их в раболепстве и пристрастии? Нет, не обвиню и не заподозрю, ибо знаю, что я стою затерянный в густой толпе, откуда звуки моего голоса, по причине спертости воздуха, не могут быть слышны, а тюкалинский городничий и белебеевский исправник стоят на некотором возвышении, откуда могут отчеканивать каждое слово, со всеми необходимыми ударениями.
Так вот о какой чаше говорил я в своем январском обозрении, и напрасно вы рассвирепели на меня, господа вислоухие, ибо о содержании, которым следует ту чашу наполнить, я не упоминал покуда еще ни слова.
Да, говорил и буду говорить без устали: гадливое отношение к действительности, какова бы она ни была, не поведет ни к каким результатам, кроме апатии и бездействия со стороны тех, которые предаются такой гадливости, и кроме окончательного торжества тех темных сил, которые и без того торжествуют не мало. Необходимо, наконец, отрезвиться, необходимо поставить свою деятельность на почву реальную. Пусть каждый делает то, что он может и на что он способен, ибо мы никогда ничего не доспеем, покуда будем смотреть разиня рот и ненавидеть своими боками…
Скоро ли поймут эту истину господа вислоухие и юродствующие?
Начну с того самого пункта, на котором оставил свою хронику в прошедший раз.
Протестовать своими боками – дело очень нетрудное, но в то же время и совершенно невыгодное. И если выгоду (разумеется, это слово следует понимать в самом обширном и разнообразном его применении) считать за исходную точку мало-мальски рассудительного человеческого действия, то подобного рода протесты можно назвать даже бессмысленными. Это простое наследие или рабства, или дикости, или такой цивилизации, которая растлена в самых своих источниках.
Известно, например, что бывшие крепостные люди против тягостей барщинной работы протестовали тем, что делали себе какое ни на есть увечье; известно также, что вотяк или черемисенин мстят за нанесенную им обиду тем, что лишают себя жизни на дворе своего обидчика; и еще известно, что истинный японец (японский славянофил), чтобы наилучшим образом уязвить лицо, ему ненавистное, распарывает себе ножом брюхо. Примеры эти, конечно, не новы и даже избиты, но они именно тем и хороши, что, несмотря на свою избитость, имеют за собою драгоценное в этом случае качество: доказательность. Подобного рода протесты, как живые свидетели насилия, неразвитости и фаталистической нелепости, исчезают сами собой по мере торжества свободы, цивилизации и здравого смысла. Люди начинают постепенно прозревать и понимать, что, протестуя на копейку, делают на рубль вреда самим себе, и, понявши это, стараются приискивать для своей протестантской деятельности другие, более удобные и безвредные приемы.
Разумеется, если мы вникнем пристальнее в сущность этого явления, то найдем, что со стороны крепостного человека, вотяка и японца такая нелепая форма протеста совершенно понятна. Кроме того, что она соответствует известным жизненным условиям, кроме того, что во всех такого рода случаях у протестующего или руки связаны, или умственные способности задернуты пеленою, кроме всего этого, говорю я, в результате подобных протестов все-таки оказывается ущерб, хотя и ничтожный сравнительно с ущербом, претерпеваемым самим протестующим, но тем не менее ущерб действительный. Когда крепостной человек нарочно порубал себе руку, то знал, что этот поруб исключал его из числа рабочих сил и что вследствие этого у владельца его должно произойти замешательство в полевых работах; когда вотяк устраивает себе удавку на перекладине ворот своего обидчика, то знает, что накликает этим своему недругу беду, от которой он должен будет откупаться; когда японец, в пику врагу, распарывает себе брюхо, то знает, что враг этот действительно обидится и даже сочтет себя обесчещенным. Как ни явно нелепы их способы протеста, все-таки они имеют в виду результат реальный, который может удовлетворить хотя чувству мстительности. Но увы! может быть протест еще более жалкий! могут быть случаи, когда протест всею своею тяжестью ложится исключительно на бока протестующего и когда при той силе, против которой он направлен, не происходит ущерба, даже ни на копейку.
Но такого рода положение дела, отчасти комическое, а более прискорбное, достаточно любопытно само по себе, чтобы остановиться на нем с некоторым вниманием.
Протесты такого рода с особенной силою сказываются в такие моменты жизни обществ, когда эти последние находятся под влиянием напряженного возбуждения, то есть что-либо торжествуется или празднуется. Минуты таких празднеств в глазах многих имеют большую привлекательность, но, в сущности, они представляют очень плохой признак, доказывающий только, что жизнь находится в состоянии разложения, что она отказалась от старых форм, почему-либо оказавшихся непригодными, а новых выработать еще не успела. В такие минуты, несмотря на кажущееся торжество каких-то новых начал, всё и все протестуют, и именно потому, что торжества-то, собственно, никакого нет, а есть одно возбужденье. Одни протестуют во имя воспоминаний прошлого, другие – во имя предчувствий будущего. Жизнь сходит с реальной почвы, утрачивает последний смысл действительности и ударяется в исключительный утопизм. И как ни противоположны полюсы (прошедшее и будущее), из которых отправляется протест, но они сходятся именно в том смысле, что в обоих случаях протест не имеет ближайшей, реальной цели и отзывается исключительно на боках самих протестующих.
Но прежде нежели продолжать мою речь, я обязан оговориться, что, употребляя здесь слово «общество», я понимаю его в том ограниченном смысле, который обыкновенно присвояется ему в литературе. Я говорю об обществе мнимом, о той накипи, которая плавает на поверхности, а не о низменной силе, которая никогда не покидает реальной почвы и не знает никаких утопий.



