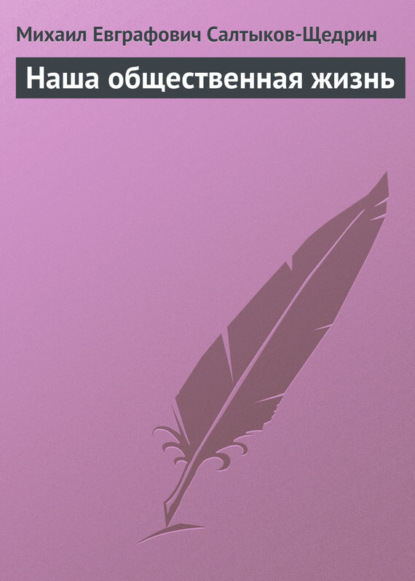 Полная версия
Полная версияНаша общественная жизнь
Но нельзя, разумеется, отрицать, что есть известные широты, под которыми шалуны приживаются гораздо солиднее и надежнее, чем под другими широтами, равно как есть и известные исторические эпохи, которые в особенности покровительствуют самозарождению шалунов. Нельзя также отрицать, что «шалун» южный имеет характер несколько отличный от «шалуна» стран гиперборейских и что мерзавец античный представляет множество таких сторон (преимущественно, впрочем, античность), которых лишен мерзавец времен новейших (un chenapan moderne[30]). Тонкость этих разновидностей весьма трудно уловить, ибо до сих пор еще никакой bureau central de statistique[31] не издал сравнительной статистики «шалунов», однако ж попытки в этом смысле не невозможны и даже не лишены поучительности.
Не может быть, например, сомнения, что южный климат с его благорастворением воздухов, с его вечно синим небом и изящною растительностью представляет гораздо менее благоприятных условий для сформирования настоящего, заправского «шалуна», нежели климат северный, с его бедною обстановкою, с его озлобляющими человека морозами и пр. Южный человек имеет нрав легкий и малососредоточенный; он не имеет нужды ни в тяжелой и дорогой пище, ни в теплой и дорогой одежде: две-три фиги и несколько устриц в желудке, на плечах алая курточка (образцы подобных курточек можно видеть на Большом театре), и он счастлив. Он порхает по дороге жизни, как мотылек, срывает цветы подлости шутя. Поэтому подлость его имеет характер ликующий, как окружающая природа, знойный, как тот солнечный луч, который его согревает, и вдобавок почти бесплатный. Напротив того, северного человека все призывает к суровости и обдуманности; пищу его составляет мясо и жирные вещества, одежду – разнообразные шерстяные ткани и меха. Независимо от непосредственного крайне неблагоприятного влияния такой обстановки на дух человеческий, никак нельзя забывать, что приобретение всех упомянутых выше удобств требует денег. Поэтому северный человек сосредоточивается и обдумывает; он очень хорошо понимает, что в его положении не только не может быть речи о том, чтобы срывать какие бы то ни было цветы, но что, напротив того, он тогда только может считать себя обеспеченным, если успеет занятию своему дать характер ремесла. И вот он пуще сосредоточивается, пуще обдумывает, и в результате выходят у него шалости мрачные и хотя не блестящие, но зато благонадежные.
То же можно сказать и о различном характере шалостей в разные исторические эпохи. В древние, например, времена «шалость» составляла монополию немногих избранников, которые и пользовались ею почти безусловно. От этого древняя шалость всегда отличалась своею пряностью, и даже не лишена была смелости и грандиозности. Чтобы убедиться в этом, стоит только припомнить таких «шалунов», как Нерон, Тиверий, Калигула, Гелиогабал и т. п. Кому из новейших шалунов взбредет, например, на ум спалить Рим или ввести в римский сенат лошадь? Конечно, никому, ибо это шалость античная, не допускаемая ни мягкостью современных нравов, ни тем соображением, что гораздо выгоднее шалить хоть и не столь грандиозно, но почаще. Я знаю, мне могут сказать, что еще не так давно один городничий при проезде через город значительного лица сам зажег какой-то сарай, чтоб показать, как успешно действует у него пожарная команда, – чем не Нерон? И еще скажут мне, что, тоже недавно, один исправник вошел в земский суд с целой стаей собак, – чем не Калигула? Но я все-таки остаюсь при моем убеждении, что сарай не Рим, земский суд не римский сенат и собака не лошадь.
По мере того как смягчались нравы, смягчалась и шаловливость. Мало-помалу она перестает быть привилегией той или другой отдельной личности, а стремится захватить себе область более обширную, сделаться достоянием общим. Если не все общество, то, по крайней мере, изрядная его часть получает возможность жить шутя, администрировать забавляя и не думать о том, что из этого выйдет. Но чтобы достигнуть этой цели, шаловливость необходимо должна пожертвовать частью своей грандиозности, ибо на что же будет похоже, если все будут жечь Рим и вводить в римский сенат лошадей?
Сознание этой необходимости существенно изменяет внешние признаки шалости, хотя намерения ее одни и те же и хотя сумма ее, разлитая в мире, даже значительно превышает ту, которая столь громко заявляла о своем существовании в мире античном. Является понятие о ловкости, являются робкие попытки показывания кукиша в кармане; наконец образуется целая наука, объясняющая тайны натуральной магии в доступном для публики изложении. Тайна жизни упрощается до того, что человеку самому наивному остается только подходить к источнику и черпать…
Итак, вот к каким результатам приводит нас краткий опыт сравнительной статистики по этой части. Тем не менее это только отступление, которое нужно было мне для того единственно, чтоб доказать, что тип «шалуна» вовсе не оригинальный русский тип, а только угаданный нами с свойственною нам прозорливостью и усвоенный во всех его существенных подробностях. Затем обращаюсь к прерванной нити моих размышлений.
Если б И. С. Аксаков был умереннее в употреблении тропов и фигур, если б он яснее указал, к кому, собственно, обращается его речь, и если б обвинения его не были несколько младенчески формулированы, то в них была бы своя доля правды. Действительно, в нашем обществе царствует замечательная пустота и мыслебоязнь, действительно, оно зарекомендовывает себя крайнею шаловливостью. Но не надобно забывать при этом: 1) что, употребляя слово «общество», мы получаем право разуметь под ним только ту часть общества, которая имеет возможность заявлять о своем существовании какими-нибудь действиями, а отнюдь не ту, которая вследствие разных неблагоприятных условий находится на степени резерва, на действительную службу еще не призванного; 2) что даже и в этой ограниченной сфере мы должны с крайнею осмотрительностью отделять те стихии общества, о деятельности которых нам или вовсе ничего неизвестно, или если что и известно, то это известное недоступно нашему пониманию. Это последнее непонимание происходит отчасти оттого, что все новое нарождается вообще довольно туго, окружается известными препятствиями, и потому вынуждено бывает облекать свои действия некоторою таинственностью, отчасти же оттого, что мы, люди, выработавшие себе известный строй понятий, вообще враждебно относимся ко всему, что хочет перерасти нас, и, подстрекаемые этим чувством, не прочь иногда прибегнуть и к преувеличениям. Таким образом, простое стремление к свободе мысли нам кажется уже стремлением к анархии, вопрос о положении женщины в обществе сводится к вопросу о свободе совокупления и т. д. Являются даже особые бранные слова («ты нигилист», «ты космополит», «ты материалист»), которых смысла мы сами хорошо не понимаем, но которые имеют то достоинство, что против них нельзя даже возражать, ибо брань эта сама по себе считается геркулесовскими столпами человеческой мудрости, дальше которых шагать невозможно.
Итак, если я позволяю себе выражаться: «общество шаловливо», «общество озабочено клубничными помыслами», то обязан разуметь здесь именно то общество, которое действительно шаловливо и озабочено клубничными помыслами, а не какое-нибудь другое, которого я не знаю.
«Шалунов» развелось нынче очень много. Что проводить жизнь без размышленья,
Без тоски, без думы роковой, –
гораздо приятнее, нежели жить с головными болями от думы – это и для самого простого ума понятно, а потому естественно, что охотников до подобного развеселого житья очень довольно. Но никак не надо думать, чтобы подобное существование всякому доставалось даром: даром оно достается только избранным, большинству же стоит изрядных хлопот, преимущественно выражающихся в беспрерывных и изнимающих душу гимнастических упражнениях. Поэтому «шалуны» разделяются на два разряда: на шалунов естественных, которым все сие достается даром, и шалунов искусственных, выработавших себе шаловливость горьким и не всегда благодарным трудом. Сверх того, на шаловливость имеет большое влияние и возраст: молодой шалуненок выглядит совсем иначе, нежели древний, промозглый шалунище, да и шалости у них на уме разные, ибо первый имеет в виду исключительно лореток и шикарный костюм, второй примешивает к этим видам некоторые гражданственные соображения.
Естественный шалун всегда сын известных родителей, всегда достаточно обеспечен относительно материальных средств или, по крайней мере, имеет возможность делать долги, не заботясь об уплате их. Бывают, впрочем, примеры, когда и естественные шалуны не могут похвалиться ни известностью родопроисхождения, ни совершенною правильностью своих средств к жизни, но такие примеры встречаются преимущественно уже в преклонных летах, то есть тогда, когда какой-нибудь искусственный шалун, с помощью сугубых и мучительных усилий, доведет себя до такой точки, на которой все забывается, исключая шаловливости. Про таких людей обыкновенно говорят: «Посмотрите! из простых, а ведь какой шалун!» Бывали, сказывают, примеры, что даже из кутейников постепенно образовывались очень милые естественные шалуны, и никто не думал напоминать им о происхождении.
Огражденный происхождением и материальными средствами, естественный шалун бывает по большей части очень мил. Состояние его духа всегда ровно, и отнюдь не страдает он приливом желчи, потому что ее нет. Он не снедается ни злобой, ни завистью, потому что знает наверное: в молодости – что красивый мундир, если б и хотел, то никакими ухищрениями не может уйти от него, в старости – что он непременно будет членом какого-нибудь правления. Он не смущается ни внутренней, ни внешней политикой, потому что уверен, что все эти дела обработают за него M. H. Катков, А. А. Краевский и П. И. Мельников. С высшими он предупредителен, но не искателен, с равными любезен, но слюнявых поцелуев остерегается; с низшими вежлив и плавен, но не тривиален. Он приличен. Высший его идеал заключается в том, что, с какой бы точки видимого мира, с облаков ли, из ада ли, и кто бы на него ни посмотрел, всякий бы сказал: «Этакий ведь этот NN милушка!» Сообразно с этим он никому не залепляет глаза своею ученостью, и, напротив того, когда старшие шалуны, причмокивая и прищуриваясь, беседуют о какой-нибудь древней Агриппине-младшей (по учебнику Кайданова) или о новейшей Помпадур (по «Mémoires de l’Oeil de Boeuf»), то он прикидывается даже невеждою и почтительно спрашивает: что это за Агриппина и как она телом сравнительно с Florence, или с Fanny, или, наконец, с самой Шарлоттой Федоровной? Вообще по части наук он очень умерен (très discret). Из древней истории знает нечто об Ахиллесе, а именно что у него была пята, из средней истории о Готфриде Булльонском («вскипел Булльон, и в храм потек!»), из русской истории – что когда-то давно жили-были на свете le général Munich et le général Souwaroff.[32] В политической экономии он позволяет себе сомневаться, потому что знает по опыту, что как ни распложаются в Петербурге портные, но цены на сюртуки и брюки нисколько от того не понижаются и что, следовательно, экономический закон о спросе и предложении есть выдумка, ни на чем не основанная.
Тем не менее изредка встречаются и между «шалунами» ученые. Я знал, например, одного, который написал хорошенькое рассуждение «о византийском значении древней гривны» и получил за это премию; я знал другого, который написал шестнадцать страничек, под названием «Quelques mots sur le rôle de la noblesse dans l’histoire de la civilisation universelle»[33] но не получил за них ничего. Этих шалунов называли не иначе как l’auteur de la «Grivna», l’auteur de «Quelques mots»[34] и относились к ним с почтительною боязнью. Но это были только счастливые исключения; обыкновенно же шалуны предпочитают заниматься дипломатией.
В молодости естественный шалун специально занимается устройством английского пробора на голове, и в большей части случаев достигает самых блестящих результатов на этом поприще. Этим пробором и ограничиваются требования внутреннего его мира, ибо относительно всего прочего он успел уже разочароваться. Огурчик маленький, но уже сморщившийся, он успел отцвесть не цветя и пошел в семена, еще сам находясь, так сказать, в зародыше. Ничему он не удивляется, ничему не радуется, потому что все уж давно себе разрешил. Он еще в школе закуривался до тошноты, еще там узнал, что у женщины есть такие милые подробности, которые, вместе с французским языком, делают ее существом в высшей степени шикарным, – какая же мудрость может быть выше этой мудрости? Поэтому-то его сбить с толку очень мудрено. «Tout ça est bel et bon, mais tout ça – c’est des utopies!»[35] – говорит он по поводу чего угодно и при этом притворяется, будто и в самом деле у него бог весть как голову разломило от думы. Даже при встрече с полногрудой лореткой он как-то лениво и расслабленно кивает головой, словно и по этой части никакими новыми изобретениями его не удивишь. Нельзя сказать, чтоб он жил без идеи; нет, он имеет идею, но она в том именно и состоит, что никакой идеи иметь не следует. «Mon cher! нам не нужно идеи, – говорит он. – Идеи хороши для тех, кто в них нуждается, а мы сами по себе составляем идею, и, следовательно, для нас требуется только солидарность». Понять эту мысль довольно трудно, потому что тут, собственно, есть только зародыш мысли, но если вникнуть, то окажется, что зародыш этот довольно ехидный. Не поленитесь когда-нибудь наблюсти за улыбками молодого шалуна, за его пожатиями руки, всмотритесь в разнообразные оттенки тех и других, и вы без труда догадаетесь, что это за канальский зародыш. В этих улыбочках откроется для вас весь внутренний мир этой, если можно так выразиться, заживо разлагающейся души со всем ее непроходимым и наглухо замкнутым ничтожеством, со всем ее тайным высокомерием. Вы поймете, что здесь, как в гробу некоем, заключено тление целого мира, что было бы напрасно искать тут признаков жизни, потому что ей нельзя да и нет никакой надобности входить в какое-либо соприкосновение с этим заживо истлевшим миром.
По мере возрастания «шалуна», кругозор его хотя и не расширяется, но зато механически более и более раздается вширь и в высоту сфера его практической деятельности. Он получает возможность выказывать мыслебоязнь не только словом, но и делом. Трепет перед мыслью и лганье самое паскудное составляют все содержание, единственную поддержку этого вечно угасающего, но все еще не могущего угаснуть бессилия. Мысль самая простая, чувство самое законное служат предметом мучительных тревог и отгоняются как нечто докучное, незваным гостем вламывающееся в эту порожнюю жизнь, в которой именно потому так хорошо и жилось, что не чувствовалось никакой мысли. Даже патриотизм (уж на что кажется законнее!) и тот заподозривается, потому что и в нем чувствуется присутствие силы, носящей в себе семена развития, потому что и в нем слышится жизнь. «Шалун» инстинктивно поднюхивает эту силу, инстинктивно же сознает, что она подкапывается под его бессилие, и начинает исподтишка принимать меры к ее сокращению. Эта сила была нужна ему, но она была нужна лишь в той мере, в какой она служила его ничтожеству; но как только она начала выходить из заранее определенных ей берегов и заявлять претензию на что-то живое, существенное, то ясно, что нет никакой надобности в дальнейшем ее поощрении.
Но мыслебоязнь была бы сама по себе ничтожна, если б на помощь ей не являлась интрига, не та, о которой высоким слогом ежедневно беседует с своими читателями M. H. Катков, а другая, гнусненькая, маленькая, упорно расставляющая свои сети на всяком месте, где слышится хоть что-нибудь похожее на присутствие мысли и чувства. Для того чтоб вести такого рода интригу, не требуется даже больших издержек со стороны ума; нужно только убедить себя, что право плотоядности есть высшее право в жизни, что нет на свете средств гнусных, коль скоро они ведут к утверждению этого права, и согласно с этим убеждением направлять свои действия. Все, что кажется нам выше той сферы, в которой мы прозябаем, все, что живет с нами рядом и в то же время живет не по-нашему и не чуждается мысли, – все это ложится на нас горячею укоризною и возбуждает в нас ненависть. И не потому совсем, чтоб это соседство влекло за собой какой-либо непосредственный ущерб для нас, а просто потому, что оно нравственно давит нас, что оно на каждом шагу служит нам безмолвною уликой в том, что в нас не осталось ничего человеческого. Мы сами очень хорошо понимаем, что окончательно изолгались и избездельничались, праздно слоняясь по свету, но в то же время рассуждаем и так: разве какие бы то ни было обличения тут могут помочь? Нет, не могут, потому что обличение, как бы оно ни было праздно и мелко, все же должно ухватиться за какую-нибудь струну, за какой-нибудь признак, а мы именно тем-то и счастливы, что в нас ни струн, ни признаков нет. Следовательно, все, что прямо или косвенно обличает нас, все это принимает в наших глазах характер назойливости и возбуждает наше негодование. И вот мы начинаем интриговать. Мы интригуем сообразно с теми домашними умственными средствами, которыми обладаем; мы не идем открыто против врага, но стараемся как-нибудь обесчестить его; мы притворяемся его друзьями, мы выражаем ему наше удивление и преспокойно ведем его в те западни, которые расставляет ему наша незатейливая изворотливость. Мы рассчитываем даже на честность его; мы знаем, что ему и в голову не придет предусматривать те милые сюрпризы, которые мы подготовляем ему, и ведем да ведем себе полегоньку наши подкопы… И велика бывает наша радость, когда мы убеждаемся, что враг наш наконец свален, и притом свален самыми нехитрыми средствами – почти что с помощью одного лганья! Гвалт, бестолковое карканье стоном стоят над болотом, и долго потом хищное и озлобленное воронье передает из рода в род трогательную повесть о том, как мыши съели короля Поппеля.
Как будто бы король – огарок свечки сальной.(Соч. Акима Нахимова.)Таковы шалуны естественные. Искусственные шалуны, если это возможно, даже хуже их. Над первыми тяготеют известные фаталистические условия, для избежания которых требуется много силы воли; последние принимают эти условия добровольно и даже добиваются их. В применении к ним даже название шалунов не точно; гораздо приличнее назвать их мерзавцами.
Искусственный шалун большею частью принадлежит к сонму людей среднего рода. Он или не знает своих родителей, или стыдится их; средства к жизни имеет ограниченные и всю надежду в этом отношении полагает единственно на самого себя, на свои способности. В молодости его соблазняет блестящая внешность естественного шалуна; его грызет зло и зависть при виде тех легких успехов, которыми пользуется в жизни его прототип. Тут, в этом заколдованном, радужном мире заключается все, о чем дерзает мечтать его мысль: и златотканые одежды, и лоретки, и вкусные яства, и кутежи. Он дает себе слово втереться в этот мир, хотя бы он затворял ему свои двери, втискаться в эту привольную жизнь, хотя бы это стоило ему множества толчков, бесчисленных плевков и целой вереницы самых бесцеремонных оскорблений. Это народ по преимуществу бойкий и даже храбрый, но в то же время многострадальный.
Я знал одного такого господина; звали его Свербилло-Замбржицкий. Однажды рассказал он мне историю своих гимнастических упражнений: поистине это была история подвижническая!
«Фамилия моя, – так начал он свой рассказ, – очень древняя и знаменитая. С одной стороны, существуют достославные графы Свербиллы, с другой, всякому известно, какую завидную роль в всеобщей истории играли князья Замбржицкие. По-видимому, я мог бы быть покоен на этот счет (ибо если для составления моей фамилии два знаменитейших рода подали друг другу руки, то что же может быть лучше?); но в действительности это счастливое сочетание сделалось для меня источником величайших огорчений и мучительнейших досад. Дело в том, что когда я произношу перед кем-нибудь незнакомым свою громкую фамилию, то весьма естественно рождается вопрос: не родня ли я знаменитому графу Владиславу Свербилле и не племянник ли достославному князю Болеславу Замбржицкому? Сознаюсь откровенно, я всегда, при таких вопросах, чувствую страх и озноб вместе, потому что мне всякий раз приходится разуверять моего собеседника, и в то же время как бы просить извинения в том, что я не знаменитый и гнусный Свербилло…
Черт его знает, в самом деле, кто был мой papa! Всякий раз, когда я спрашивал об этом maman (a maman у меня была красавица и до самой своей смерти сводила с ума гвардейских офицеров!), она вместо ответа зажимала мне рот своими розовыми пальчиками и нежно меня целовала. Достоверно, однако ж, что я дворянин: в этом убеждает меня большая аквамариновая печать, на которой изображен герб моей фамилии. Щит разделен на две половины: в одной, на золотом поле, изображен черный лев, вставший на дыбы (герб Свербиллы), в другой, на серебряном поле, черный же орел с раскрытою пастью и распростертыми когтями (герб Замбржицких). Одним словом, все точно так, как и у моих знаменитых однофамильцев; только у меня прибавлена внизу еще надпись: «За усердие», которая, надеюсь, ничему не вредит.
Maman моя, урожденная Войдзицкая, вела жизнь самую приятную; имела прекрасную квартиру, великолепный экипаж и одевалась с такою роскошью, что самые гордые петербургские аристократки завидовали ей. Все это доставлял ей друг ее, престарелый князь Оболдуй-Тараканов. Поэтому воспитание мое было самое блестящее. Ничто огорчительное не поражало души моей, и я рос в полном неведении, есть ли на свете иные рубашечки, кроме батистовых, и иные курточки, кроме бархатных. Из дома я отдан был в лучшее заведение, в котором все внимание воспитателей было устремлено к тому, чтобы сделать воспитанников как бы вышедшими из рук творца, с прибавлением, конечно, милых манер. Разумеется, я употреблял все усилия, чтобы всегда находиться в обществе молодых князей и графов, однако ж не могу сказать, чтоб это обошлось мне без труда. С каким-то жгучим наслаждением (особливо в публичных местах) протягивал я руку графу Сереже Баламутову или князю Léon Шилохвостову, но иногда к этому наслаждению примешивалась столь же жгучая горечь. Помню, однажды князь Léon, находясь в мизантропическом расположении духа, не шутя пристал ко мне с таким вопросом: почему я в публичных местах всегда называю его «cher prince»? «A знаешь ли, – сказал он, заметив мое смущение, – ведь ты, скотина, это для того делаешь, что хочешь всем проходящим показать, что у тебя есть князь знакомый!» В другой раз граф Serge, за ужином у Дюссо, очень громко выразился: «А хотите, господа, я этому гнусному Свербилле…» И хотя он этого не исполнил, однако ж и намерение его не могло меня не огорчить.
Из этого вы можете видеть, mon cher, que tout n’est pas rose ici bas,[36] и что для того, чтоб поставить себя как следует в свете, необходимы не только усилия, но и некоторые огорчения»…
Я не знаю подлинно, успел ли Свербилло-Замбржицкий поставить себя в свете как следует, но думаю, что успел. Эти господа народ покладистый. Скажите им: «Поди к такой-то Мальвине, передай ей то-то» – они пойдут и передадут; скажите: «Поди и напиши тотчас же доклад о высылке твоего отца в Туруханский край» – они пойдут и напишут; скажите: «Делайся публицистом» – они пойдут, сделаются публицистами. Нет для них в природе ничего сокровенного и недоступного; они даже Гибралтар возьмут, если князь Léon хорошенько об том их попросит; конечно, не приступом возьмут, а как-нибудь проскользнут туда, потому что уж очень скользки…
«Шалуны» как естественные, так и искусственные кишмя кишат в этом мире и ловко подставляют ноги всему, что не смотрит на жизнь как на забаву. Они идут по дороге жизни подплясывая, они высовывают толпе язык, и в то же время ловко выкрадывают друг у друга изо рта лакомые куски, которые и стараются поспешнее проглотить… Это целая проклятая система, это целая проклятая каста, в которой трепещет и бьется один принцип – это неимение никаких принципов…
И, разумеется, если смотреть на «общество» именно с этой ограниченной точки зрения, если разуметь под этим словом только собрание шалунов, то нельзя не сознаться, что И. С. Аксаков прав. Это общество, конечно, не только не выставит нескольких сот честных чиновников, которых он так настоятельно требует, но просто не удовлетворит ни одному из семи пунктов его ультиматума. Скажу более: не вторгаясь в сферу гражданственности, в которой преимущественно витает знаменитый московский публицист (ибо она слишком для меня обширна), и ограничиваясь обыкновенною сферою человеческою, я полагаю, что такое общество не в состоянии выставить даже ни одного честного человека.
Но будто бы уж и нет кругом ничего, кроме порождений упраздненной мысли и пламенного чужеядства? Будто бы мир и в самом деле представляет собой такую пустыню, над которой свободно реет голодное и жадное воронье? Будто бы уж и надежды не имеется, будто бы жизнь иссякла в самых источниках, подсечена в самом основании? Воля ваша, а как-то не верится этому; скорее думается, что тут есть какое-то недоразумение…

