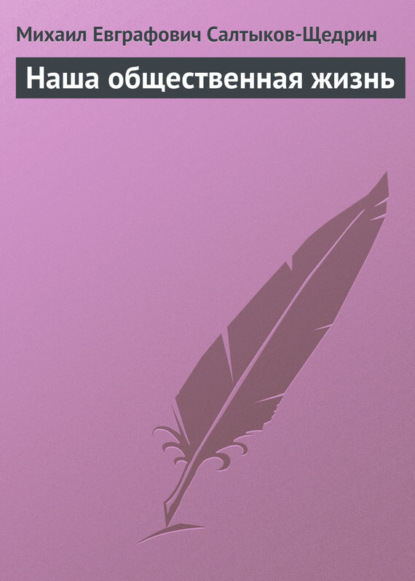 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Наша общественная жизнь
После проектов чувств наибольшая популярность принадлежит проекту об устройстве обывательской стражи. Разумеется, мы совсем не желаем, чтобы обывательская стража была организована у нас на манер иностранных, так называемых национальных гвардий; нет, мы имеем в виду единственно облегчение трудов русского войска на время предстоящей опасности, а когда опасность пройдет, когда войска получат возможность возвратиться в свои постоянные квартиры, то мы, пожалуй, и разойдемся. Так как проект этот первоначально выработался в Москве, то весьма понятно, что он всего сильнее поразил тамошних «метеоров». Я слышал, что они положительно бредят им; вместо того чтоб увеселять гостинодворцев более или менее удачными подражаниями Садовскому в роли Любима Торцова, они облекаются в ризу воинственности и за пятачок серебра представляют, как будут стоять на страже общественного спокойствия с трещотками в руках (таким проказникам дать в руки ружья опасно). Слышно также, что не менее готовности выказывали по этому случаю и московские студенты: многие якобы даже справлялись уже, какие будут мундиры чинов обывательской стражи и чем они будут вооружены. Вообще, публика томилась ожиданием; не было недостатка даже в раздорах. Одних огорчало, что не будет конной стражи, других – что обывательская стража не будет делать походов, а только препровождать арестантов из городских частей в острог (но разве это не поход?). Тем не менее все эти сетования и недоразумения утопали в одном общем чувстве ликования. «Метеоры» надеялись, что по этому случаю на кремлевской площади будут по праздникам ставить жареных быков и отдавать их стражникам на разорвание; учащаяся молодежь надеялась, что ей позволено будет не посещать лекций. Даже люди взрослые и, по-видимому, не пьяницы – и те были вне себя. Один мой знакомый писал ко мне по этому поводу из Малоархангельска: приеду в Москву и на собственный счет вооружу трещотками семь тысяч «метеоров»! Ясно, что если явится пять, десять человек таких доброхотов, то одна Москва в самое короткое время будет в состоянии выставить до семидесяти тысяч хорошо вооруженного войска. Что же могу рещи о прочей России, которой Москва составляет лишь каплю малую? Просто даже волосы становятся дыбом. Каково подспорье, но, главное, каково удобство! Понадобилось войско – есть войско; понадобились «метеоры» – стоит только обобрать трещотки, и вот они! Но я все-таки скажу: как ни завлекателен проект, но, по моему мнению, уж пусть будут лучше метеоры, потому что это будет явным признаком, что все обстоит благополучно, что смута кончилась и что Россия наслаждается вожделенным спокойствием.
Третий проект, тоже очень понравившийся, – это проект русской конституции, начертанной «Русским вестником» в 4-й его книжке за нынешний год. «Русский вестник» недоволен конституциями, существующими на Западе; по мнению его, народные представители в западных государствах имеют право вмешиваться в дела страны и даже контролировать действия исполнительной власти, а этого быть не должно. Поэтому он проектирует такую конституцию, которая, несомненно, подходит гораздо ближе к свойствам русского народа, и предлагает нечто вроде бессменно заседающего новотроицкого трактира. Это, конечно, недурно, потому что за порцией поросенка или за парой чая, конечно, всякое дело идет ходчее, нежели всухомятку, но, по моему мнению, если уж пристойно иметь такую конституцию, то еще пристойнее совсем никакой не иметь. Сверх того, при составлении этого проекта, очевидно, упущено из вида, что такою-то конституцией мы уж давным-давно пользуемся, ибо трактиров в Москве имеется несчетное число, и в каждом из них заседает достаточное количество сквернословов, охотников вмешиваться не в свои дела.
Гораздо менее популярен был четвертый проект: об устройстве правильного крейсерства для перехватывания неприятельских купеческих судов. Об нем вообще отзывались, что он слаб и скомпонован на скорую руку. Оттого ли, что мы, русские, вообще мало воды видим (к сожалению, на Переяславском озере уж нет больше флота!), но нам как-то думается, что либо в Каттегате, либо в Скагерраке, либо в самом Ла-Манше, а уж где-нибудь да изловят нас. Вот если б можно было невидимкой проскользнуть сквозь все эти Каттегаты и Бельты, тогда, разумеется, было бы дело не худое. Но так или иначе, хорош ли проект или слаб, важность не в нем самом, а в той окрыленности, которую с каждым днем все больше и больше приобретает русская мысль. Прежде в подобных обстоятельствах только и слышно бывало, что «умрем поголовно!». Согласитесь, что хотя в этом было пропасть геройства, но вместе с тем было и что-то японское. Известно, что истинный японец (все равно что у нас славянофилы), желающий насолить своему врагу, распарывает себе ножом брюхо и умирает удовлетворенный. Конечно, это обида смертная, однако, к счастию нашему, мы начинаем уже понимать, что удовлетворения в этом все-таки никакого нет. И потому поднимаемся на хитрости. По моему мнению, самая чувствительная заслуга, какую оказала россиянам нынешняя редакция «Московских ведомостей», заключается именно в том, что она первая возвестила миру, что умирать никогда не поздно. Это нужды нет, что ее проекты мероприятий почти равняются умиранию, главное дать толчок русской изобретательности, а там оно и пойдет само собой понемножку. Пройдет смутное время, – глядишь, ан и впрямь умирать будет не нужно.
Наконец, был и еще проект – о неношении дамами платьев из иностранных материй, – но этот потерпел решительное фиаско. Ходят слухи, что он обязан своим появлением инициативе Н. Ф. Павлова, и я этому очень верю. Н. Ф. издавал до 13 июля в Москве политическую газету, по так как никто ее не читал, то он исполнял это дело с прохладою и, следовательно, остающееся свободное время мог легко употреблять на сочинение проектов. До какой степени приятно и лестно издавать политическую газету, которой никто не читает, доказывается тем, что, в то время как «Московские ведомости» выдали уже 118, а «Петербургские ведомости» даже 122 №№ (и куда это они так спешат!), Н. Ф. выдал своей газеты только 103 номера; стало быть, в первые же пять месяцев у него оказалось ровно 15 лишних воскресений, и в том числе одно третие обретение главы Предтечи (празднуется 25 мая, а 26-го «Наше время» не выходило). Мудрено ли, после этого, что от скуки начнешь сочинять проекты? Но, по малодушию русских дам, проект о неношении платьев остался мертворожденным, равно как и другой подобный же проект о непитии иностранного вина. Иностранные виноторговли нынешним летом, по свидетельству достоверных лиц, процветали даже пуще прежнего, потому что изобилие патриотических чувств, по древнему русскому обычаю, вызывало изобилие тостов, а изобилие тостов, в свою очередь, вызывало изобилие чувств. Виноторговля питает содружество, содружество питает виноторговлю – так оно всегда бывает в сем коловратном мире, где и былинка малая может с гордостью сказать (разумеется, если бы могла говорить), что существование ее не бесполезно проходит для мира. Одно московское общество распространения бесполезных книг составляет в этом случае исключение, и в нем-то именно и нашел себе приют проект, приписываемый Н. Ф. Павлову. Мудрено ли, что при такой нечаянной обстановке он не возбудил в обществе никаких симпатий?
Оканчивая с патриотическими проектами и заявлениями, я должен сказать, что как они ни мало удовлетворительны, все-таки в них видно усилие человеческой мысли что-нибудь высказать, а не праздное и бесцельное переливание из пустого в порожнее, сопровождаемое неистовым выдавливанием из себя пустоцветов красноречия. Это последнее занятие решительно невыносимо.
Когда преподаватели реторик повторяют перед нами известное выражение poëtae nascuntur, oratores fiunt,[23] то мы верим им на слово, верим по привычке верить всему, что ни скажут старшие. Однако опыт доказывает, что выражение это совсем неверно и что сделаться оратором, не родившись им, точно так же невозможно, как невозможно сделаться лгуном, не имея к лганью врожденного расположения. Сущность красноречия заключается в том, чтобы совершать несовершимое и прозревать туда, где ничего в волнах не видно; понятно, что для выполнения таких подвигов нужно, чтобы в этом принимала участие сила совершенно независимая, сила сама себя питающая и сама же себя поедающая. Такою силою и является именно красноречие или, лучше сказать, искусство вести такие устные и письменные беседы, которые выслушиваются и прочитываются с приятностью, но в которых между тем нет никакой возможности найти что-либо похожее на мысль.
Следовательно, фигуры и тропы, которым нас обучали в детстве, заключаются в нас самих. Наука в этом случае занимается констатированием факта, уже предсуществующего; она подмечает все реторические волдыри, которые таятся в глубине человеческого существа, называет их настоящими именами и говорит: вот этим волдырем ты можешь воспользоваться таким-то образом, а вот этим – таким-то. Если ты, в сущности, не имеешь никаких чувств, ни дурных, ни хороших, но хочешь выказать возвышенную душу, то для достижения этого можешь прибегнуть к фигуре единоначатия и к фигуре усугубления; если ты нимало не остроумен, но желаешь показаться таковым, то можешь прибегнуть к фигуре умолчания и удержания. Так как фигуры эти живут в самом тебе, в той красноречивой сущности, которая заменяет для тебя и мысль, и чувство, то достаточно самомалейшего усилия, чтобы достигнуть желанной цели.
Например, если б я мое обозрение начал таким образом: «Не знаю, известно ли вам, читатели, какую эпоху переживает в настоящее время Россия?» – конечно, слова эти, с точки зрения внутреннего содержания, были бы пустым празднословием (кому же не известно, что Россия во всякое время какую-нибудь эпоху да переживает?), но если взглянуть на такой приступ с точки зрения красноречия, то он не только возможен, но даже заслуживает всяческого поощрения, ибо представляет совершенно правильную фигуру устрашения. Заручившись ею, я создаю для себя отличную рамку, которую могу сплошь наполнить произведениями моего реторического существа. Я могу сказать, например, что если вам это известно, то, конечно, вы не раз испытывали, не раз ощущали, не раз себя вопрошали (фигура взволнованной души); но с другой, ничто мне не мешает задаться мыслью, что это обстоятельство вам неизвестно, и в таком случае я получу возможность осыпать вас укоризнами и сказать, что вы оторваны от почвы и стоите корнями вверх (фигура патриотического уязвления). Обыкновенно это делается так: если вы петербуржец, то предполагается, что вам ничего неизвестно и что вы стоите корнями вверх; если вы москвич, то предполагается, что вам известно все и что вы не раз задумывались, не раз ощущали, не раз себя вопрошали и т. д. Все это, разумеется, с моей стороны не больше, как произвольное предположение, ибо я сам отлично хорошо знаю, что все это я выдумал, что вы, как и я же, стоите корнями вниз и что, наконец, вы, как две капли воды, точь-в-точь такой же россиянин, как и я сам; но я нарочно притворяюсь, что все сие мне неизвестно, потому что такого притворства требует моя реторическая сущность. Вы скажете, быть может, что такой образ действия равняется толчению воды; что он даже не похвален, потому что возводит на Северную Пальмиру обвинение в несуществующем преступлении; на это я отвечу: что же мне делать! Из меня так и выпирает тропами и фигурами: не проквасить же мне их, в самом деле, на дне взволнованной души!
Возьмем другой пример. Предположим, что я начинаю свое обозрение таким образом: «Милостивые государи! Русляндия заслоняет от наших глаз истинную, православную, святую нашу Русь», я опять-таки знаю, что и это я выдумал, что Русляндии никакой нет, что и Русь была да сплыла, а есть Россия, которую никто и ничто, по причине обширности сюжета, заслонить не может; но вместе с тем я знаю также, что такое начало наверное дает мне возможность со всею безопасностию поместить в моем обозрении и фигуру взволнованной души, и фигуру патриотического уязвления, – именно те две ужасные фигуры, которые преимущественно точат мое реторическое существование. И вот я начинаю пространно объяснять, что такое Русляндия и что такое Русь; из объяснений моих выходит, что Русляндия есть нечто такое, что заслоняет Русь, а Русь есть нечто такое, что заслоняется Русляндией, – больше, клянусь, ничего не выходит. Но это нимало меня не смущает, ибо, в сущности, я совсем не о том и забочусь, чтобы из моего красноречия что-нибудь выходило, а о том только, чтобы сказать несколько «жалких слов», и чтобы при этом состояло налицо самое красноречие. Я знаю, что всегда найдутся люди, которые ни одного жалкого слова без умиления проглотить не могут, – на них-то я и рассчитываю. Это люди тоже в своем роде красноречивые, но не могущие выражать свою реторическую сущность потому, собственно, что красноречие их, так сказать, бессловесное. Это моя любимейшая публика; я рассчитываю на этих бессловесных ораторов, потому что я, кроме того что оратор до мозга костей, есмь и пропагандист. Я пропагандист фигуры взволнованной души, формулирующейся фразой: «Не знаю, известно ли вам, какую эпоху переживает в настоящую минуту Россия», и фигуры патриотического уязвления, формулирующейся целым потоком фраз о различии Русляндии и Руси. В порывах моего пропагандизма, я не оставлю в покое даже малых тех, я посещу земные расседины, я сойду в ад, я пройду сквозь иго цензуры, но жив не буду, если не напою всех и каждого от струй моего красноречия.
О боже! да и двумя ли только приведенными выше примерами исчерпываются поводы для моего красноречия! Разве я не могу найти их на каждом шагу сотни и тысячи? Разве я, так сказать, не попираю их ногами? Прослышу ли я что-нибудь о секвестре, я буду до истомы приставать, исполняются ли правила о секвестре, я буду говорить о том, как это ужасно, что не исполняются, и по этому поводу опять обращусь к Русляндии, и опять докажу, что она заслоняет нашу древнюю, святую, православную Русь, в которой все сие исполнялось. Это нужды нет, что мне положительно известно, что в этих делах Русляндия отнюдь не уступит Древней Руси православной, да и не об секвестре совсем тут идет речь, да и не желаю я его совсем, а вот подвернулась под руку именно эта, а не другая фраза, я и щелкнул; сначала щелкнул слабо, потом сильнее и сильнее и наконец заслушался самого себя. Попадись мне под руку другая фраза, хоть бы, например, такая, что секвестр имеет свои неудобства именно по растяжимости понятия, которое он в себе заключает, и т. д. (некоторые московские публицисты эту штуку очень хорошо поняли), я защелкал бы и на этот мотив и опять обратился бы к Русляндии, опять доказал бы, что она заслоняет собой нашу Древнюю Русь православную, где никаких этих секвестров не знали и слыхом не слыхали, а просто брали всякую штуку не спросясь.
Мало вам этих примеров, я могу, коли хотите, и слиберальничать. Чем кровь-то проливать, скажу я, лучше было бы спросить польский народ, чего он желает. Надеюсь, что фраза – первый сорт. Конечно, мне могут возразить: над какими это вы пустяками все убиваетесь! Как это спросить польский народ, да и кто его спросит? Но разве я не знаю, что все это пустяки и что спросить польский народ нет никакой возможности, однако не виноват же я, что мне в данную минуту пришла смертная охота спрашивать польский народ! Поймите, что здесь идет дело лишь о том, чтобы провести время, чтобы употребить в дело один из тех булыжников красноречия, которых запас я постоянно держу у себя за пазухой, чтобы по временам метать ими в русскую публику.
Главное заключается в том, что я вышел на ровную дорогу и могу, как паук паутину, беспрепятственно испускать из себя красноречие. Буду откровенен: хоть я и ратую против Русляндии, но, в сущности, она мне совсем не противна. Мне даже жаль, что она смотрит на меня искоса; я даже уверен, что это происходит от недоразумения, потому что дай она мне высказаться до конца, она увидела бы сама, что мы с нею желаем одного и того же. Чего я желаю? чего добиваюсь? Я желаю и добиваюсь для себя только одного: чтобы мне не препятствовали употреблять слово «Русляндия», – что же может быть невиннее этого желания! Предположите даже, что это с моей стороны каприз, отчего же не допустить и каприза, если он никому не наносит вреда? Говорят, будто я смотрю как-то исподлобья, как будто чем-то недоволен, как будто желаю произвести какой-то «хаос-кавардак»! да поймите же, наконец, что это с моей стороны только будирование, что это просто милая шалость, результат желания занять какое-нибудь положение в обществе. Сегодня я будирую, завтра прихожу в восторг, послезавтра опять будирую, потом опять прихожу в восторг. На свете сем вообще нет ничего вечного, а все, напротив того, временное, непрочное и преходящее; а так как чувства мои, в своих проявлениях, следуют общим жизненным законам, то понятно, что и они имеют характер временный и постоянно идут колесом. Вот и всё. Опасности здесь никакой не может быть, ибо и будирования и восторги, в сущности, выражают лишь мой «дух жизни» – и больше ничего… Вспомните тех русских бар, которые во время оно отъезжали, за ненадобностью, в Москву, – разве они не будировали? разве не выражали они свою «жизнь духа»? но разве им запрещалось это? разве кто-нибудь опасался их?
…………….
Не думайте, милостивые государи, чтобы все рассказанное выше было видено мною во сне: нет, хоть мне и самому казалось, что все это не больше как бессвязный сон, но я бодрствовал. Передо мной и до сих пор лежат номера «Дня», в которых все эти сновидения изложены в подробности, и даже называются руководящими статьями: «Москва. 11, 18 и 25-го мая».[24] В каких-нибудь трех номерах газеты совместить столько реторической сущности – как хотите, а это труд громадный! Целых три дня беседовать с публикой, и не проговориться при этом ничем, кроме чистого красноречия, – как хотите, а это фокус, которому не было доселе примеров ни в черной, ни в белой, ни в голубой, ни в розовой магии! Это магия совершенно новая, а потому пускай она носит отныне название желтой.
Это жаль; «День» был грустен, но я любил его; в нем было нечто свежее, напоминавшее хорошо сохранившуюся средних лет девицу. Несмотря на достаточные лета, это девица еще неопытная, сберегшая во всей чистоте свои институтские убеждения; она во многом не отдает себе отчета и решительно не может себе объяснить, чего хочет и к чему именно стремится, но в то же время и во сне и наяву чувствует, что кто-то ее хватает, кто-то подманивает, а потому не хотеть и не стремиться не может. Это придает какую-то трогательную задумчивость всем ее движениям и сообщает ее душевным помыслам то кроткое постоянство, которое заставляет ожидать жениха даже тогда, когда нет никакой надежды на его появление. Такой орган, от которого всегда пахло бы чем-то кисленьким, решительно необходим в литературе; он представляет в ней вечную нейтральную территорию, на которую по временам отрадно бывает вступить, как отрадно же бывает по временам вспомнить детские годы и сказать себе: да, и я был когда-то ребенком! и я когда-то картавил и лепетал «папа» и «мама»! Я никогда без умиления не мог читать краткие, но сильные premiers-Moscou[25] периодически появлявшиеся в заголовке «Дня», до той недавней минуты, которая, к удивлению моему, развязала ему язык. «Москва такого-то числа и месяца», – так гласили эти руководящие статьи, – затем черта, затем «жених» – и ничего больше. Это было так оригинально и вместе с тем так невинно язвительно, что я долгое время был убежден, что это именно самая лучшая манера писать русские руководящие статьи. Во-первых, тут тонким образом дается знать, что я и рад бы, да не от меня зависит; во-вторых, читатель от этого решительно ничего не теряет. Ведь он наверное знает, что, за что бы я ни взялся, о чем бы ни начал говорить, роковая сила все-таки приведет меня к вопросу о различии Руси и Русляндии; следовательно, он может сочинять упражнения на эту тему и без моей помощи.
Оказывается, однако, что девица моя совсем не так невинна; оказывается даже, что она чуть ли не состояла в тайном браке с той самой Русляндией, о которой выражалась с тою невинною иронией, какую обыкновенно употребляют все вообще пожилые девицы, говоря о мужчинах: фи, противный! Да, именно так, потому что, если и теперь еще девица моя продолжает иронизировать насчет Русляндии, то я уже очень хорошо понимаю, что это совсем не ирония, а одна из тех стыдливых bouderies,[26] о которых гласит русская пословица: «Милые бранятся, только тешатся». Иначе откуда бы взялось у них такое согласие в воззрениях и стремлениях? Откуда бы явилась, с одной стороны, такая полнота дерзновения, а с другой – такая полнота поощрения? Нет, как хотите, а тут что-нибудь да есть: тут есть, по малой мере, надежда на явный брак.
Но и за всем тем, мне жаль «Дня»; то есть мне не столько жаль его самого, сколько моей старой привязанности к нему. Мне даже и теперь кажется, что ежели он хорошенько взбунтуется и свергнет с себя иго красноречия, то будет даже милее той средних лет девицы, о которой я выразился выше с таким сочувствием. Мне кажется, что если он даст себе труд хорошенько размыслить, то непременно придет к убеждению, что эти переходы от будированья к восторженности и от восторженности к будированию не заключают в себе ничего поучительного, что здесь сегодняшняя восторженность служит лишь обильным источником будущих будирований. Он поймет, что нет той силы обстоятельств, которая могла бы столкнуть мысль (если только есть мысль) с того логического пути, на котором она стала. Он поймет… но нет, он ничего не поймет! Он не поймет уже по тому одному, что в раздвоении мысли именно и заключается та сила, которая позволяет ему быть красноречивым во всякое время. А так как, с другой стороны, красноречие составляет дело всей его жизни, то возможно ли желать, чтоб он отказался от этого дела и добровольно обрек себя на смерть? Нет, это невозможно, да и несправедливо. Я понимаю, что человек, принадлежащий к известной политической партии, может, убедившись в несостоятельности руководящих ею начал, отказаться от них, но к настоящему случаю это не относится. Ибо, скажите на милость, что ж это за партия такая, – партия красноречия? и куда из нее выйти, и с чем в люди показаться?
Я с намерением остановился на «Дне», потому что явление это в высшей степени характеризует время, которое мы переживаем и которое, по всей справедливости, можно назвать временем красноречия. Но путь этот, хотя и кажется издали усыпанным цветами, в сущности, есть путь погибельный и ложный, и общество, упорствующее оставаться на нем, скоро отвыкает от трезвой и прямой деятельности и приучается к преувеличениям. Поэтому литература, как представительница высших общественных стремлений, должна в этом отношении соблюдать особенную осторожность. Литература может поучать забавляя, но горе ей, если она будет забавлять поучая. Орган, который вдается в подобный промах, может, конечно, иметь своих диктаторов-приверженцев, но публика очень скоро оставит его в самом горьком одиночестве.
Когда человек сыт и доволен, когда дела или делишки его пойдут изрядно, то он почти всегда наклонен думать, что этой сытости и довольству не будет конца. Особливую в этом смысле способность оказывают люди, которые любят ловить рыбу в мутной воде и которым такое ловление несколько раз более или менее счастливо сходило с рук. Поприще свое они обыкновенно начинают тем, что прикидываются лазарями, прилежно прислушиваются и приглядываются, но, обделавши с успехом два-три дельца, постепенно ободряются и в скором времени начинают ломаться и кривляться во всю мочь. Опираясь на свой успех, эти люди не только воображают себя великими и непобедимыми дельцами (а деловитость их в том только и заключается, что они умеют платки из чужих карманов среди бела дня таскать), но, к величайшему и всеобщему изумлению, сами приобретают даже какую-то олимпическую уверенность в своем бесспорном праве ловить рыбу в мутной воде. В порыве гордости они не прочь даже запутать и провидение в сотоварищи своих гнусненьких проделок. «Это мне бог послал!» – говорил мне однажды один мошенник, ловко ограбивший своего ближнего, и я совершенно убежден: во-первых, что он вполне верил тому, что говорил, и, во-вторых, что он отнюдь и не подозревал, что произвел грабеж, а очень наивно думал, что воспользовался только своим правом. Для этих господ общественное бедствие вместо праздника, а чужое несчастие вместо лакомого пирожного: все это мутит воду и позволяет им вылавливать рыбку за рыбкой, рыбку за рыбкой. Если судьи неправедны, если администрация злоупотребительна, если общество цепенеет под игом безгласности – все это им на руку, потому что потворствует их наглости, запугивая и систематически придавливая ту среду, в которой они действуют. Наружность эти люди имеют самоуверенную, глаза алчные и бесстыжие, нос поднюхивающий, рот широкий, череп непомерно толстый. Внутренние их свойства составляют: нахальство и полнейшее отсутствие сознания о различии, существующем между добром и злом. Пассивность общества поощряет эти свойства, доводит их до разврата, и даже до галлюцинации, и поселяет в них сладкую уверенность, что такому блаженству не будет ни препон, ни конца. Я знал одного такого господина. Пришел он некогда в Москву откуда-то из-под Воронежа, пришел пешком, и, что называется, без исподнего платья – и что же? послужил в комиссариате, и в каких-нибудь десять лет, с помощию одного нахальства, успел нажить себе несколько домов в Москве и значительный капитал. Теперь живет в Москве, пользуется общим уважением, называет мужиков хамами и ракалиями, занимает какую-то «благородную» должность и по временам даже будирует правительство. Замечательно, что это человек положительно глупый, что все проделки его пошлы и крайне незамысловаты и что все искусство здесь заключается в расчете на чужую честность или на чужую оплошность. Продает, например, этот господин свое имение и, при осмотре его, показывает покупщику чужой лес, или сдает съемщику фрукты в своем саду, получает с него задаток и приглашает в дом запить магарычи, а в это время нашустренный им садовник призывает баб и преспокойно себе собирает дочиста все фрукты. Штуки, очевидно, все незамысловатые, но этот человек до того возгордился своею подлостью, до того возвеличился тем, что всякий скорее спешил бежать от него, как от чумы или как от вонючей помойной ямы, что плыл по океану жизни, как оглашенный, на всех парусах и даже рулем править пренебрегал. Эта самонадеянность довела его, однако ж, до того, что он несколько раз был бит, но это бы еще ничего – и самый ловкий мошенник всегда рассчитывает на возможность побоев, – главное-то горе его заключается в том, что, с некоторым пробуждением общественного сознания, проделки его стали удаваться все меньше и меньше, и сверх того в сердце поселилось горькое предчувствие, что не всегда же будут судьи судить и рядить по усмотрению и что правде формальной, правде, опирающейся в своих решениях на одну букву, наступит же когда-нибудь и конец.



