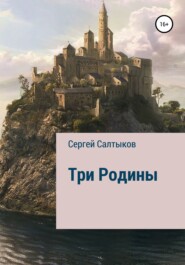скачать книгу бесплатно
Три родины
Сергей Салтыков
Автобиографическая повесть. Три гражданства и эмиграция внутри одной страны. Российско – Украинский разрыв сквозь призму взаимоотношений в одной обычной семье. В книге описаны десятки реальных событий происходивших в Донбассе, Приднепровье, Крыму и Приволжье в период с 60-х по 2016 годы.
Сергей Салтыков
Три родины
Предисловие
Я замкнул наш родовой пассионарный круг. В масштабах всеобщей истории этот поход, наверное, малозначителен и малоинтересен для всех, кроме меня самого. Всего лишь три тысячи километров в пространстве и три поколения во времени. Я не страдаю мистицизмом, не являюсь сторонником метафизического мировоззрения. Стараюсь воспринимать действительность объективно и прагматично. Но я не могу избавиться от ощущения, что мой частный случай является конкретным проявлением мощного и значимого процесса, затрагивающего и меняющего жизни миллионов людей.
Первым из далекого приволжского села на Украину отправился мой дед, тезка Сергей Павлович. Отправился не по своей воле. Это было в июне 1941 года, уже несколько дней шла Великая Отечественная война. Его поход закончился очень быстро. В июле он погиб на берегах Днепра, сдерживая стремительное наступление фашистской орды. До сих пор я не смог установить ни места его гибели, ни места захоронения. В лучшем случае – это одна из многочисленных братских могил, навечно скрывших тайну смерти тысяч безымянных солдат.
Вторым был мой отец – Михаил Сергеевич. Отслужив срочную службу в рядах Советской Армии, он последовал примеру сотен своих земляков и в 1956 году уехал на Донбасс восстанавливать разрушенные войной шахты. Позже перевез туда свою мать, мою бабушку Ольгу Андреевну, и жену Евдокию Александровну. Двадцать пять лет работы в забое дали возможность деревенскому парню реализовать все свои бесхитростные цели и жизненные установки – родить и воспитать троих детей, построить хороший дом, выйти на льготную и обеспеченную пенсию. Он гордился результатами своей, пусть тяжелой и короткой, но правильной и активной жизни. До последних ее дней считал себя гражданином Советского Союза. Любил и уважал свою страну и ее народ.
Я продвинулся еще дальше. И в прямом, и в переносном смысле. Желание жить самостоятельно и независимо от родителей, строить собственную жизнь своими головой и руками, занесло меня, 17 летнего юношу, еще дальше вглубь Украины, в один из областных центров Приднепровья. Выбор этого города был быстрым и почти случайным. В нем у меня не было ни одного знакомого человека. Если не принимать во внимание, что именно в тех местах покоился неопознанный прах моего деда, защищавшего эту землю в трагические дни начала войны.
Я свято чту память об отце и деде, ценю народ и землю, за которую они отдали свои жизни. Но в один прекрасный день, вернее ночь, я отчетливо и ясно понял, что не хочу и не могу больше жить на Украине, тем более – умирать на ней, за нее, или из-за нее. Это произошло в конце 2011 года. Более полувека я прожил на территории страны своего рождения. Не пересекая ее исторических границ, за это время успел стать гражданином трех самостоятельных государств – Советского Союза, независимой Украины и Российской Федерации. При сохранности всех бывших и действующих паспортов, я и сейчас чувствую себя их гражданином. Не новоиспеченным космополитом, коллекционирующим паспорта и зарубежную собственность, а именно гражданином, по естественному и справедливому праву рождения и проживания. Все эти годы меня мучил вопрос – где моя настоящая Родина? После долгих и тяжелых раздумий я пришел к выводу, что Родина не ограничивается тем местом, где ты физически появился на этот свет. Родина-это пространство, где формировался и веками жил твой род. Жизненно необходимая среда, с которой ты связан невидимыми неразрывными узами, питающая тебя живительной энергией от рождения до самой смерти.
После осознания этого вывода, как когда-то мой дед и отец, я отправился в путь. С одной небольшой дорожной сумкой. Но уже с другим жизненным опытом, с другими мыслями и чувствами. И – в обратном направлении. Я возвратился в исходное место. В то далекое приволжское село, где веками жили мои предки. Где еще остались люди, знавшие и помнящие моих прадедов, дедов и родителей, многочисленных дядьев и теток. Я возвратился на Родину.
Все мое близкое и далекое окружение восприняло и оценило мой поступок по-разному. От постыдного бегства, до уникальной прозорливости и предвидения будущего. Естественно, по-разному его и называли. Но все сошлись в том, что для мужчины на шестом десятке лет, это – действительно очень серьезный поступок. Сам я назвал это событие репатриацией, возвращением на Родину, новым ее обретением. Если бы не трагические события на Украине, такое возвращение можно было бы считать неприметным, малозначительным случаем. После них, я обнаружил, что мой частный случай стал составной частью какого-то более мощного и значимого процесса. Этот процесс ощутимым образом изменил привычный для всех фон естественной миграции. Она приобрела совсем другие смыслы и перспективы, грозящие непредвиденными и опасными последствиями. Имеет все шансы перерасти на огромных просторах Евразии в новую волну беспрецедентного пассионарного движения, стать началом нового витка идеологических, политических, социальных и культурных перемен планетарного масштаба. И снова, уже в который раз в истории, главной причиной и основной движущей силой этого процесса, стала Россия, моя истинная и вновь обретенная Родина. После этого моего открытия, на первый план снова вышли извечные русские вопросы: что происходит, кто виноват и что теперь делать? Для меня, как и для всех остальных, давно уже стало понятно, что искать ответы на все три вопроса, необходимо в далеком и не очень далеком прошлом. Своем личном, и нашем общем. Без спокойного и непредвзятого осмысления прошлого, трудно понимать настоящее и невозможно представить будущее.
Глава I. ОТЧИЙ ДОМ
СССР, Донбасс. Начало 60-х
Сегодня на нашей улице праздник. Праздник в нашем доме, в нашей семье. У нас – пополнение. Недавно родилась моя младшая сестра, назвали Светланой. К празднованию события и крестинам, несколько дней готовилась почти вся улица. Для меня и старшей сестры Татьяны праздник обернулся горем и страшной трагедией-с утра мы проревели полдня. Готовя угощения, отец забил много домашней живности. Если поросенка, кур и гусей нам было не жалко, кроля Борю-самого большого и почти ручного, мы простить ему не могли. Даже учитывая повод и радуясь рождению сестренки. Взрослым утешать нас было некогда. Отец с соседом и моим крестным отцом расставляли в саду длинные столы, по ходу сбивая из досок недостающие лавки, мать с соседками и землячками хлопотала на кухне. Наши с сестрой страдания и планы жестокой мести всем взрослым прервали гости, первыми прибывшие из самых отдаленных поселков. В основном, это были земляки из приволжских деревень, переехавшие в Донбасс чуть раньше, или чуть позже родителей. Многих из них мы уже знали, некоторых видели впервые. Кроме подарков и гостинцев, основное наше внимание привлекали их дети. Мы с интересом и любопытством рассматривали друг друга, молча ожидая, пока взрослые вспомнят о нас, закончат свои долгие, эмоциональные приветствия и перезнакомят нас между собой. Позже начали подтягиваться коренные дончане, шахтеры из отцовой бригады. Их семьи бывали у нас дома не так часто, как земляки, но наше детское поколение уже не ощущало никаких территориальных и временных отличий, связанных с особенностями знакомства и взаимоотношений родителей. Мы все ощущали себя равноправными детьми Донбасса. Нас не интересовали и не смущали безобидные прозвища, проскакивающие периодически во взрослых разговорах, связанные с прежними местами жительства друзей и соседей. «Немцы» Торины, высланные в Донбасс из столичного региона еще до войны, никоим образом не ассоциировались в детском сознании с фашистскими оккупантами, хотя о недавней и не забытой войне говорили часто и много. «Бандеры» Нестерчуки и Шевчуки, поселившиеся по соседству одновременно с нашими родителями, были для нас просто западными украинцами из Ровенской области. О самом Степане Бандере и его роли в нашей истории в то время не знали даже большинство взрослых, и искать какую-то взаимосвязь между ним и добрыми, веселыми соседями никому не приходило в голову. «Монгол» Ямпольский, хоть и соответствовал прозвищу лицом, к Монголии не имел никакого отношения, а их семья уже несколько поколений жила в Донбассе и считалась на улице старожилами. Более явный и серьезный водораздел между жителями улицы проходил совсем в другой плоскости. Рядом проживали несколько семей, чьи мужчины в той или иной степени сотрудничали, или проявляли излишнюю лояльность к оккупантам в годы войны. Две таких семьи знали все приезжие. Детей в этих дворах, почему-то не было, старики-затворники нас не интересовали, и мы неосознанно обходили эти дома стороной. Вспоминали о них больше по праздникам. Приняв лишнего, самый непримиримый и отчаянный из соседей, дядя Миша Черноиваненко, скорее всего по каким- то личным мотивам, часто порывался разобраться с предателями. Он хватал ружье и подбегая к высокому забору, громко требовал бывших полицаев выйти на народный суд. Другие соседи, в который раз доказывая, что они уже отсидели свое, больше никому не вредят, силой или хитростью отнимали ружье и уводили пьяного мстителя проспаться. Стрельбы никогда не было.
Встреча гостей представляла собой определенный ритуал. Отец или мать водили их по всем комнатам недавно выстроенного просторного дома, с нескрываемой гордостью показывая все комнаты, новые приобретения мебели, бытовой техники и одежды. Это же касалось и еще недостроенных помещений двора, домашних животных. Мне виделось в этом определенное хвастовство, особенно, когда их внимание касалось нас, и родители гордились детьми, как несмышлеными и беспокойными, но самыми ценными атрибутами общего хозяйства. И лишь позже я понял, что это был необходимый и разумный обмен опытом и информацией между переселенцами, проходящими тяжелый период адаптации в новых условиях. Большинство из них переехали из глухих деревень. Жизнь даже в частных домах, но в черте крупного промышленного города, в окружении соседей, прибывших из всех уголков СССР, требовала существенного пересмотра привычного, не менявшегося поколениями, уклада. Даже если предприятие предлагало жилье в общежитии или в многоквартирном доме, они упорно селились в частном секторе, получая новые жилищные участки, или покупая старые, глинобитные хаты. Такая же хата, постройки начала ХХ века, рядом с новым современным и просторным домом, продолжала стоять и в нашем дворе. В ней жила бабушка Ольга. Низенькая, крытая многократно просмоленной толью, ее крыша утопала в густой зелени старых деревьев и была почти незаметна со стороны улицы. Зато шахматный узор шиферной крыши нового дома ярко выделялся на фоне похожих соседних домов и служил прекрасным ориентиром при рассматривании поселка с вершин окружающих его терриконов. Наш город называли городом 100 терриконов. С вершины любого из них, с высоты птичьего полета, на многие километры вокруг открывалась удивительная по красоте панорама. Группы остроконечных и пологих искусственных гор, разные по высоте и цвету, самые старые из которых уже начали зарастать кустарником и деревьями, соединялись между собой бесчисленными нитями железнодорожных путей с беспрерывно снующими туда – обратно составами. Шахтные постройки, высокие башни стволов, увенчанные огромными вращающимися колесами, опускающими клети с шахтерами в забой, разделялись утопающими в зелени поселками, а далеко на юго-западном направлении маячили силуэты многоэтажного центра города.
Ближе к вечеру застолье постепенно сменялось танцами и песнями. Хотя у отца было 2 электрических патефона, на которые изредка ставили виниловые пластинки с романсами и вальсами, большинство отдавало предпочтение гармони, баяну или аккордеону. Барыни, цыганочки и краковяки неожиданно сменялись гопаком или чардашем. Когда русские затягивали «По диким степям Забайкалья…»или «Из-за острова на стрежень..» – украинцы через мгновенье, сначала робко, в пол голоса, потом все громче и увереннее подхватывали песню, угадывая и на ходу запоминая незнакомые слова. Потом уже они запевали «Нэсэ Галя воду…» или «Ой чий то кинь стоить…» – и подпевать старались все русские. Частушки одновременно звучали и на русском и на украинском языках. Иногда, забыв о путающихся под ногами, или сидящих в сторонке детях, взрослые вплетали в них смущавшие нас острые словца универсального, объединяющего всех матерного языка. Чья-нибудь, вовремя спохватившаяся мамаша, выпроваживала нас со двора на улицу. Мы не сильно сопротивлялись. У нас уже сформировались собственные традиции и любимые способы совместного времяпровождения. Пользуясь отсутствием взрослых, уже соседские дети, на правах маленьких хозяев, приглашали всю нашу компанию к себе домой. Кроме игрушек, велосипедов и домашних животных, всем очень интересны были разнообразные детали украинского, белорусского и татарского быта, отсутствующие в собственных домах и дворах. Ближе к полуночи, веселыми и шумными группами, гости расходились по домам. Уставшие, или далеко живущие – оставались ночевать. В новом доме места хватало всем.
СССР, Горьковская область. Конец 60-х.
Мы уже проехали поездом, как мне показалось, пол страны. От Донецка до Арзамаса. С пересадкой в Москве. Мать везла нас, троих малолетних детей, на лето к дальним родственникам в деревню. Как она говорила – на родину. То ли из-за желания сэкономить, то ли из-за опоздания на рейсовый автобус, последние несколько километров мы тряслись по проселочной дороге в кузове колхозного грузовика, наполовину заполненном молочными бидонами. Трое попутчиков- односельчан, узнав мать, с интересом расспрашивали о городской жизни в Донбассе. При этом удивлялись ее смелости, отправившейся одной, без отца, с таким багажом в дальнюю и трудную поездку. Кроме троих уставших, но до предела возбужденных путешествием детей, мать везла несколько сумок и чемоданов одежды, продуктов, гостинцев и подарков. Я мало уделял внимания их разговорам, так как меня больше беспокоили непрерывно скользящие по металлическому полу кузова ненавистные бидоны, норовящие зашибить ноги, или испачкать новые штаны остатками молока. В добавок, одновременно приходилось защищать от них двух испуганных сестер. Неожиданно поймал себя на ощущении, что меня что-то смешит и веселит до умиления. Без труда определил – это уже знакомый, приятный ушам и сердцу деревенский приволжский говор, на который, незаметно для себя, перешла и мать.
В деревне нас встречает тетка Дуня. Быстро обняв и поцеловав меня, она сразу же переключается на мать и сестер, с громкими, радостными причитаниями, бесконечными поцелуями и объятиями увлекая их в избу. Разгружая багаж, я все время вертел головой, с интересом рассматривая огромные тополя у церковной колокольни, где шумно выясняли отношения грачи и вороны, небольшое стадо свиней, спокойно купавшихся в луже и разгуливавших по главной улице, старые бревенчатые избы с замысловатой резьбой на фасадах крыш и наличниках окон. Это уже третий визит на моей памяти. Многое мне уже знакомо и привычно. Тем не менее, мое детское сердце наполнилось радостью ожидания чего-то нового, доселе неизвестного и необычного.
Лето пролетело стремительно и незаметно. Уже середина августа. Мы успели все. Побывали в гостях у родни в соседних деревнях и поселках, передали многочисленные приветы и гостинцы от уехавших в Донбасс родственников и земляков. Были на пасеке у деда Семена. Я до сих пор не мог сложить о нем однозначного мнения. Высокий и худощавый, с длинными седыми волосами на голове, буденовскими усами и окладистой бородой, при первом знакомстве он напоминал мне Дон Кихота. После непродолжительного общения, я видел в нем уже старца-старообрядника. Расставаясь, был уверен, что видел его портрет на одной из икон в старой бабушкиной хате. Больше всего мне нравилось чаепитие с его участием. Имея большие запасы разных сортов меда, он почему-то считал показателем своего благополучия, наличие на столе не этого вкусного деликатеса, а твердого, кускового сахара. Расколов специальными кусачками грудку сахара на несколько маленьких частей, он неспеша отправлял их в, скрытый густой растительностью, рот и неторопливо запивал несколькими блюдцами чая из старого пузатого самовара. Чаепитие могло растянуться на полтора-два часа. Все это время он разговаривал. Так же спокойно и неторопливо. Иногда трудно было понять, кому из присутствующих предназначались его слова. Порой казалось, что он разговаривает сам с собой. Особо мне запомнился его горький сарказм в отношении сельчан, уезжающих жить в большие города. Он считал, что искать работу и счастье на чужбине – неправильно. Этого всего предостаточно и здесь. Уезжая, теряют более важное и ценное. Что именно – так и не сказал. Думаю, он имел в виду и моего отца.
Если за грибами, земляникой и малиной мы со сверстниками в ближние леса ходили самостоятельно, поездка за черникой в дальний лес превратилась в целое мероприятие, закончившееся интересным приключением. Собралась целая бригада взрослых и детей. Вместо отдыха и приятного времяпровождения, на первый план уже выходила традиционная заготовка припасов на зиму. Кто-то из сельчан ПАЗиком отвез нас в отдаленную деревню, где мы ночевали в незнакомой мне семье. Детей положили на кровати и просторной русской печи, взрослые расположились на матрасах, подстилках и цветных тканых дорожках, прямо на полу. Считая себя уже взрослым, я убедил мать и устроился рядом с ними.
Ранним утром местный лесничий отвел нас на делянку, объяснил главное направление движения, и удалился, пообещав встретить ближе к вечеру. Наверное, все слишком увлеклись разговорами и хорошим урожаем черники. Как позже выяснилось, двигались мы совсем в другом направлении. Когда все ведра были заполнены, а время перевалило за полдень, оказалось, что никто не знает, как выбираться обратно. Долго спорили, поверили самому бывалому, и в итоге, пошли в противоположную сторону. Мать, довольная удачным сбором ягоды, сначала весело подшучивала над подругами, что мол, нам городским простительно, но как могли заблудиться вы – деревенские? После нескольких часов ходьбы ее настроение изменилось и она стала жалеть и переживать за нас с сестрой. Хорошо еще, что меньшую оставили у тетки. На старой и уже почти заросшей просеке я впервые увидел, как над нами открыто смеются белые грибы. На протяжении нескольких десятков метров, как бравые солдаты, лихо задрав свои шляпы, примерно с одинаковым интервалом ,стояли отличные боровики. Брать их было некуда, полные черники ведра и без того отрывали уставшие руки. Вышли к какой-то маленькой станции и потом еще долго ехали электричкой. В деревне женщины пытались обвинить в случившемся лесника, но он только посмеивался и поучал, что к лесу и его загадочному и невидимому хозяину-старичку лесовичку – нужно относиться более серьезно и уважительно.
Обычно, весь день проходил в кругу деревенских мальчишек. Мы пропадали на Кянерге или Кудлейке, ловя щурят и ротанов, что-нибудь мастерили, укрывшись в траве за избами, играли в футбол и лапту. Мне нравилась бесхитростность, открытость и доброта местных ребят. Они казались намного взрослее и разумнее своих более шустрых и агрессивных донбасских сверстников. Несколько дней назад сестра познакомила меня со своей новой подружкой, симпатичной ровесницей Леной. Она с родителями тоже приехала из далекого уральского города в гости к бабушке, живущей напротив. Наше знакомство стремительно переросло в дружбу, а взаимная симпатия – в трудно скрываемую детскую влюбленность. Смекалистые деревенские друзья, быстро вникли в складывающуюся ситуацию, и внесли необходимые изменения в устоявшиеся традиции взаимоотношений мальчукового и девчачьего населения деревни. Стали преобладать совместные с девочками игры и посиделки, дающие нам с Леной возможность больше видеться и общаться. Накануне моего возвращения в Донбасс, мы с ней уже на полном серьезе жалели о том, что наши родители в свое время неосмотрительно покинули родную деревню, разъехавшись на тысячи километров в разные стороны необъятной страны. Обменявшись адресами, клятвенно пообещали часто писать друг другу письма и ежегодно встречаться здесь на каникулах.
Отъезжать запланировали завтра утром. Дни уже заметно сократились, ночами стало прохладно. Тетка весь вечер пекла пироги в дорогу. Она предложила нам спать на еще теплой печи. Сестры тихо посапывали рядом, а я который час, не мог заснуть. Мои чувства будоражили мысли о том, что на этой печи, наверняка, не одну ночь провели мой дед и отец, множество других дальних и близких родичей. Годы и судьба разбросали их далеко за пределы родной деревни. Многих уже нет в живых. Наверное, мне просто не хотелось уезжать.
СССР, Донбасс. Начало 70-х.
Мне надоело неподвижно лежать на жесткой кушетке. Я снова взял костыли и пропрыгал несколько кругов по тесным комнатенкам старой бабушкиной хаты. Вошедшая со двора баба Оля, увидев меня, жалобно запричитала: «Ох, убьет меня Мишка, убьет! Ложись на место, доктора велели тебе лежать! Господи, за что мне такое наказание?!»
Я понимал, что она действительно переживает и боится возвращения отца. Послушно поставил костыли в угол и снова устроился на кушетке. На этот раз результаты наших уличных игр и неосмотрительных шалостей налицо, скрыть их от родителей не удастся. Буквально на следующий день после отъезда отца, матери и младшей сестры в гости к родственникам в Горьковскую область, со мной случилось очередное ЧП. Во время игры в саночный таран, я получил тройной закрытый перелом левой голени. Несколько дней провалялся дома, мужественно крепясь, терпя сильную боль и успокаивая бабушку, что ничего страшного не произошло – всего лишь небольшой ушиб. Но когда нога до безобразия отекла и посинела, она перестала верить моим сказкам и против воли отвезла меня в больницу. Там, наслушавшись упреков за несвоевременное обращение и страшных прогнозов о неминуемых осложнениях, испугалась больше меня и пообещала врачам строго следить за выполнением всех указаний и рекомендаций. Мне наложили гипс и госпитализировали во взрослое травматологическое отделение. Бабушка оставалась на домашнем хозяйстве одна, ей тяжело было ездить ко мне в больницу на другой конец города. Совместными усилиями уговорили врачей выписать меня из стационара досрочно, и возвращения родителей я дожидался уже дома.
Уличные игры, по мере нашего взросления, становились все более жесткими и травмоопасными. Так сложилось, что дети на нашем поселке рождались и росли какими-то своеобразными регулярными волнами. Как будто наши родители заранее договаривались. Возможно, это было связано с периодичностью трудовых наборов на шахты или выделения участков под застройку жилья. Впереди нас,11-12 летних, по поселковой жизни уверенно шла многочисленная и сплоченная группа 15-16 летних старших братьев и сестер, друзей, знакомых и просто соседей. За нами – чуть меньшая по количеству, такая же группа младших 7-8 летних. Именно вертикальные взаимоотношения между этими группами формировали особенности нашей подростковой социализации, конкурентного естественного отбора и, в итоге, определяли реальные перспективы индивидуального личностного роста. Игры внутри группы носили спокойный, безобидный и ни к чему не обязывающий характер. Наоборот, игры, организованные или сопровождающиеся участием подростков из старшей группы, больше походили на проверку моральных и физических качеств, экзамен на устойчивость и соответствие негласным требованиям и законам улицы. Так и в той злополучной игре в зимней балке, старшие подростки, одновременно выполняя роль командиров и боевых коней, таскали нас, младших, на санях по льду самодельного катка. Наша задача бойцов-всадников, заключалась в необходимости вытолкнуть или стащить с приближающихся саней таких же наездников неприятеля. В начале игры упор делался на нашу силу и ловкость. Всадники при приближении хватались за одежду и руки противника, честно мерялись силой и способностями. Часто схватка продолжалась уже на льду, превращалась в яростную борьбу, и на стадии затянувшейся ничьей просто прерывалась старшими командирами. По мере подъема градуса азарта, они незаметно начинали соперничать уже на своем уровне, показывая уже свою силу и дерзость. Мы при этом, просто превращались в неодушевленный таран. Раскручивая сани вокруг себя, они сталкивали их между собой на опасных встречных скоростях. Младшие при этом, как камни их метательных машин, или пушечные ядра, телами вышибали друг друга, разлетались из саней на много метров вокруг. Индивидуальная борьба становилась неактуальной. В одно из таких столкновений, между санями случайно оказалась моя левая нога. Меня, словно настоящего раненого бойца, на этих же санях, как на щите, через некоторое время притащили ко двору. Вопросов о причинах происшедшего и чьей-то виновности никто не задавал, все понимали, что это – просто несчастный случай, неизбежные условия и издержки взросления. В бабушкину хату, превозмогая и скрывая ужасную боль, по их категорическому совету, я зашел на своих двоих.
Еще больше, воспитательная жестокость старших подростков проявлялась при их нежелательном вмешательстве в наши игры в «Войну» и «Казаков-разбойников» Их, как правило, не устраивала и не удовлетворяла наша детская мягкотелость при допросах пойманных «врагов и предателей». Они заставляли нас пытать их не «понарошку и по-дружески», а более изощренно, почти по-настоящему. Даже, если среди плененных оказывался чей-то младший брат. Бедняги часами терпеливо висели на деревьях, подвешенные за связанные за спиной руки, томились запертыми в противных и грязных канализационных и пожарных колодцах, с наглухо задраенными люками, заброшенных сараях и гаражах, терпели ощутимые тумаки и другие, порой болезненные и обидные физические и моральные пытки. Некоторые начинали по- взрослому материться, пытались оказать сопротивление и сбежать от мучителей. Но никто не плакал и не просил прекратить игру, ясно понимая, что в этом случае он станет изгоем с какой-нибудь позорной кличкой. Надолго, если не навсегда. Никто не подозревал старших в садизме и неадекватности, на слово веря, что это нужно всем мужикам и обязательно пригодится в дальнейшей жизни.
Старшие подростки, будучи сильнее и опытнее, служили для нас естественными проводниками и защитниками в освоении новых территорий, сфер познания и мест времяпровождения. Главными из них были окружающие шахты и ставки. Это была нейтральная, межпоселковая территория, и посещение ее без их сопровождения сулило неизбежные неприятности. Их присутствие и недоступные нам по возрасту переговорные и дипломатические навыки, помогали избежать или погасить на месте ненужные конфликты с подобными группами, осваивающими данную территорию со стороны других поселков. Даже на нашей детской памяти, такие почти безобидные стычки подростков 10-12 лет неоднократно заканчивались многомесячным противостоянием соседних поселков, втягивающим в конфликт уже отслуживших армию парней и взрослых, семейных мужчин. Доходило до серьезных массовых избиений, применения холодного и огнестрельного (чаще всего самодельного) оружия, бессмысленных жертв. Но просто так, добровольно, отказаться от посещения этих территорий никто не мог и не хотел. Шахты, со всей прилегающей инфраструктурой, были естественной и неотъемлемой частью поселковой жизни. В забое, на поверхности и железной дороге работало большинство наших родителей. Быт тоже тесно был связан с шахтным хозяйством. Выписать уголь для отопления домов и хат зимой, принести мешок опилок для подстилки домашним животным, несколько досок и брусков для починки забора или сарая, получить помощь на похороны родственника-множество ежедневных забот регулярно приводили сюда десятки людей, не имеющих непосредственного отношения к самому предприятию. Мы же, посещали лесосклады, автохозяйство, шахтерские душевые и другие интересные места намного чаще, и не только с целью поиграть. С территории шахтного гаража мы выкатывали неосмотрительно брошенные без присмотра шины грузовиков. Как муравьи тащили их по пологим склонам на вершины терриконов и укладывали в колонны по несколько штук. С помощью бензина и солярки поджигали. Дождавшись, пока резина хорошо разгорится, длинными палками переворачивали их в вертикальное положение, и сталкивали пылающие круги вниз, уже по противоположному крутому склону. Коньком номера, считалось умение подгадать и рассчитать время таким образом, чтобы пылающий скат, взмывающий в небо на огромной скорости с трамплина железнодорожной насыпи, пересекал рельсы в момент прохождения по ним грузового состава.
Помывшись вместе с поднявшейся из забоя сменой в шахтерской бане, мы по ходу набирали несколько флаконов жидкого мыла, утоляли жажду бесплатной газировкой, и направляясь восвояси, тихонько и незаметно прихватывали парочку коногонок (аккумуляторных фонарей) и спасательных противогазов, брошенных в неположенном месте. Меньшую часть жидкого мыла отдавали младшим по возрасту пацанятам. Они с увлечением выдували из него красивые переливающиеся пузыри. Основную – хранили для использования по прямому назначению. Дело в том, что кроме проведения очередного «дня пожарника» или спускания с терриконов горящих скатов, отмываться от грязи и копоти приходилось еще после некоторых наших шалостей. Естественно, мы не могли обойти вниманием, снующие непрерывно туда-сюда, составы с углем, металлом и крепежным лесом. Скорость их была небольшая, поэтому на многих участках пути мы без особых усилий могли взобраться на подножку вагона, проехать необходимое расстояние и соскочить в нужном месте. Чаще всего, таким образом добирались до ставков в районе Пролетарки, но иногда и просто катались туда – обратно, коротая время. Трагических последствий такого катания было крайне мало, тем не менее, взрослые реагировали на него самым решительным и непримиримым образом. Сцепщики, сопровождающие состав, и родители, убедившиеся в бесполезности запретов и уговоров, договорились действовать солидарно. Пойманные во время катания на вагонах, не наказывались физически на «месте преступления», а просто метились и отпускались с предупреждением. Метка наносилась следующим образом. Сцепщик доставал из буферного отсека колесной пары вагона пучок промасленной пакли и густо вымазывал черной отработкой лицо и шею незадачливого наездника. Отмыться подручными средствами было практически невозможно. Родители легко обнаруживали понятную метку и устраивали неотвратимое наказание уже дома, по своему выбору и усмотрению. Вскоре мы нашли противодействие – нас выручало упомянутое жидкое мыло.
Промасленной пакле мы тоже нашли лучшее применение и временами тащили ее из стоящих вагонов целыми ведрами. Она очень хорошо горела, не затухала от ветра и попадания на огонь воды. Компактные пучки пакли яркими кометами, с пугающим звуком, красиво летели по воздуху при метании их палками. Не гасли при ударе о землю и падении в лужи, поэтому вместе с факелами и многочисленными кострами, становились основными атрибутами регулярно проводимых нами «дней пожарника».
Бабушка Оля в семье была моим самым надежным единомышленником и помощником, иногда – даже спасителем. Возвращаясь с улицы, я сначала незаметно для родителей, пробирался в ее хату. Совместными усилиями мы приводили в порядок мою одежду, пришивая потерянные пуговицы, удаляя предательские пятна и запахи. Часто в подобной обработке нуждалось и мое тело. В этом случае она не только давала мне возможность отмыться дочиста, но и обрабатывала многочисленные ссадины, синяки и порезы. Когда, в конце прошлой зимы, мы с Пашкой Ториным провалились под лед, и я пришел к ней посиневший и окоченевший, еле двигающийся в промокшей и задубевшей на морозе одежде, она несколько часов отогревала, растирала и отпаивала меня горячим чаем с красным вином. Родители в тот раз ничего не заметили и не заподозрили. Я ,как ни странно, даже не простудился. Иногда ее спасительная помощь проявлялась в реальной физической защите. Родители были сторонниками традиционных русских методов воспитания. За проступки и непослушание, чаще, чем словесное внушение, практиковалось физическое наказание. Младшей сестре очень редко доставались символические шлепки, старшей – перепадало и ремнем за неудовлетворительные оценки. Меня же, лупасили часто и по-взрослому. Чаще и больнее – отец, реже и более щадяще – мать. Учился я всегда на хорошо и отлично, наказывали исключительно за поведение. Тяжесть наказания спонтанно возрастала в связи с моим неправильным отношением к самому процессу. Вместо просьб о прощении и обещаний исправиться, я молча старался защититься или увернуться от ремня, вырваться из цепких родительских рук. Если бабушка в этот момент находилась рядом, она просто оттаскивала от меня не реагирующего на слова отца или без страха вклинивалась между нами, по инерции принимая на себя несколько ударов. Отец среагировал на ее слова лишь однажды. Найдя во дворе у Пашки, он за ухо притащил меня домой. Показывая жестом на перепачканную краской мдадшую сестру, за которой я должен был присматривать, но беспечно оставил одну, как мне казалось, всего на минутку, он тут же начал хлестать меня, неизвестно откуда появившимся в руке, ремнем. Мне удалось вырваться из его цепкого захвата, но разворачиваясь для побега, я не удержал равновесие и упал. Отец поймал меня за лодыжку и с новой силой принялся полосовать удобно подставленную спину. Ремень доставал от плеча до противоположной ягодицы, заставляя при каждом ударе извиваться, стонать и кричать, словно пойманный зверек. Бабушка, обрывавшая вишню с высокой крыши сарая, стала невольным свидетелем экзекуции. «Мишка, перестань! Отпусти ребенка!» – ее слова вселили мне надежду, но разгоряченный отец их не слышал. «Перестань, а то я сброшусь с крыши!» Когда удары прекратились, я поднял голову и увидел бабушку, стоящую на краю крыши и, действительно, готовую броситься вниз. Думаю, в этом не сомневался и отец.
Никогда не ругая и не упрекая меня лично, она, тем не менее, считала, что наше поколение «бесится с жиру», пропадает от лени и праздности. Как доказательство, часто приводила примеры из тяжелого детства отца. В 30-х годах в Поволжье разразился самый свирепый голод. Приходилось есть вареную крапиву, желуди и кору деревьев, с риском ареста собирать на полях колоски и откапывать гнилую, мерзлую картошку, оставшуюся после сбора колхозного урожая. Все братья и сестры отца в это время умерли от голода, выжил только он один. В неполных восемь лет лишился отца, и весь тяжелый сельский быт принял на свои неокрепшие детские плечи. В школе учился всего 3 класса, потом детство закончилось навсегда. Хотя я тоже делал по дому все, что приказывали родители (это являлось абсолютным и неоспоримым условием, своеобразным пропуском на улицу) соглашался, что мне живется довольно свободно и вольготно. Никогда не спорил с бабушкой и с удовольствием слушал ее рассказы и поучения. Я уже заметил, что в разговорах со мной она старательно обходит некоторые важные и спорные темы. В первую очередь – отношение к богу и церкви, революции и советской власти. Также, старалась не обсуждать со мной свои сложные отношения с невесткой, моей матерью. Сначала я относил это на свой ранний возраст, потом считал, что ей просто нечего противопоставить моим неоспоримым аргументам отличника, атеиста, активного и убежденного строителя светлого коммунистического будущего. Лишь намного позже до меня дошло, что понимая тоньше и глубже всех в семье мой спорный характер и противоречивое отношение к жизни, она подсознательно защищала мой неокрепший подростковый разум от недоступных ему сложных понятий, оберегая от ошибок в предстоящем выборе дальнейшего жизненного пути.
СССР, Донбасс. Сентябрь 1983 года
«Я не могу понять, зачем для того, чтобы стать ментом, нужно было 6 лет учиться в медицинском институте!?» – отец не скрывал своего недоумения и сарказма. Это можно было сделать быстрее и проще». Несколько минут назад я сообщил родителям о том, что оставил медицину и поступил на службу в милицию. Время для оглашения этой неприятной для них новости я выбрал не совсем подходящее. Отец несколько дней назад вышел на пенсию, находился в явно приподнятом настроении, планируя новый этап жизни. Мать мучили участившиеся гипертонические кризы. Я с трудом подбирал ей адекватную терапию, постоянно привозил новые лекарства, убеждал меньше работать и переживать по пустякам. Отдавая себе отчет в значении этой убийственной новости для ее здоровья, реально опасался самой непредсказуемой реакции. Но дальше скрывать ее было невозможно.
Почему не посоветовался? Ты же знаешь, как у нас относятся к милиции на поселке, в Донбассе, да и по всей стране?» – отец нервно курил, сидя на низенькой табуретке у печки, по привычке выпуская в открытую дверцу клубы едкого дыма, забывая от волнения стряхивать пепел в стоящий под ней угольник. Мать пыталась накрывать на стол, пряча навернувшиеся слезы и предательски дрожащие руки. Видя их состояние, я не стал рассказывать всю предысторию. О том, как 4 года назад по линии комсомола сначала попал в институтский отряд ДНД. Потом – в уникальный в СССР специализированный ОКОД по борьбе с карманными ворами. О том, как все это время моя душа, ум и сердце боролись и упирались против необходимости трудного и решающего выбора. О том, как целый год после него, не только я, но и десятки причастных к нему сторонников и противников, метались по замкнутому порочному кругу – МВД не могло принять меня к себе, потому что МЗ не могло отпустить. Я просто ответил отцу, что решение принял уже давно, а приказ о зачислении на службу вышел месяц назад. К тому же, я – не мент или мусор, а инспектор уголовного розыска, ожидаю присвоения второго специального звания. Лейтенантом медицинской службы я стал год назад, после окончания занятий на военно-медицинской кафедре и принятия присяги на сборах в Крыму. Теперь ждал звездочек лейтенанта милиции. Отвечая, я продолжал внимательно следить за реакцией и состоянием обоих родителей. Отец, будучи законопослушным работягой, с милицией в своей жизни сталкивался редко. В случаях мелкого воровства, хулиганства и драк на поселке, жители разбирались самостоятельно. Не доверяя и не надеясь на милицию, никогда не утруждали себя вызовом наряда. Да и технически, своевременно это сделать было трудно-участкового на поселке не сыщешь днем с огнем, а доступный телефон был только в школе и на шахтах. Домашнее насилие и рукоприкладство, вообще считалось естественным и допустимым проявлением воспитания и семейного быта, вмешивать в него посторонних никому не приходило в голову. С доставкой в вытрезвитель ситуация складывалась по-разному. В зависимости от календарной даты месяца. Степень опьянения стояла на последнем месте. Забирали и доставляли в основном в дни аванса и получки, в остальные дни, когда в карманах перепивших работяг было пусто- патрульные наряды их упорно не замечали. В последние выходные августа, по традиции, ПМГ превращались в такси. На День шахтера действовал негласный мораторий, и милиция на своих машинах развозила их по домам. Почти всегда, бесплатно. В основном, доставали ГАИшники. Отец, как и все шахтеры, сел за руль после сорока. Первые Жигули распределялись на шахтах в порядке поощрения ударников и передовиков производства, поступления машин годами ждали в длинной очереди. Права на вождение покупались в спешке, возможности получить теоретические знания и практические навыки управления дорогой покупкой, не было. Ездили, кто как мог, опыта набирались методом проб и ошибок. ГАИшникам было полное раздолье. Штрафовали когда и кого не лень. Естественно, без квитанций и без последующей сдачи навара в казну.
Мать сталкивалась с правоохранителями еще реже. Относя молоко и старые вещи на базар, она нередко становилась случайным свидетелем поборов с торгующих и администрации, но как и все, считала их неизбежной и неотъемлемой привилегией людей в погонах. Мой личный опыт взаимоотношений с местной милицией так же не имел серьезных негативных последствий. Как говорится, на учете не состоял, не подозревался и не привлекался. Но два конкретных случая навсегда врезались в мою память, и как навязчивое де жавю, постоянно всплывали из ее глубин уже в настоящей моей милицейской практике, осознанно и подсознательно побуждая вести себя предельно осмотрительно, справедливо и достойно. Первый из них случился в далеком детстве, когда мне шел всего лишь пятый год от роду. Вся наша семья, включая бабушку, приехали в гости к кумовьям Истоминым. Их Трубный поселок находился в другом конце города и по сравнению с нашей Постбудкой выглядел настоящим шанхаем, или по –местному, Нахаловкой. Старые маленькие хаты на узких и кривых улочках и переулках со всех сторон были зажаты терриконами и окраиной трубного завода. Новых домов почти не было. Зато было одно явное преимущество – недалеко находился старый парк с хорошим ледовым катком.
Взрослые общались за столом. Только что закончился наш традиционный гладиаторский бой. Сын моего крестного отца, Валерка, был моим ровесником. При каждой такой встрече, наши отцы ставили на кон по рублю и заставляли нас бороться в комнате на полу. До полной и окончательной победы. На этот раз победил я, и два металлических рубля приятно позвякивали в моем кармане. Валерка уговорил родителей отпустить нас погулять в парк на каток. Более шустрый и уверенный, он мигом проскользнул за спиной контроллера на воротах и быстро затерялся в толпе. Меня же, остановили на входе и потребовали билет. Билета, естественно, не было. Призовые деньги я тоже оставил дома у крестного. Пошел вдоль кованой ограды парка, в надежде отыскать Валерку и найти какой-то выход из этой нелепой ситуации. Его нигде не было видно в толпе гуляющих и катающихся людей. Я даже пробовал кричать ему, но громкая музыка и шум толпы заглушали мой голос. Валерка не отзывался. Хотя, наверняка, слышал и видел меня. В ограде, на удивление, не оказалось ни одной подходящей дыры, а перелазить через высокие и острые пики я не рискнул. Примерно через час стемнело, я начал замерзать и, не солоно хлебавши, решил самостоятельно вернуться домой к крестному. В темных и извилистых переулках я быстро заблудился и вышел на совсем незнакомую территорию заводских гаражей. Увидев целующуюся молодую парочку, я подошел к ним и честно признался, что потерялся. Они весело и удивленно выслушав мой рассказ, после нескольких неудачных попыток отыскать Валеркину улицу, отвели меня на опорный пункт и сдали дежурившему там участковому инспектору. Тот, после очередных расспросов доложил в райотдел и вызвал ПМГ. Я хорошо знал и четко называл свою фамилию, возраст, имена родителей и домашний адрес. Не знал лишь точного адреса крестного. Потом уже с настоящим патрульным экипажем, на настоящей патрульной машине с шумной рацией, мы около часа колесили по парку и окрестностям, пытаясь разыскать Валерку или малознакомую мне кривую улочку с неприметной хатой крестного. Милиционеры постоянно расспрашивали меня о родителях, подбадривали, комментировали сообщения, доносившиеся из динамика рации. Посмеиваясь с моих честных, но наивных ответов, звали на службу в милицию и предрекали мне генеральское будущее. Я воспринимал их героями, сильными и надежными спасителями. С ними мне было совсем не страшно. Временами забывал, что потерялся. Когда вспоминал, почему-то переживал не за себя, а за ищущих меня родителей. Утешало, что Валерке, наверняка, влетит, за то, что он бросил меня на катке. Через некоторое время по рации поступил приказ отвести меня домой на Постбудку, по названному мной адресу. Дома свет не горел, все двери были закрыты. Постучав для очистки совести по ставням, патрульные решили передать меня соседям. Было уже около двенадцати часов ночи. На громкий и настойчивый стук, дверь открыла тетя Нюра Нестерчук. Увидев двух патрульных, она опешила и изменилась в лице. Войдя в дом, сразу почувствовали специфический бражно-самогонный запах. Я тоже хорошо его знал, так как мой отец, как и все шахтеры, не праздновал дорогую и разбавленную «казенку». Матери частенько приходилось гнать крепкий напиток в домашних условиях. Я также знал, что гнать самогон – незаконно и опасно, милиция активно боролась с этим распространенным и неискоренимым явлением. В одних «семейных» трусах в комнату вышел заспанный и ничего не понимающий хозяин-дядя Данила. По его лицу я понял, что он испуган не меньше жены. До меня наконец-то дошло, что я навлек серьезные неприятности на уважаемых соседей. После краткой идентификации, старший патруля сдав меня соседям под расписку и обязательство передать родителям, быстро вернулся в машину. Младший задержался, отозвал тетю Нюру в сторонку и что-то прошептал ей на ухо. Потом они удалились на кухню. Через минуту милиционер вышел, громко крякая и закусывая соленым огурцом. Держа под мышкой полную четверть сизоватого самогона, не глядя в мою сторону, молча вышел из дома. Тетя Нюра грустно и смущенно улыбалась. Я понял, что все обошлось.
Второй случай произошел примерно 10-11 лет спустя. Наша дружная компания по привычке тусовалась летним субботним вечером снаружи танцплощадки в поселковом парке. Мы между собой кратко называли его садом. Подбежал запыхавшийся Малый и с ходу выпалил: «Мент на аллее вяжет Лебедя!» Все, не сговариваясь, напролом бросились в указанном направлении. Через несколько шагов, нам навстречу выскочил возбужденный Леха, за ним по пятам бежал участковый. Без фуражки, с оторванным погоном и болтающимся на заколке галстуком. Леха, быстро оценив ситуацию, шмыгнул в нашу спасительную толпу, спрятавшись за спинами самых высоких и крепких парней. Участковый встал, как вкопанный, в трех метрах от нас. Он тоже был местный. Старше всего на несколько лет большинства из нас. Также прошел общую уличную закалку и хорошо понимал, что в данный момент удача не на его стороне. В тени трудно было разобрать, что именно находится в его, явно не пустой, поясной кобуре, к которой периодически непроизвольно тянулась его правая рука. Наверное и он, не видя наших рук, так же отчетливо понимал, что в любой момент в них может оказаться кастет, нож, самодельный, но не менее опасный от этого, самопал. Нам всем были понятны его чувства. Он обоснованно подозревал Лебедя в подрезе молодого парня из соседнего поселка. Служебный долг и здоровое самолюбие призывали его действовать жестко и решительно. Но личный опыт и хорошее знание наших поселковых реалий требовали быть гибким и осмотрительным. Началась словесная перепалка. Мы доказывали, что своих трогать нельзя, и служебные показатели он должен делать на шпане из других районов. Без заявы потерпевшего, он вообще, не имеет права вмешиваться. Участковый парировал, что Леха давно беспредельничает, тюрьмы не избежит. И это для него будет еще не самый плохой финал. Хоть подрезанный и не писал заявления, в РОВД пришло сообщение из больницы, где его потом зашивали. А парень он не простой, за него обязательно подпишутся друзья, и дело пахнет новым витком межпоселкового противостояния. Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, приятно было ощущать себя частицей реальной силы, способной остановить и повлиять на силу местной официальной власти, с другой – не хотелось быть на стороне беспредела и беззакония. Подошедшие на шум авторитетные взрослые, убедили уже остывшего участкового отступить, пообещав решить вопрос с потерпевшим и подозреваемым совсем другим способом.
Наблюдая состояние отца, я пытался определить его истинное, скрытое отношение к моему неожиданному выбору. Он ценил трудные и опасные мужские профессии. Неоднократно подчеркивал, что, несмотря на то, что на шахте уважают труд всех рабочих, элитой признают только ГРОЗ-горнорабочих очистного забоя. Неоднократно обсуждая мое будущее, он как- то пошутил, что ждет меня в забое, будем формировать шахтерскую династию. Но в последние, перед пенсией годы, когда к его силикозу присоединился еще и туберкулез, он больше не вспоминал о своей шутке. Зато часто посмеивался над зятем Валентином, мужем Татьяны. Поддавшись уговорам отца, он, здоровый и крепкий мужик, мастер спорта, выдержал в забое всего несколько смен. Затем, пряча глаза и смущенно бормоча, что он, рожденный и выросший на просторах российских лесов и лугов, страдает клаустрофобией, страшно боится узких штреков и лав, километровой толщи породы над головой. Позже упросил отца подыскать ему «непыльную» работу на поверхности.
Недавно в очередной раз показывали любимый всеми фильм «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким в главной роли. Я знал, что отец с интересом смотрел его и в этот раз, поэтому надеялся, что он понимает разницу между уголовным розыском и всеми другими милицейскими службами. Это давало мне надежду, что он правильно оценит и, все-таки, примет мой выбор.
С матерью все было намного сложнее. И с медицинской, и с социальной точки зрения. Она давно и тяжело страдала сложной формой гипертонии. Систолические цифры артериального давления зашкаливали далеко за 200, мучили страшные головные боли и множество осложнений. Вся ее надежда была на меня. Я, как мог, лечил и поддерживал ее еще до получения врачебного диплома. Но был еще и второй, не менее важный для нее аспект. Я давно заметил, что она, как бы невзначай, приглашает в дом соседок и знакомых в первый же день моего очередного приезда. После непродолжительного приветствия и дежурных обменов поселковыми новостями, они начинали жаловаться мне на свои многочисленные болячки. Мне, хочешь – не хочешь, приходилось их консультировать и рекомендовать какое-нибудь доступное и эффективное, в поселковых условиях, лечение. Мне это не очень нравилось. А мать, наоборот, радовалась и открыто гордилась мной и собой. Не скрывала удовлетворение от своего нового поселкового статуса- матери многообещающего врача. Она нетерпеливо ждала моего возвращения домой и начала медицинской практики в родном городе. Мое сообщение повергло ее в натуральный шок. Она тихо плакала и молчала. Я упорно заставлял ее через силу принимать успокоительные и гипотензивные лекарства, предусмотрительно привезенные с собой, реально боялся наступления опасных последствий стресса. На мои заверения в том, что их болезни опасны не сами по себе, а из-за отсутствия грамотного и планомерного лечения, которое я им гарантирую обеспечить и в своем областном центре, в комфортабельной, богатой и современной милицейской медсанчасти, родители ничего не ответили.
УКРАИНА, Донбасс. Начало 90-х.
Возвращаемся из очередной командировки. Проезжаем участок Днепропетровской области, значит через пару часов будем дома. Ловлю себя на мысли, что я и так, еду из отчего дома, из Донбасса. В машине тихо и темно, кроме меня и водителя, все заснули. Даже задержанный, наконец-то, успокоился и тихо посапывает, периодически роняя голову мне на плечо. Не удивительно, что все устали. Рабочий день длится уже почти сутки. Выехали в 5 утра, намотали около 700-800 км., за все время перекусили один раз, уже вечером, хотя и с традиционными 100 граммами водочки. Впереди плавно набирает скорость машина ГАИшников, наш «Мерс» посредине, замыкает «девятка» УУР. Солидный кортеж. Мысли, как всегда, легко прыгают с рабочего на личное и обратно. За последние годы я стал своеобразным представителем, полпредом нашей областной милиции в Донбассе. По приказу руководства, или по собственной инициативе, как минимум 4-5 раз в год я бывал в Донбассе в командировках. Это, отчасти, компенсировало пропорциональное уменьшение частных поездок и позволяло чаще видеться с родителями. Если командировка носила более-менее плановый характер и не отягощалась реальной, или мнимой, секретностью, многие следователи и опера, помимо основного задания, чисто на личных отношениях, ухитрялись подбросить мне кусочек и своей собственной работы. Я никому никогда не отказывал. Помогал, иногда даже не ставя в известность и не согласовывая эту помощь со своим непосредственным руководством. Притом, что очень не любил проверять и реализовывать чужую информацию. На личном опыте я уже убедился, что даже собственные, успешно реализованные дела, годами хранят невидимые подводные камни и своеобразные мины замедленного действия, напоминающие о себе, как все отдаленные последствия, в самый неподходящий момент. Вспомнилось, как однажды, перед выездом в подобную командировку в Горловку, глубоко уважаемый мною замначальника следственного отделения Станислав Александрович Рыбальченко, уговорил меня помочь в проведении обыска по одному старому уголовному делу. Мы оба понимали, что данный обыск -простая формальность, предусмотренная уголовным процессом по имущественным делам. Можно было почтой отправить отдельное поручение по территориальности. Как всегда, поджимали сроки, и я согласился помочь исправить, выявленные в последний момент, упущения молодого следователя. Даже не взглянув на постановление, кинул бумаги в папку к другим документам, и поспешил на автовокзал, боясь опоздать на отходящий через несколько минут автобус. Два дня я занимался основным заданием командировки. Совместно с операми колонии строгого режима разрабатывал и «колол» земляка, отбывающего наказание за разбойные нападения. Несколько дней назад от него, неожиданно и беспричинно, поступила явка с повинной о дополнительных эпизодах. Первоначальная проверка показала, что наряду с привязкой к реальным нераскрытыми преступлениям, в ней имелась чужая информация, явно не имеющая к фигуранту никакого отношения, и просто «фонари» – дезинформация о несовершенных преступлениях. До принятия решения о необходимости и целесообразности этапирования осужденного в родной город, предстояло разобраться в истинных мотивах его поступка и, по возможности, установить истинный источник заинтересовавшей нас дополнительной информации. Ночевал я дома у родителей, скучать в гостинице не было резона. Закончив с арестантом, к концу второго дня, обнаружив в папке постановление на обещанный обыск, я приехал в местный отдел и зашел к начальнику розыска. Встретил нормально, выглядел дружелюбно и адекватно. Но когда я попросил выделить машину и людей на обыск, начал традиционную торговлю – людей не хватает, завал по горячим делам, машины в разъездах и ремонте. Дойдя в нашей торговле до установочных данных объекта обыска, я достал из папки постановление и молча передал упрямому коллеге. Фамилия и адрес обыскиваемого произвели на него впечатление. «Так это вы проучили этих негодяев?! Если бы ты знал, как они нас тут достали!!! После неудачных и позорных гастролей в ваш город, над ними смеялась и издевалась вся Горловка. Не только цыгане из других кланов и сотрудники милиции. Это же надо – вернуться с гастролей не только без денег, но и без усов и чубов!!! И это, скажу честно, хоть немного их приструнило» – после этих его слов, я взял из его рук постановление и, наконец-то, сам прочитал его содержание. Воспоминания красноречиво отразились на моем лице, начальник розыска моментально на это среагировал: «Ты что, лично участвовал в этой экзекуции?». Мне не хотелось откровенничать с незнакомым офицером, особенно по такому деликатному вопросу. Но я чувствовал, что от ответа на его вопрос зависит реальность его помощи. Нейтрально признался: «Да, было дело, чего греха таить!» Коллега заулыбался: «Тогда, совсем другое дело! Помогу всем, чем смогу!». Через несколько минут в моем распоряжении был гражданский микроавтобус, опер и участковый в форме. Быстро и лаконично познакомившись на ходу, мчались на окраину Горловки по пыльной и разбитой грунтовой дороге. В связи «с вновь открывшимися обстоятельствами», я спешно прорабатывал возможные варианты развития ситуации и наших ответных действий. Когда мы остановились на окраине непонятного шанхая, мне еще больше стало не по себе. Интересующий нас адрес представлял собой фрагмент африканских, или латиноамериканских трущоб из сюжетов программы «Вокруг света». Небольшая, пыльная площадь во все стороны продолжалась кривыми улочками и переулками жалких лачуг, сбитых из фанерных щитов и деревянных ящиков. Машину сразу же окружила толпа полураздетых и грязных детей. Гражданский водитель наотрез отказался покидать машину, и стал энергично разгонять облепившую ее детвору. Оказалось, что вовремя -одни из них уже начали скручивать колпачки с нипелей на колесах, другие не скрывали интереса к цветным стеклам задних фонарей, третьи нахально пытались проникнуть в салон. В разведку пошли опер и участковый. Я, не желая быть опознанным раньше времени, тоже остался в машине. Вернувшись, сотрудники сообщили, что в интересующей нас хибаре, находится только молоденькая мать с грудным ребенком и старая цыганка, все взрослое мужское население отсутствует. Наличие матери с ребенком меня не успокоило – на одном из похожих обысков в цыганском наркопритоне, такая же скороспелая и обколотая опиатами мамаша, не раздумывая, с расстояния трех метров запустила в меня младенцем. На вид ему было всего лишь несколько недель. Это было не наркотическое безумие, а отработанный до мелочей прием цыганской защиты при облаве. Она прекрасно знала, что я не увернусь и не парирую от себя маленькое тельце. Пока все отвлекались на рефлекторно пойманного мной ребенка, ее сестра пыталась вынести из комнаты пакет с наркотиками.
Узнав об отсутствии мужчин, смело отправились в лачугу. Представившись работником местной милиции, я долго объяснял испуганной старухе и ее внучке цель нашего визита. Но они уже четко и упрямо исполняли собственную заученную роль в регулярно повторявшихся аналогичных ситуациях: «Мы ничего не знаем, обе неграмотные, писать и читать не умеем. Наши мужчины – честные работяги, преступлений не совершают. Живем бедно, ценного в хате ничего нет». Обстановка, действительно поражала несвойственной для цыган бедностью. Вероятно, они и вправду были какой-то самой бедной и отверженной кастой. Потом заныла молодая, начала жаловаться на беспредел милиции из незнакомого ей города. Мол, приехавших на заработки честных людей, задержали ни за что, сильно побили, а напоследок – унизили и оскорбили, обрезав половину усов и чубов. Для цыган – это неслыханное оскорбление и несмываемый позор. Мужчины прилюдно поклялись отомстить обидчикам. «Вот они сейчас должны вернуться, и сами, если вы не верите нам, расскажут об этом» – ее последние слова заставили меня торопливо закончить оформление протокола обыска. Привычно и безразлично проставив корявые крестики на его страницах, видя, что мы ничего не ищем и не собираемся никого задерживать, женщины успокоились. Младшая даже перестала пощипывать носимого на руках ребенка, так как в исполнении его роли в общем спектакле (периодически плакать) необходимость тоже отпала. Уже садясь в трогающуюся машину, я увидел, как с противоположного конца улочки, поднимая пыль, к только что покинутой нами лачуге, быстрым шагом движется шумная толпа. Ленивый участковый, явно уставший от внеплановой работы, пропустив слова цыганок мимо ушей, закрыв глаза, сидел в машине молча. Молодой и любопытный опер, о чем-то догадавшись, пытался расспросить меня об упомянутой экзекуции. Я не хотел признаваться, что только что, чуть было не стал жертвой собственных перегибов и непростительной беспечности. Сухо ответил, что не в курсе рассказанной цыганками истории. На том наш разговор и прекратился.
Мысленно вернувшись к событиям полугодичной давности, я вновь прокрутил в памяти детали этой трагикомичной ситуации. Субботним вечером, возвращаясь с дня рождения наших общих знакомых, мы с Михалычем решили по дороге заехать в один из городских РОВД. Михалыч – мой кум и друг. Наставник и учитель, идущий по жизни на 4 года впереди меня. Временами – мой прямой начальник. В свое время, мы последовательно занимали должность руководителя ОПГ (оперативно-поисковой группы) младших инспекторов УР, одновременно являясь официальными кураторами оперативного комсомольского отряда по борьбе с карманными ворами. Мы часто навещали своих воспитанников и бывших подчиненных. Прибыв на место, поняли, что суббота для них оказалась результативной. Несмотря на вечернее время, работа кипела вовсю. В кабинете ОПГ и в штабе отряда сидело несколько задержанных с поличным цыган. В основном женщины. Как оказалось, многочисленная группа гастролеров прибыла в наш город из Горловки. Продолжался сбор и оформление первичных материалов, дежурный следователь начал допрашивать потерпевших и свидетелей. Все шло как обычно, по хорошо отработанному сценарию. Буквально перед нашим приездом, во дворе РОВД появились несколько мужчин – цыган, из так называемой группы поддержки и быстрого реагирования. Используя свои легальные и законные права мужей и родственников задержанных, они сразу же начали реализацию своей скрытой истинной роли – противодействие разбирательству и следствию. Под предлогом передачи воды и пищи, кормления невесть откуда взявшихся грудных детей, они добивались кратковременных контактов с задержанными женщинами, параллельно ухитряясь передавать им краткие инструкции жестами и непонятными для всех цыганскими словами. Кроме этого, внешним видом, поведением и разговорами со всей цыганской напористостью и бесцеремонностью пытались влиять на потерпевших. Молодые сотрудники и гражданские ОКОДовцы ничего не могли противопоставить наглым и опытным дельцам. Мы с Михалычем появились, как нельзя кстати. Дежурный наряд РОВД, перегруженный субботним наплывом других задержанных и посетителей, помочь не мог, а на обычные предупреждения они не реагировали. Нам пришлось взять решение вопроса на себя. Вычислив самых авторитетных и активных, мы по очереди затаскивали их в пустой актовый зал, и преодолевая отчаянное сопротивление, ножницами отрезали каждому половину усов, чуб и выстригали заметную полосу через всю кудрявую голову. Зная, что именно они являются истинными организаторами и руководителями гастролей, на дорожку предупреждали, что в следующий раз отрежем еще что-нибудь и рекомендовали передать наш привет всем другим цыганским кланам и гастролирующим группам. Через полчаса незваных гостей и след в городе простыл. За исключением, конечно, арестованных по уголовным делам конкретных рядовых исполнителей. Я не рассказал эту историю молодому и любознательному оперу не потому, что не доверял ему и опасался возможной цыганской мести в отношении себя или проживающих неподалеку родственников. Нищая обстановка посещенной лачуги подсказывала, что у данной семьи с коррумпировнными связями в местной милиции дела обстояли не лучшим образом. Конечно, у них, наверняка, имелись более богатые и продвинутые родственники, да и местный цыганский барон, в чью компетенцию входило решение подобных вопросов, тоже был в куре дела. Но копии протокола, как того требовал закон, я им не оставил, идентифицировать меня им будет довольно трудно. Я промолчал по другой причине. Я всегда стремился удерживать молодых коллег от ненужного, а тем более ложного геройства, высокомерия и куража в отношениях с подозреваемыми и задержанными. Работа- работой, настроение –настроением, но чувство собственного достоинства есть даже у самого последнего БОМЖа. С этим нельзя не считаться.
Мне нравились командировки в Донбасс. Кроме непланируемых встреч с родственниками, они имели много других преимуществ и отличий от аналогичных поездок в другие регионы. Они давали мне некое ощущение работы дома, на знакомой, родной территории. А специфика региона, в том числе и в плане криминогенной обстановки, обогащала мой профессиональный и жизненный опыт темпами, немыслимыми не только в тихих и спокойных сельскохозяйственных регионах, но даже в столице и Крыму. Некоторые поездки по своему характеру больше походили на конфиденциальные встречи представителей каких-то негласных и закрытых деловых кругов, чем на официальное, зарегулированное и зарегламентированное до абсурда, взаимодействие соседних территориальных подразделений одного министерства. Многие ситуации легальными, законными методами разрешить было попросту невозможно. Залогом успеха в них выступали личные отношения конкретных оперов и начальников. Когда, пару лет назад меня срочно вызвали в кабинет начальника УБОПа, одного взгляда на лицо Василия Николаевича для меня оказалось достаточно, чтобы понять, что произошло ЧП. Причем, не ежедневное, рядовое, а нечто из ряда вон выходящее. Без долгих вступлений он ввел меня в курс дела: «Ты знаешь Титорчука Диму из оперативно-технического отдела?» Я знал этого паренька лишь номинально, как одного из молодых и невнятных представителей вспомогвтельных служб. Ничего личного. Единственное, вспомнил недавний разговор с знакомым ГАИшником, который одновременно шутя и жалуясь, рассказал мне анекдотическую ситуацию с участием этого самого Димы. Остановив для проверки обыкновенную, ничем не приметную бежевую ВАЗовскую «шестерку» с плотно затонированными боковыми стеклами, видавший виды ГАИшник опешил и открыл от изумления рот. Не от того, что задние и передние госномера автомобиля были совершенно разные. Он остолбенел от борзости молодого водителя, который со старта отчитал его, старожила ГАИ предпенсионного возраста, как провинившегося мальчишку. «Я офицер особого, сверхсекретного отдела УБОП, спешу на спецзадание! За неправомерную остановку и срыв операции ты сегодня же будешь уволен без выходного пособия!!!!» – безапелляционно прокричал он вместо приветствия. Опытный инспектор порекомендовал юноше застегнуть ширинку на штанах, упорядочить оперативные номера прикрытия и, по приезду в управление, доложить о случившемся непосредственному начальнику. Это был Дима. По своей молодости и неопытности он не знал, что бывалые ГАИшники, узнают «в лицо» все наши оперативные машины, какие бы номера на них не вешали. Они часто и неформально общаются с начальниками оперативных подразделений, поэтому не утруждают себя пререканиями с борзыми молодыми сотрудниками на улице. Естественно, позже Дима выполнил только два первых совета бывалого ГАИшнка, ничего не доложив о происшедшем инциденте своему непосредственному начальнику.
Василий Николаевич ввел меня в суть дела. Наш Дима оказался натуральным мажором. Его отец был руководителем солидного муниципального предприятия. В прошлом году он устроил его заочно учиться в Донецкий филиал Киевской Высшей школы милиции. На каждую сессию папаша выделял сынку в личное пользование один из служебных автомобилей своего предприятия, кругленькую сумму денег. Через своих донецких коллег организовывал ему хорошее, дорогое жилье и такие же оценки без регулярного посещения занятий и даже некоторых экзаменов. Но Диме всего этого показалось мало. Ему еще хотелось быть крутым Джеймсом Бондом и Рембо в глазах многочисленных ситуационных, постоянно меняющихся, подружек. На очередную сессию он приехал с несданным в оружейку табельным ПМ, не сильно скрывая его в оперативной кобуре под мышкой. Естественно, через пару загульных дней, в одном из кафе, незнакомые крепкие парни, молча отобрали у Димы пистолет. Отвесив пару оплеух, пинками вытолкали из кафе и порекомендовали, при этом пожаловаться не начальству, а родному папочке. Я понимал, почему юноша не сдал пистолет и увез его в Донецк. Но мое оперативное нутро не могло понять, зачем таким, как Дима, вообще выдавать оружие? Прямой контакт с бандитами и использование его по прямому назначению на его должности абсолютно исключены. Поиграться можно было более интересными и безопасными игрушками. Начальник безнадежным молчаливым жестом прервал мои возмущения. «Нужно срочно выезжать в Донецк. Ребят возьми, сколько посчитаешь нужным. И, у меня к тебе личная просьба – постарайся обойтись без лишнего шума. В министерство я пока не докладывал» – Василий Николаевич был выходцем из службы БХСС. Он не скрывал, что плохо представляет себе, как я смогу найти и вернуть пистолет в чужой области. Как бы извиняясь, предупредил, что пока не хочет включать официальные рычаги на своем уровне, поэтому рассчитывает только на мои личные отношения с УБОПовцами и розыскниками Донбасса. Я ответил, что сделаю все возможное, с собой возьму только машину с водителем-помощником оперуполномоченного, Игорем Гринчуком. Не тратя время на сборы и оформление командировочных документов, через двадцать минут, на такой же неприметной бежевой шестерке мы с Игорем, в который раз, неслись в любимый Донбасс.
На этот раз работа в Донецке оказалась намного легче, чем я предполагал. Основной ее объем, как ни удивительно, выполнили не УБОПовцы, а розыскники. Работали по всем направлениям. Для получения необходимой информации о принадлежности парней, завладевших пистолетом, к конкретной преступной группировке, было проведено несколько массированных облав в сопредельных районах. Параллельно шли активные переговоры с местными лидерами и авторитетами, им делались предложения, от которых они не могли отказаться. Я в этих переговорах активного участия не принимал. Вмешался лишь раз, когда один из авторитетов начал торговаться, намекая оперу, что, мол нечего париться из-за бестолкового мусорка из чужой области. Как аргумент, привел пример неадекватного и несправедливого отношения сотрудников одного из подразделений нашей области по важному для него конкретному и легальному бизнесовому вопросу. Мне пришлось пообещать необходимую помощь. Это тоже повлияло на достижение требуемого уровня взаимопонимания в поиске компромиссного решения. В общем, работа строилась по проверенному временем принципу кнута и пряника. В основном, встречи проходили в тихих безлюдных кафешках, автомобилях, припаркованных в тупиках улиц и на задворках тихих спальных кварталов. Но была и типичная кабинетная рутина. Мне приходилось упрашивать нескольких начальников подразделений, ломая собственные планы и усугубляя и без того критическую нехватку ресурсов, отвлекать сотрудников на работу по нашему делу. Конечно, они от нее получали определенную пользу и для себя, но факт оставался фактом. К тому же, помня просьбу Василия Николаевича, я убеждал их помогать без докладов своему вышестоящему руководству. В процессе одного такого уламывания, один из начальников отделения розыска Донецкого областного управления, мой хороший товарищ, язвительно напомнил мне еще одну «пистолетную» историю, связавшую две наших области. Тогда по-тихому сработать не получилось, и отголоски резонансного события вышли далеко за их пределы. Несколько лет назад, начальником уголовного розыска нашего областного центра был назначен Валерий Иванов. Его перевели из одного небольшого городка Донецкой области. В те далекие времена этот перевод никак не был связан с экспансией «птенцов Януковича». Просто, он доработался до того, что в родной области ему уже не могли найти «достойного» места. С первых же дней работы в нашем городе, он настолько противопоставил себя возглавляемому коллективу, что добром закончиться такое кадровое решение не могло в принципе. Никто не удивился, когда он в один прекрасный день обнаружил пропажу из собственного сейфа своего табельного пистолета. Тихие уговоры вернуть оружие и закончить конфликт миром на личный состав отдела не подействовали. Пряник не сработал. И, как следствие, защелкал кнут. Кроме руководства городского и областного розыска, в дело вмешались инспекция по личному составу и соответствующие службы КГБ. В отделе официально был введен режим ЧП, покидать здание разрешалось только после согласования с начальством и руководством следственной бригады. Неоднократные обыски в сейфах, столах и кабинетах, поминутный хронометраж предшествующих и текущих дней работы, многочасовые допросы, в том числе с добровольно-принудительным использованием гипноза. Поговаривали, что горячий болгарско-еврейский темперамент Феди Мануилова, на двенадцатом часу очередного такого допроса не выдержал, и он после бурного эмоционального протеста даже потерял сознание. КГБэшники параллельно применяли тактику «разделяй и властвуй». Дополнительно к двум имеющимся в отделе и давно вычисленным их агентам, добавились еще двое, активно пытавшихся внести раскол в коллектив и перессорить оперов. Преступление уже брали на себя несколько посторонних посетителей управления – полуинформаторы, полупровокаторы и полуненормальные добровольные помощники, ради собственной выгоды поддавшиеся на уговоры некоторых уставших и беспринципных сотрудников. Работа отдела была парализована, а пистолет не находился. Активность следственной бригады постепенно снижалась, уже можно было в рабочее время покидать здание УВД. Правда, в сопровождении не утруждающего себя конспирацией «хвоста» от службы наружного наблюдения. Кнут тоже не срабатывал. Министерство требовало результата и крови. Под основной удар попадали наши вышестоящие и уважаемые операми руководители. Ситуацию в очередной раз спас мой кум Михалыч. По мизерным, ускользнувшим от всех деталям, он спокойно восстановил картину происшедшего, вычислил и убедил похитителя явиться с повинной и выдать злосчастный пистолет. Им оказался тихоня и интеллигент Валера Богданов, занимавшийся в отделе преступлениями несовершеннолетних. Таким способом бывший педагог решил привлечь внимание руководства и общественности к нездоровой обстановке в отделе и, заодно – избавиться от ненавистного деспотичного начальника. Эти благие намерения не помогли ему избежать увольнения и последующего реального уголовного наказания. Потерпевший Иванов был отправлен восвояси, продолжать плодотворную деятельность на ниве борьбы с донецкой преступностью. Но уже в статусе судьи. Я понял упрек моего донецкого товарища, но возразил ему, что данные пистолетные дела – две, как говорят в Одессе, большие разницы. Больше всего мы опасались, что наш ПМ пойдет по рукам и засветится на каком-то убийстве. Они в эти дни совершались в Донбассе регулярно – шел серьезный передел сфер влияния и бывшей общенародной социалистической собственности. В этом случае не только бестолковому Диме, но и многим из нас, светила реальная перспектива пассивного соучастия. Мы успели. Наши тяжелые труды принесли нужный результат. После звонка безымянного доброжелателя, я с большим удовольствием, покопавшись в вонючем мусорном баке на окраине Донецка, достал обещанный сверток с ПМ. Вернувшись на четвертый день в родное управление и положив пропажу на стол Василия Николаевича, я попросил у него день отдыха. Не столько для уставших мозгов и нервов, сколько – для бедной печени. Для достижения необходимого результата она тоже внесла немалый вклад, переработав немыслимое количество спиртного во время неизбежных дружеских ночных ужинов с хлебосольными земляками. Дальнейшая судьба крутого Димы меня не интересовала. Кажется, ему позволили уволиться даже без привлечения к уголовной ответственности.
Сегодняшняя командировка не понравилась мне с самого начала. Чем больше я осмысливал ее детали и результаты, тем сильнее ощущал какую-то внутреннюю неудовлетворенность. Вроде бы все запланированное, включая лично-семейную ее часть, было выполнено. Но после спокойного и беспристрастного анализа, я приходил к выводу, что ее можно использовать в качестве яркого примера того, как не нужно работать и посещать родственников.
Как обычно, о необходимости срочного выезда, меня уведомили в последний момент, как говорится, по факту. За последние полгода в нашем областном центре было совершено три разбойных нападения на богатые квартиры с использованием милицейской формы. Преступники вели себя нагло и жестоко. На последнем эпизоде, в соседнем дворе, засветилась машина с донецкими номерами. Полного набора цифр и букв свидетель не запомнил. Раскрытием занимались опера районных отделений уголовного розыска. После объединения дел в одно производство, подключилось областное управление. Перспективной, «в цвет», информации по делам не было, работали вслепую. Следователь направил запрос донецким коллегам и получил обширную выборку автомобилей с похожими номерами и фотографиями сотрудников, схожих с изображениями на простеньких фотороботах, и хоть чем-то связанных с нашим регионом. По одной из таких фотографий и был опознан молодой лейтенант из Торезского горотдела. Достоверность таких исходных данных вызывала серьезные сомнения. Но информация уже была доложена «наверх», поставлена министерскими кураторами на контроль, требовала немедленной и тщательной проверки. Руководители УБОП и УУР в данной ситуации вынуждены были временно забыть о нескрываемом соперничестве и подковерных интригах, обуздав гордыню и личную неприязнь, работать сообща. Главную проблему представляла необходимость отработки потенциально подозреваемых сотрудников милиции на их собственной территории, в другой области. По действующим законам и приказам МВД на это требовалась уйма времени, масса согласований и привлечение сотрудников совсем других специфических подразделений. Сделать все по уму, как всегда, мешал дефицит времени и чей-то страх персональной ответственности. Зато, мне выделили аж три служебных машины, три группы сотрудников -УБОПовцев, розыскников и ГАИшников с неплохим набором оперативно-розыскной техники. Высшее руководство наделило меня (правда, как всегда, в устной форме) неограниченными правами и полномочиями импровизировать и решать самостоятельно все вопросы в зависимости от складывающейся оперативной обстановки. С этим наша бригада и отбыла в Донбасс ранним утром следующего дня. Работали одновременно в нескольких городах, компактно расположенных на границе Донецкой и Луганской областей. Для экономии времени и достижения максимально возможной эффективности, еще в дороге, четко распределили направления работы и индивидуальные функции и задачи. Радиосвязь перевели на неиспользуемые местными службами каналы. Я взял на себя отработку руководства подразделений, обеспечение их невмешательства в наши конкретные мероприятия и общую координацию совместных действий. Гаишникам, естественно, поручили розыск необходимого транспорта и получение информации для параллельной отработки водителей операми.
С первых же минут общения, бросилось в глаза нездоровое, намного серьезнее нашего, противостояние начальников территориальных подразделений с УБОПом, представленным в них небольшими автономными группами. Завершая разговор, каждый из них по-дружески рекомендовал мне или вообще не связываться, или быть предельно осторожным в общении с сотрудниками не подконтрольной им новой службы. Мол, неуправляемые, высокомерные и тесно повязанные со всеми преступными группировками региона. Через несколько минут я от этих же УБОПовцев слышал зеркально похожую характеристику начальника – предатель, взяточник и тупица. Держится в кресле только за счет преданности и услужливости вышестоящему руководству. Принимая во внимание удручающую реальность, и с теми, и с другими пришлось работать почти втемную. Перед одними прикидывался олухом, чуть ли не из-под палки, нехотя выполняющим непонятные указания такого же бестолкового следователя. Перед другими – чуть ли не секретным и полномочным представителем министерского главка, одним телефонным звонком способного кардинально изменить карьеру любого местного начальника. Заручившись, в ответ на мою обтекаемую и расплывчатую просьбу пообщаться с опознанным лейтенантом неформально и самостоятельно, таким же неопределенным по смыслу согласием его непосредственного начальника, я решил, просто, вывезти подозреваемого в нашу область и всю необходимую дальнейшую отработку проводить уже там. Дождавшись его после службы у дверей собственного дома, представившись, предложил ему поговорить в салоне нашего «МЕРСа». Он, ничего не подозревая, или, сохраняя отличное самообладание, согласился без лишних вопросов. Наш разговор занял около часа времени. В конце его молодой лейтенант сам предлагал ехать к нам и лично участвовать во всех следственных действиях, необходимых для расследования упомянутых разбоев и доказательства его невиновности. Все формальности, связанные с предполагаемым непродолжительным отсутствием на службе, я пообещал ему легко утрясти через вышестоящее руководство. Все другие, скурпулезно и добросовестно проведенные мероприятия, не дали ни одного железобетонного доказательства, позволяющего подтвердить, или категорично исключить отрабатываемую версию. Засветившаяся машина так же была найдена, отработана и исключена, как не имеющая никакого отношения к расследуемым событиям в нашей области. В итоге, мы имели в активе всего лишь одного заложника. Он не скрывал, что в интересующий нас период действительно находился в нашем городе. По дороге, после сессии в КВШ, однокурсник пригласил в гости к себе домой. Действительно, засветились в нескольких людных местах в милицейской форме. Но никаких разбоев, и вообще преступлений, в своей жизни не совершал. Обещал предоставить алиби. Принимая окончательное решение, я понимал, что руководствоваться только собственной интуицией, в данном случае было легкомысленно и опасно. Никаких зацепок и данных о связях его с криминалом, добыто не было. Вел себя он достаточно естественно. Я склонялся к внутреннему признанию его невиновности, несостоятельности всей версии, основанной на плохо проработанных случайных совпадениях и оценочных заблуждениях. Строить планы дальнейших действий исходя из ненадежного принципа «веришь – не веришь» было опасно еще и потому, что завтра он по любой причине мог отказаться от своего обещания добровольного сотрудничества, обвинив нас в противоправном и насильственном похищении. В этом случае, заложником ситуации становлюсь уже я. Но другого выхода из создавшегося положения, я не видел. Реакцию и ответ высших милицейских руководителей на вопрос подчиненных «Ну, и что теперь будем делать!?» я четко усвоил много лет назад, поэтому даже не собирался им звонить.
Когда на подъезде к Донецку, в периодических радиопереговорах между машинами все чаще стали звучать прямые намеки о необходимости перекусить, после непродолжительного совещания, мы решили разделиться. Розыскники и гаишники, обогнув Донецк по южному объезду, должны были дожидаться нас на западном выезде из него. Я решил не нарушать сложившуюся традицию и хотя бы на несколько минут заехать к родителям. Пленного лейтенанта пересаживать из нашей машины не стал. Опасаясь, что любое неосторожное слово и неосмотрительное действие розыскников может нарушить равновесие хрупкого компромисса, с трудом достигнутого между нами, решил взять его с собой. Всю дорогу в машине, я постоянно разговаривал с ним на разные, порой отвлеченные темы, пытаясь не только глубже изучить и почувствовать его личность, но и незаметно поймать на каких-нибудь противоречиях и нестыковках в ответах на мои вопросы. Перед тем, как войти во двор родительского дома, я кратко проинструктировал его о границах допустимого поведения и на всякий случай предупредил, что если, все-таки я в нем ошибся, и он, воспользовавшись ситуацией, выкинет какой-нибудь нежелательный фортель – пристрелю собственными руками. Он пообещал вести себя адекватно, тем не менее, двое проверенных сотрудников получили задание не отлучаться от него ни на шаг. Михаил Сергеевич встречал нас с нескрываемой радостью. Евдокия Александровна вела себя более сдержанно. Я выполнил свое обещание, организовав ей хороший курс лечения в нашей милицейской медсанчасти. Но она так и не простила меня, хоть и всячески скрывала свою обиду и сожаление по поводу неожиданной и непринятой ею замены сыном клятвы Гиппократа на присягу милиционера. Отец, выросший без собственного отца и братьев, сильно скучал по мне. Мои неожиданные приезды, особенно с друзьями и сослуживцами, были для него настоящим праздником. Их он считал чем- то большим, чем просто моими друзьями и сослуживцами. Не скрывая отеческих чувств, воспринимал их всех моими кровными братьями и своими любимыми сыновьями. Двоих из прибывших гостей он помнил не только в лицо, но и по именам, по их предыдущим визитам. За столом, он сразу обратил внимание на грустного лейтенанта и поинтересовался, почему молодец не весел. Пока, по-юношески растерявшийся лейтенант подыскивал необходимые слова, за него ответил сидящий рядом Игорь: «Да служба, батя, заела! Некогда даже посидеть, выпить и поговорить по-людски». Поняв намек, я разрешил всем выпить «на коня». Скрепя сердце, намекнул, что гости хороши со спины. Напомнил, о ждущих за Донецком коллегах и о том, что нам еще несколько часов добираться по ночной дороге. Родители уговаривали переночевать и выехать уже утром. Через несколько минут, загрузив в багажник сумку с продуктами и угощениями со стола, тепло распрощавшись, мы тронулись дальше. Когда впереди показались огни нашего областного центра, я все-таки понял, что меня беспокоило и тревожило всю дорогу. Все больше склоняясь к невиновности конвоируемого нами лейтенанта, я все отчетливее понимал, какие неприятности и испытания готовит ему завтрашний день. УБОП, по действующим приказам, не может автономно работать по фактовым общеуголовным преступлениям. Завтра наши сотрудники, и я в том числе, будут выведены из состава комплексной оперативно-следственной группы. Потеряют возможность не только влиять на принятие решений, но даже контролировать ход дальнейших событий. Считая себя «зубрами сыска», работающие по делу опера УУР, не имея по нему ничего кроме, привезенного нами лейтенанта, в очередной раз покажут себя во всей красе. Даже высказанное мной особое мнение о его невиновности, подробный и обстоятельный рапорт по результатам командировки не в состоянии изменить ситуацию и остановить безжалостные жернова традиционных уголовно-розыскных методов предстоящего дознания. Более того, именно это мое мнение может стать катализатором для некоторых из них в стремлении «переплюнуть и заткнуть за пояс» мягкотелого и чересчур лояльного УБОПовца, не сумевшего расколоть коварного оборотня. Значит, как всегда, придется действовать скрыто и опосредованно. Вся надежда на Василия Николаевича. Как бывший БХССник, он не может и не станет вникать во все розыскные тонкости и издержки, но как первый заместитель начальника областного УВД, в состоянии урегулировать все вопросы не только в своей собственной области, но и с Донбассом и Киевом.
Россия, Нижегородская область. Лето 2013 года
Наконец-то мы собрались съездить в Кудлей, родное село отца, в котором я не был уже около 40 лет. Второй год я снимаю жилье в Нижнем. До сестры-160 километров. Навещаю ее не чаще, чем раз в месяц. В Кудлей можно добраться только на машине, автобус отменили много лет назад. Кроме нас с сестрой, в машине еще 85-летняя двоюродная тетка отца Прасковья, мы ласково называем ее тетей Паней. За рулем просторной Хонды – моя племянница, старшая дочь Татьяны, Оксана. Проехав Матвеевку, свернули на второстепенную дорогу и привычный ландшафт стал заметно меняться. На давно не ремонтированной дороге не было указателей, зато изобиловали ямы и ухабы, объезжая которые Оксанка сбрасывала газ до нуля и демонстрировала чудеса автослалома. По обеим сторонам дороги набирал силу молодой лес. Слушая Панины комментарии, я понял, что в недалеком прошлом это были колхозные поля. Вспомнились недавние выступления активистов Общероссийского Народного Фронта, бьющих тревогу по поводу несанкционированной вырубки и сокращения площади лесов. А у нас, в отличие от всей матушки России, оказывается, тенденция – противоположная.
Я старался вспомнить, как выглядело отцовское село в годы моих детских посещений и представить, что я увижу сейчас. Это у меня плохо получалось – разрозненные детские воспоминания и недавние рассказы тети Пани о том, что село вымерло и разъехалось, упорно перебивала крепко засевшая в памяти рисованная план- схема из семейной рукописи. Дело в том, что вместе со мной, проделав более чем полувековое путешествие по Донбассу и Украине, на родину вернулся еще один носитель коллективной семейной памяти. Я называл ее летописью. Это была даже не книга, а сшитый из нескольких частей рукописный дневник, по внешнему виду напоминавший видавший виды амбарный журнал. Более века назад его начал вести прадед по бабушкиной линии. Отец в 50-х привез его в Донбасс, я в 80-х увез в Приднепровье, а год назад – возвратил в исходную точку Приволжья. В этой рукописи, кроме истории села, было много конкретных сведений о его жителях и событиях, статистические выкладки о рождаемости и смертности, урожаях и ценах. Была там и нарисованная от руки план- схема, детально отображавшая несколько улиц с сотнями домов, прудом и церковью. Из этой же книги я с удивлением узнал, что за сто лет до моего рождения, один мой прямой предок, чью фамилию я сейчас ношу, спалил избу своему односельчанину по фамилии Утин. Меня удивил не сам факт поджога, хотя конечно и это очень хотелось бы прояснить. Моя бабушка Оля в девичестве тоже была Утиной. Похоже, что именно ее брак с дедом положил конец предшествовавшим фамильным распрям, и мы с сестрой в настоящее время прекрасно общаемся с родственниками Утиными, живущими в том же райцентре. Миновав безжизненную и обшарпанную церковь, я понял, что действительность превосходит все мои тревожные ожидания. Села, как такового, действительно не было. По правому берегу заросшего пруда, беспорядочно и сиротливо ютились несколько почерневших и покосившихся изб. Угадать улицу в их хаотичном расположении было очень трудно. Еще несколько подобных строений было разбросано на другой стороне пруда и на въезде, напротив церкви. Проехав без остановки мимо, прекративших работу над срубом колодца и с нескрываемым интересом рассматривавших незнакомую машину молодых парней, мы остановились возле вышедшего из избы старожила. Дед Иван был почти ровесником тети Пани, хорошо знал ее и моих родителей, помнил всех наших дедов с бабками и тетками. В разговоре он подтвердил, что постоянно в селе живут около десятка семей, еще несколько приезжают на лето, используя бывшее жилье в качестве дач. Сфотографировавшись на память, мы вежливо отклонили приглашение посидеть и отобедать в избе. Пообещали обязательно зайти в следующий приезд, когда у нас будет больше времени. Таня настойчиво тянула нас в церковь. Добраться до нее было непростой задачей, так как для этого нужно было преодолеть несколько десятков метров густых зарослей борщевика. Гуськом, очень осторожно и аккуратно притаптывая двухметровые ядовитые стволы опасного растения, мы как покорители амазонских джунглей, почти час пробивали трудную дорогу к храму. Намочивший нас летний дождь сестра назвала не обычным природным явлением, а божьим знамением, и после входа внутрь, предложила всем помолиться. То, что церковь не действовала с 30-х голов прошлого века, вместо икон на стенах сохранились лишь отдельные фрагменты росписи, а на куполе давно не было креста – ее нисколько не смущало и не останавливало. Она истово верила в силу и святость веками намоленного массивного и, на удивление, хорошо сохранившегося строения. Они с Паней и Оксаной долго и горячо молились вместе, я отошел подальше и тоже, как мог, собственными словами помолился за всех умерших и живых родственников. Потом пошли проведать избу тети Пани. Здесь мне тоже пришлось повоевать с борщевиком, плотной стеной преграждавшим дорогу к покосившемуся крыльцу. Похоже, сюда давно не ступала нога хозяина – перекошенная дверь в сени с трудом поддалась и отворилась лишь с третьей попытки. На шатком и скрипучем полу сеней островерхим шалашом торчали обломки упавших сверху полусгнивших досок, в крыше зияла огромная дыра. В единственной жилой комнате взгляд сразу же остановился на вздыбившихся досках пола и опасно покосившемся дымоходе. Сама печь была заметно меньших, чем обычная деревенская, размеров и располагалась, почему- то в центре комнаты. «Вот, забирай избу и живи-поживай, добра наживай» – шутливым тоном предложила тетя Паня. «Подправишь чуток полы да крышу, и живи на здоровье, сруб-то еще крепкий, сто лет простоит!» Я представил себе, как мои жена и дочки, вместе с фотографиями здешних достопримечательностей, получат от меня предложение поменять квартиры в областном центре и столичном Киеве на покосившуюся избу в глухой деревне. Они однозначно решат, что я совсем утратил разум от большой и безответной любви к малой Родине. Поблагодарив тетю Паню за щедрый подарок, пообещал подумать о ремонте. Уточнил, что переезжать пока не готов – хочу еще пару лет поработать в Нижнем. А использовать избу в качестве дачи – вполне реально.
Подошла соседка – давняя теткина подруга. Удивленная нашим приездом, долго расспрашивала о родителях и родственниках. Согласившись на настойчивые просьбы отобедать в ее избе, женщины отправились накрывать на стол. Я же, запомнив их советы и ориентиры, пошел искать место, где когда-то стояла дедова изба. Если Таня, еще как- то ориентировалась в остатках деревенской улицы, и смогла даже правильно угадать в покосившемся брошенном сарае бывший магазин, мои детские воспоминания улетучились напрочь. Я абсолютно ничего не помнил и не мог сориентироваться на местности, избеганной в далеком детстве вдоль и поперек. Постояв на указанном пустыре несколько минут, тщетно пытаясь отыскать взглядом хоть какие-нибудь признаки былых строений, направился к пруду. Мои надежды на то, что энергия родной земли и детские воспоминания помогут моей уставшей и истосковавшейся душе, хоть на миг, встретиться и пообщаться с душами давно ушедших предков, не оправдывались. Меня переполняла какая-то меланхолическая печаль, плохо осознаваемое ощущение безвозвратной потери чего-то очень важного и значимого. С торчащей из воды коряги нехотя взлетела большая серая цапля, еще больше усиливая впечатление удаленности и изоляции этого оазиса дикой природы от всего остального суетливого и шумного цивилизованного мира. В голову пришла шальная и провокационная мысль. А что, Михалыч, слабо и вправду переехать и поселиться здесь?! Отремонтировать избу, а позже рядом построить добротный каменный дом. Завести крепкое домашнее, а потом и фермерское хозяйство. Организовать прихожан и местные власти на восстановление храма!? Возродить былую красоту и значимость родного села и, наконец-то, свить родовое гнездо! Полет разыгравшейся фантазии безжалостной картечью прервала встречная мысль. Уже поздно! Не хватит ни времени, ни силенок. Даже большой и дружной семье, не то, что бродяге-одиночке. Не беда, что в селе нет ни газа, ни водопровода, ни канализации. Эти неудобства меня не пугали. Другое дело – здоровье. До ближайшей больницы-многие километры. Представь, что тебя прихватила серьезная болячка в морозную и заснеженную зимнюю ночь?! А рядом – никого. Да и в магазин придется ездить в соседнее село. А что, кроме этого, может быть более реальным смыслом и оправданной целью твоего возвращения на родину предков?! Не отказывайся, подумай еще – риск благородное дело! Продолжая мысленно уговаривать себя не расставаться с иллюзорной мечтой, я вернулся в избу к женщинам. После обеда, распрощавшись с гостеприимной хозяйкой, покинули село. Тетя Паня попросила, по пути назад, завезти ее на старое кладбище, проведать могилу матери.
Я очень удивился, когда Оксана остановила машину в трех километрах от села, в чистом поле. Вернее, в чистом лугу. По обе стороны от дороги простиралось бескрайнее море густой и высокой травы, раскрашенное пятнами ярких полевых цветов и одинокими островками кустарников. В полукилометре справа начинался старый темный лес. «Ближе подъехать не могу, придется пройтись пешком» – оправдалась Оксана перед уставшей тетей Паней. Выйдя из машины и осмотревшись вокруг, я еще раз убедился, что никакого кладбища поблизости нет. Тетя Паня уверенно направилась по едва различимой тропинке к лесу, мы гуськом поспешили за ней. У самой кромки, на нашем пути попался торчащий из густой травы старый могильный крест, без портрета и таблички. По едва заметному холмику я догадался, что под ним в забытой и безымянной уже могиле покоится кто-то из бывших сельчан. Видя мое замешательство, она просветила меня, что давным-давно здесь, на сельской окраине, было большое, старое кладбище. По мере уменьшения размеров села и наступления леса, большинство могил оказались в лесной чаще. Хоронить стали на новом, ближнем кладбище. Несколько лет назад она с трудом отыскала затерявшуюся в густых зарослях могилу матери. С помощью добрых людей поставила простенький памятник, новую оградку и навела порядок. Теперь, борясь с напористым и неукротимым лесом, и с собственным преклонным возрастом, старается использовать малейшую возможность, чтобы навестить мать и подправить могилку. Только бы, с божьей помощью, найти ее. В том, что Паня нисколько не преувеличивает насчет коварного леса, мы убедились уже через пол часа. Прочесав цепью и поодиночке несколько гектаров лесной чащи, мы так и не нашли нужную могилу. Попадались едва различимые холмики с покосившимися или упавшими крестами, многие без табличек и оград. Я ,вспомнив украинские реалии, даже предположил, что лихие люди разорили могилу и унесли ограду на металлолом. Но сестра с племянницей, пристыдив меня, заверили, что подобного здесь отродясь не бывало. Мне больно было смотреть на тетю Паню. Молясь и крестясь, она просила господа помочь отыскать заветную могилу и каялась, что недостаточно уделяла времени и внимания матери при жизни и после смерти. Когда расстроенные женщины, окончательно потеряв надежду, решили возвращаться ни с чем, я заупрямился и в очередной раз вернулся в лесную чащу. Решил не сдаваться и во что бы то ни стало, разыскать могилу. Через несколько минут поисков, наконец-то, увидел ЕЕ. Сквозь густую листву я сначала почувствовал, а уже потом, рассмотрел взгляд карих глаз красивого и слегка печального женского лица. Пробравшись ближе, прочитал под эмалированным фотопортретом надпись Ширяева Татьяна Николаевна…Она тоже была моей родственницей, похоже, самой красивой из всех, кого мне удалось увидеть живыми или на фотографиях. Спохватившись, взяв за ориентир самое большое и приметное дерево, я с криком побежал догонять удалявшихся от леса родственниц. Вернувшись к могиле, Паня без остановки плакала и благодарила меня за подаренную в последний момент встречу с матерью. Таня, мельком вспомнив мои навыки сыщика, потом, все-таки, связала мою удачу с притяжением родственных душ. Мне было без разницы, я радовался, что помог тете Пане и познакомился с красивой родственницей. Все вместе прибрали могилу, вырвали траву и молодые кустарники. Сфотографировав по просьбе Пани портрет матери (у нее не сохранилось ни одной удачной и красивой копии), и на всякий случай – приметное в три обхвата, дерево – ориентир, уже совершенно с другим настроением, вернулись к брошенной на дороге машине. То ли из-за усталости, то ли из-за переполнявших чувств и эмоций, оставшийся отрезок дороги ехали молча.
УКРАИНА, Приднепровье. Конец сентября 2014 года
Не знаю, сколько я просидел, тупо и бессмысленно уставившись в экран ноутбука. Пару дней у меня не было времени и возможности пользоваться интернетом, и лишь сегодня, выкроив несколько минут, я зашел в «Одноклассники». В последние месяцы этот канал связи, наряду со Скайпом, стал основным способом общения с семьей и друзьями, оставшимися на Украине. Раньше интернет мы с женой для общения использовали не так уж и часто. Мне удобнее и привычнее было приехать или позвонить, чем писать сообщения и разговаривать через экран компьютера. Помню, когда она зарегистрировалась в качестве друга на моей страничке в «Одноклассниках», да еще используя при этом фотку незнакомой мне женщины, я не удержался и пошутил, что она, наконец-то, повысила и привела в соответствие с реальной действительностью свой статус, перейдя из жены в подругу. Ее сообщение начиналось словами: «Ты, конечно, будешь в шоке…». Она угадала. Если наши с ней отношения в последние годы грубо и упрощенно можно было назвать напряженными и противоречивыми, в последние несколько месяцев они трансформировались в ненормально стрессовые. В нашу семью ворвался разрушительный смерч мировоззренческого, культурного и социально-политического украинско-русского противостояния. Ворвался, безжалостно уничтожая и обесценивая все хорошее и значимое, накопленное за тридцать лет жизни в браке. Полгода назад, используя свои юридические, политические, исторические и географические преимущества, легализовав волю населения результатами референдума, Крым вернулся в состав Российской Федерации. Без жертв и насилия. Родному Донбассу повезло намного меньше. Свое несогласие с февральским государственным переворотом, свободу и человеческое достоинство моим землякам пришлось отстаивать с оружием в руках, платя при этом непомерную цену за чужие ошибки. Из –за повсеместной паники, технических и организационных проблем, общаться с родными и близкими, оставшимися в Донбассе и на подконтрольной Киеву территории Украины, стало очень трудно, порой невозможно. Чтобы быть в курсе событий, я старался использовать все каналы и источники информации. От российских и украинских интернет – ресурсов, телевидения и радио – до живого общения с их очевидцами и участниками. Включая вынужденных переселенцев и беженцев на всех доступных для связи и общения территориях (Крым, Донбасс, Украина, Россия, Европа, Израиль, Канада и т.д.). Хотелось быть объективным, беспристрастным и терпимым в своих выводах и оценках происходящего. То же, примерно, пыталась делать и моя дорогая половина. Но в отличие от моих, ее возможности ограничивались узким кругом украинских родственников, подруг и соответствующего по диапазону интернет – общения. Разница в восприятии и оценках трагических и пугающих событий стремительно росла, взаимопонимание пропорционально таяло, как прошлогодний снег. Меня, хоть немного, поддерживала надежда на то, что весь этот кошмар может повлиять на ее решение сохранить семью и переехать в Россию. Для нее, как оказалось, такого просвета в конце тоннеля, не было изначально. С апреля Украина закрыла въезд на свою территорию гражданам России мужского пола, в возрасте от 18 до 60 лет, лишив меня возможности решать множество старых и новых лично-семейных вопросов самостоятельно, посредством поездок в Приднепровье. Приходилось действовать дистанционно, личное общение ограничилось виртуальной плоскостью. Пытаясь выполнять нашу с женой договоренность, я как мог, старался не выходить в нем за пределы лично-семейных отношений. Но это оказалось невозможным. Любой разговор, начавшийся с безобидной бытовой или семейной темы, неизбежно соскальзывал на оценку текущих событий, выяснение и доказывание правоты одной из сторон. Все чаще я ловил себя на мысли, что мы с ней стали воспринимать и понимать происходящее диаметрально противоположно. Никакие доводы и аргументы, самые объективные, легко доказуемые и проверяемые, не могли убедить ее в моей правоте. Все чаще кто-то из нас, поддавшись эмоциям и отчаянью, прерывал сеанс едва начавшейся виртуальной связи и потом долго не хотел звонить первым. Она не верила, что меня не пускают на Украину. Считая, что я просто избегаю встреч с ней и дочерями, измором принуждая к измене любимой родине и переезду на территорию ненавистной страны – агрессора. В конце мая закончился срок действия моей банковской пенсионной карты, оставленной жене для текущей финансовой поддержки. Оформить новую я не мог. Оценив все плюсы и минусы, решил перевести пенсию в Россию. Начав в июне процедуру дистанционного решения этого вопроса, я разбудил и сдвинул с места лавину неожиданных и серьезных проблем, многие из которых остаются неурегулированными до сих пор. В сентябре, отказав в пересылке моего личного дела в Россию, пенсионный фонд Украины полностью прекратил мне начисление и выплату пенсии. Я попросил жену выполнить для меня несколько несложных поручений в этой связи, написав ей в «Одноклассниках» подробные инструкции. С явной неохотой приступив к их выполнению, она прислала мне пару промежуточных ответов. Меня насторожило ее едва заметное смещение акцентов в сторону необходимости изменения долевых имущественных прав на нашу общую квартиру. Но я не придал этому значения, расценив его, как женское недопонимание сути вопроса, мягко подкорректировал безобидной шуткой. Потом моя жена пропала. Несколько дней я не мог связаться с ней по телефону и Скайпу. Не было сообщений и в «Одноклассниках». Во время последнего сеанса связи по Скайпу я обратил внимание на ее неестественную заторможенность и какую-то отрешенность. Она признала, что украинский интернет пестрит сообщениями о том, что Донецкие террористы при поддержке российских войск начали массированное наступление. В Приазовье и Причерноморье уже видели колонны российских танков и БТРов. Я сначала даже подумал, что она действительно попала под зомбирующее влияние не только украинских средств массовой информации, но и какого-нибудь секретного психотропного облучения, если искренне верит в эту чушь. Но потом понял, что она уже не может совладать с охватившим ее чувством страха и паники. Страха не только за себя, женщину, оставшуюся в тяжелую минуту без мужа. Она больше боялась за детей и своих престарелых родителей.91-летний тесть и 72-летняя теща жили на Азовском побережье и так же неминуемо попадали в предполагаемый украинцами коридор, пробиваемый оккупантами с востока к уже захваченному Крыму. Обе наших дочери также находились в это время вместе с ней. Старшая Екатерина, во время разгула Майдана, сдала свою киевскую квартиру в аренду. Сначала какой-то молодой местной паре, а позже – беженке из Луганска. Вернулась к матери и младшей сестре. Я твердо знал, что никакой агрессии российской армии, никакого наступления ополченцев на юге Украины нет. Списал психоэмоциональное состояние жены на усиливающийся хронический стресс, а ее отсутствие в интернете – на занятость и технические проблемы связи.
Когда я стал приходить в себя и до меня начал доходить полный смысл прочитанного сообщения, я с сожалением понял, что ситуация намного серьезнее, чем мне казалось раньше. В наших с женой отношениях давно происходят скрытые и неконтролируемые мной перемены. Она сообщила, что в связи с тем, что наша, выставленная на продажу два года назад, квартира обесценилась наполовину и не продается, она сдала ее внаем. Взяв с собой минимум необходимого, 30 сентября (то есть, уже вчера) грузовой ГАЗелью они с Катей уехали жить в Чернигов. Младшая, Надежда, прихватив с собой неразлучную Вету (подружку и воспитанницу породы Русский Той-терьер) на любимом Шевроле, переехала жить в Днепропетровск к жениху Александру. Закончив сообщение припиской, что решает проблемы, как может, жена пообещала выйти на связь сразу же, как обустроится на новом месте.
Теперь я, действительно, был в шоке. Несколько минут не мог сосредоточиться, спокойно осмыслить и понять, что из этой неожиданной информации расстраивает меня больше всего. Почему именно Чернигов? Потому, что там живет 90-летний родной брат тестя, дядя Иван? Несколько лет назад он перенес тяжелый инсульт и нуждался в постороннем уходе. Я знал о нем. В свое время помогал перевезти его из Чернигова к тестю, как только стала возможна трудная и опасная транспортировка тяжелого больного. Там, автоматически, для моих решается проблема с новым жильем. У Ивана, бывшего зубного техника, много лет проработавшего с золотом – огромный, правда не совсем достроенный, дом. Жены и детей нет, так что места для моих хватит с избытком. Но почему все так тайно и скрытно? Почему не сообщить заранее и не посоветоваться? Почему молчали дочки, с которыми я неоднократно общался накануне, параллельно с женой? Неужели, она настраивает их против меня, и они таким образом проявляют с ней скрытую солидарность? Может, боялась, что я буду против? Но я – за! Даже по вновь открывшимся обстоятельствам. Поднятая мной волна противостояния с Украинским пенсионным фондом, неизбежные трения с чиновниками и бывшими «товарищами», сочувствующими и поддерживающими Правый Сектор, вполне вероятным рикошетом могли достать и семью. Успокоившиеся было страсти по поводу моего переезда в Россию, в последние дни разгорелись с новой силой. Я был не против того, чтобы они на какое-то время покинули родной город и переждали смутное время в каком-нибудь тихом и спокойном месте. Меня так же не сильно беспокоило, что в моей квартире теперь живет донецкий налоговик с семьей. Его нельзя было назвать беженцем. Если он и убежал – то только от гнева восставшего населения. Судя по всему – он признал и принял новую киевскую власть и продолжал служить ей. Бог ему судья, это – его личное дело. Для меня этот аспект сейчас не особенно важен. Я не жадный и не брезгливый. То, что он сейчас пользуется моей мебелью, читает книги из моей библиотеки, любуется моей, пусть и небольшой и не очень ценной, коллекцией живописи на всех стенах просторной квартиры – меня так же не смущало. Думаю, что моя дорогая, все-таки, догадалась убрать и закрыть в одной из кладовок мои личные вещи, и он не примеряет, под игривое настроение, мою парадную милицейскую форму. Я понял, что меня беспокоит и угнетает совсем другое. Эта квартира была для меня не просто бывшим жильем.
Вспоминая прожитое, я сам удивлялся своей необычной и нестандартной биографии вечного бродяги, квартиранта и временного постояльца. За свою недолгую жизнь я сменил десятки адресов временной регистрации и постоянной прописки. В моем первом, еще СССРовском паспорте нет свободного места от многочисленных штампов. Все свои скитания и переселения я вспоминал не только с легкой грустью, но и с неизбежной, непроизвольной улыбкой. Большинство из них было связано не только с экстренной необходимостью, но и с какими-то приключениями и хохмами.
Первое, после родительского дома, мое съемное жилье, представляло собой комнату в старом частном доме. Мы сняли ее с Дробко Иваном, таким же первокурсником из Кировоградской области. Деканат, учитывая нехватку мест в общежитиях, посчитал, что сын зажиточного шахтера из процветающего Донбасса, может позволить себе и съемное жилье. Чем руководствовались, отказывая в поселении в общагу Ивану, сыну обычных врачей из провинции, я уже не помню. Мы были с ним идеальными квартирантами – не курили и не пили, оба занимались спортом. Вели себя тихо и скромно. Девочек не водили. Тем не менее, отношения с хозяевами, пожилыми одинокими супругами, не складывались. Хозяйка, видимо истосковавшись по отсутствовавшим детям и внукам, доставала и раздражала нас, с виду естественной, но явно избыточной опекой, искусно скрывавшей недоверие и повышенный контроль. Я подозревал, что она в наше отсутствие, под предлогом абсолютно ненужной, дополнительной уборки, регулярно роется в наших личных вещах. Чтобы прекратить это постыдное занятие я спрятал в интересующем ее месте, принесенный для домашних занятий, из институтской анатомки, натуральный человеческий череп. Эффект превзошел даже самые смелые мои ожидания. Правда, послужил главным поводом нашего переселения. Но к тому времени, как «отличники учебы, спортсмены, комсомольские активисты и просто красавцы», мы уже заслужили место в общежитии, и следующие 4 года я в полной мере наслаждался прелестями жизни в студенческих муравейниках. По мере перехода с курса на курс, повышения статуса комсомольского лидера и успевающего студента, я соответственно, повышал и уровень комфорта и престижности занимаемых комнат. Последовательно жил во всех корпусах – от комнат на 4-х в старых пятиэтажках коридорного типа, до отдельных полулюксов в уютных блоках новых многоэтажек. Неизменным оставался только один атрибут – я всегда жил в комнатах с иностранными студентами. Этого требовали негласные правила социалистического общежития, умноженные на идеологические догмы и КГБшную предусмотрительность. Когда к концу пятого курса, за год до окончания института, крепко спаявшись с отрядом и уголовным розыском, мне стало трудно соответствовать этим правилам, я вновь вернулся к городскому съемному жилью. Для того, чтобы поселиться в двухкомнатной квартире на первом этаже, со всеми необходимыми удобствами, мебелью и телефоном, да еще с отсутствующими в городе хозяевами, холостому студенту пришлось поднапрячься и разыграть целый спектакль. В это время, мой будущий кум и начальник Валера Зотов, предварительно пройдя, аналогичные моим, жилищные мытарства, переезжал в новую 2-х комнатную квартиру, полученную от УВД в Бородинском микрорайоне. Он уже был женат, несколько месяцев назад у них с Валентиной родился сын Мишка. Эти два обстоятельства были необходимым условием для новых претендентов на занятие освобождающейся квартиры. На собеседование с прилетевшими из Тюмени хозяевами, со странными именами Август и Марта, я прибыл во всеоружии. Под ручку с одной из институтских подруг, с обручальными кольцами на безымянных пальцах, взятыми на прокат у знакомой семейной пары. Обладатели календарных имен искренне поверили в безупречную легенду и подписали договор, правда, с предоплатой на год вперед. Вселившись, я первым делом, без труда вскрыл отмычкой вторую комнату, в которой хозяева благоразумно заперли недостающую мне мебель. Наведя в ней необходимый порядок, оборудовал ее под спальню. Отведенную по договору найма большую комнату, с прислоненным к стене трельяжным зеркалом и телефонным аппаратом на полу, оставил нетронутой в качестве домашнего спортзала. Два года, втайне от хозяев и соседей, тихая и приличная внешне двушка, пребывала в самых невероятных качествах и статусах, далеких от предусмотренных договором найма. Она одновременно выполняла роль ночлежки для местных друзей, гостиницы для приезжих, удобным и безотказным местом интимных свиданий. Была своеобразным центром связи и передачи срочной информации посредством известного сотням людей телефонного номера. Для избранных, она была так же официальной явочной квартирой уголовного розыска. Забегая наперед и предвидя мой будущий выбор, один из уважаемых мной офицеров городского угро убедил меня помочь ему и общему делу. Он, на свой страх и риск, рассказал мне некоторые подробности секретной оперативно-розыскной деятельности и уговорил обеспечить ему и нескольким другим, знакомым мне офицерам, возможность использования квартиры для негласных встреч с нужными людьми. Я изготовил и раздал им несколько дубликатов ключей. Позже заметил, что самыми нужными из тайных визитеров, оказались довольно симпатичные и сексуальные женщины, внешне мало похожие на информаторш и радисток Кэт. Но это было не мое дело. К тому же, возвращаясь в квартиру утром следующего дня я, голодный после ночного дежурства студент, с удовольствием завтракал непривычными и вкусными деликатесами, оставленными в холодильнике таинственными ночными визитерами. Естественно, что такое активное и многопрофильное использование квартиры, неоднократно отзывалось рикошетом отдаленных последствий для многих причастных к ней людей. Так, приехав через год за получением очередной оплаты из далекой Тюмени, несчастный хозяин Август, ночь провел в «обезьяннике» ближайшего РОВД. Конечно, главную роль в этом сыграла цепь случайностей и неблагоприятное стечение обстоятельств. Приехав вечером к квартире, он с его слов, был уверен, что квартиранты находятся дома. Но когда, после настойчивых звонков и стука в дверь, невнятные звуки за ней прекратились, а никто и не подумал открывать, он забеспокоился и решил забраться внутрь через открытую форточку. Конечно, он в тот момент не мог предвидеть, какую злую шутку сыграют с ним пожилой возраст, выпитые перед этим у друзей несколько рюмок водки и неосмотрительно оставленные у них же документы. В форточке он, естественно, застрял. На шум закономерно среагировали бдительные жильцы. Кто именно, соседи или не желавшие огласки посетители квартиры, мне так и не удалось позже выяснить. Внешний вид, запах спиртного, бессвязные упоминания о прилете из Тюмени и отсутствие каких-либо документов, позволяющих установить личность, сыграли главную роль для принятия решения, на удивление, быстро среагировавшему на вызов наряду милиции. Как на зло, жильцы, привлеченные к опознанию наглого самозваного соседа, переехали в этот дом относительно недавно. Они никогда не видели Августа, уже несколько лет живущего далеко на севере. Мне же сообщили о пленении квартиросдатчика только утром. Но ему еще повезло. Не вмешайся в ситуацию те же, мои знакомые офицеры, сидеть в обезьяннике ему пришлось бы намного дольше. Второй рикошет, серьезно зацепив и ранив жену, попал в меня самого. Приведя, после двух лет холостяцкой жизни, в квартиру свою любимую и ненаглядную в качестве законной жены, я через некоторое время сам испытал на себе последствия бурного предшествовавшего периода ее использования. Возвращаясь поздно вечером домой, я неоднократно заставал ее расстроенной и заплаканной. На мои вопросы по этому поводу она упорно не отвечала. После очередного ночного звонка, заметив, как она нервно и презрительно бросила на аппарат трубку, я все понял. Ежедневно, в мое отсутствие, ее донимали телефонные звонки. Наглые и настойчивые женские голоса высказывали сомнения на ее представление в качестве моей жены и требовали позвать к телефону меня лично. По срочной и неотложной надобности. Мне стоило большого труда успокоить, в доступной и корректной форме убедить ее, что большинство из этих женщин ищут не меня. Еще больше времени и сил занял процесс оповещения всех временных постояльцев о том, что универсальная явка закрыта по форс-мажорным обстоятельствам.
Следующей была квартира старшей сестры жены, Людмилы. Выйдя замуж за талантливого днепропетровского художника Женю Лунева, она освободила бывшую родительскую жилплощадь в пользу своей сестры, ставшей к тому времени матерью. Квартира представляла собой две небольшие комнаты «трамвайчиком» в старом одноэтажном бараке, с маленькими низкими окнами и полами, намного ниже уровня порога. Соседи – старожилы рассказывали, что в Великую Отечественную в них располагались немецкие конюшни. Я уже знал этот двор и эту квартиру. Лет пять назад, навестив по служебным делам ютившегося в торцевой каморке этого же барака бродягу Мальцева Жору, я впервые услышал от него о проживавших в третьей квартире трех сестрах – художницах. Тогда меня это удивило. Три молодых, незамужних художницы, живущих в таком «шанхае», показались мне фантастическим вымыслом. Стометровый отрезок улицы Гоголя, на котором располагался этот барак, с одной стороны упирался в задворки самого старого и большого в городе рынка, с другой – в цыганский поселок с весьма нехорошей репутацией. Это соседство и определяло специфику жизни одного из самых криминальных закоулков областного центра. Все, кто мог, давно выехали отсюда, сдав освободившиеся квартиры и комнаты под склады, мелкие оптовые магазинчики, съемное жилье для приезжих грузчиков и реализаторов. При этом, в каждой квартире оставались прописанными десятки людей, почти половина из которых состояла на учете в качестве ранее судимых, находящихся в розыске, наркоманов, алкоголиков и других представителей асоциального подучетного контингента. Все они ждали сноса и расселения этих трущоб. Местные власти и администрация крупнейшего и богатейшего предприятия, которому по генплану развития города принадлежала данная территория, зная страшную демографическую картину, не спешили с реализацией крайне затратного плана. Ждали, когда ситуация нормализуется естественным путем вымирания оставшихся жителей. Я согласился на этот рискованный переезд не только по экономическим соображениям – с рождением дочки платить за съемную квартиру, даже при двух работающих родителях, было уже накладно. Не менее важным был и другой аспект-до РОВД, в котором я работал заместителем начальника уголовного розыска, было всего 200 метров и 5 минут неторопливой ходьбы.
И с этим жильем было связано немало интересных и запоминающихся моментов. Это был год 70-летия службы уголовного розыска. В наш город из Москвы прибыла съемочная группа Центрального телевидения для работы над местным фрагментом документального фильма о героическом авангарде советской милиции. Как обычно, я узнал об этом в последнюю очередь, одновременно с категоричным приказом высокого начальства. Никакие аргументы о сложной оперативной обстановке и чрезмерной загруженности, о десятках более достойных, фотогеничных и говорливых сотрудников службы, мечтающих о славе и известности, не помогли. Не подействовала даже моя вполне реальная и правдоподобная угроза наговорить москвичам много лишнего, что обязательно не понравится руководителям, «кинувшим меня под танк», даже не спросив согласия. После краткого и язвительного ответа начальника городского отдела УР: «У нас теперь гласность и демократия, перестройка и ускорение. Говори, что считаешь нужным, все равно лишнее вырежут!» – мне было приказано отбыть в распоряжение уже ожидавших в микроавтобусе киношников. Ребята из съемочной группы, в отличие от своих предыдущих коллег, с которыми мне уже приходилось сталкиваться, оказались вполне адекватными, лишенными столичного снобизма и высокомерия, профессионалами и интересными собеседниками. За несколько часов катания по городу, мы успели поговорить не только на злободневные темы в рамках сюжета будущего фильма, но и обменяться мнениями по многим вопросам общественной и частной жизни. И столичной, и провинциальной. Под конец я уже настолько освоился, что практически, не обращал внимание на постоянно работающую камеру. Режиссер предупредил меня, что, естественно, не все записанное войдет в окончательный вариант фильма. У них много материала и по другим городам. Я ответил, что полагаюсь на их профессионализм и никаких предложения и условий выдвигать не собираюсь. Взглянув на часы и удивившись, тому, как быстро пролетело время, я сообщил им, что у меня сегодня тоже небольшой юбилей – три года моей женитьбы. Чтобы сэкономить время, попросил их подъехать к ближайшему цветочному киоску за букетом и завезти меня домой. Они с удовольствием согласились. Распрощавшись у дома, я быстро завернул за угол и позвонил в дверь. Когда открывшая ее жена, мельком взглянув на меня с букетом, округлила от страха и удивления глаза, глядя куда-то через мое плечо – я тоже резко обернулся. Не давая мне опомниться, режиссер и оператор, продолжая съемку, легко втолкнули меня внутрь и бесцеремонно обратились к жене. Сначала с поздравлениями, потом и с множеством других вопросов. Представив себе, что увидят на экране миллионы советских телезрителей, я, наверное, впервые пожалел, что гордился тем, что я – бедный, но честный мент. Режиссер профессионально успокоил жену, разрядив обстановку заверениями, что будущий фильм обязательно поможет быстрее получить собственное достойное жилье. Жена тоже работала журналистом и училась на журфаке МГУ, поэтому через несколько минут они уже мирно и профессионально общались на своей волне. Накануне праздника фильм дважды показали по центральным всесоюзным каналам. Как я и предполагал, критические моменты в нем были сведены к разумному минимуму, а сцена в квартире, наоборот, неоправданно детализирована и растянута. Было много комментариев коллег и знакомых. Новую квартиру после этого, мне, разумеется, никто не дал. Руководство сдержанно пообещало сделать все, что в их силах. Зато, мне стали приходить письма со всех концов нашей необъятной Родины. Ветеран ВОВ и Угро из Литвы, с сожалением и грустью писал мне о том, что даже в самые тяжелые военные и послевоенные годы, власть и милицейское руководство намного внимательнее относились к операм Угро, быстрее и эффективнее решали все их бытовые вопросы.
Из просторной комнаты в полнометражной квартире по улице 40 лет Советской Украины, гостеприимные хозяева с редкой фамилией Блиммель, досрочно выселили мою семью под благовидным предлогом неожиданного приезда их близких родственников. Но я прекрасно понимал, что за ним скрывались другие мотивы и причины. Хозяин явно испытывал ощутимый дискомфорт от моего статуса и образа жизни. Уже после вселения, на всякий случай пробив его по нашим оперучетам, я узнал о его старой судимости и приторговывании самогонкой. Такое соседство напрягало обе стороны. Последней каплей был анекдотический казус с жареной картошкой. Вернувшись с работы под утро, я без задней мысли, по ошибке, опустошил хозяйскую сковородку, оставив квартиросдатчика без завтрака. Я понятия не имел, что наша, очень похожая сковородка, убрана с плиты в холодильник.
Потом была служебная квартира по улице Горького, освобожденная получившим собственное жилье участковым Резо Акакиевичем Вачария. Улучшением жилищных условий очередной переезд назвать было трудно – отдельные новые плюсы в нем с лихвой перекрывались не меньшим количеством минусов. Более современная пятиэтажка располагалась чуть ли не в элитарной части города, но добираться до райотдела, в котором я уже занимал должность начальника розыска, было немного дальше. Больше всего неудобств доставляла мизерная площадь жилой комнаты – на 12 квадратных метрах нам приходилось ютиться уже вчетвером. Вскакивая ночью с постели на плач меньшей Надюшки, жена постоянно ударялась в узком проходе об углы мебели. Ее колени и бедра постоянно украшали заметные синяки и ссадины. Эта квартира запомнилась мне еще одним трагикомичным случаем. В очередной отъезд жены и детей к теще, когда, оставшись один, я заснул беспробудным сном, мне в ухо влез рыжий домашний таракан. Добравшись по слуховому проходу до барабанной перепонки, он начал царапать нежную и сверхчувствительную преграду всеми своими многочисленными конечностями. Я проснулся среди ночи от кошмарного шума и взрывной боли в голове. Только мое медицинское прошлое позволило мне, мгновенно сориентировавшись в ситуации, вызвать Скорую помощь и устранить проблему до развития болевого шока.
Собственную трехкомнатную квартиру государство, в лице родной милиции, предоставило мне на седьмом году службы и на тринадцатом году скитаний по любимому городу. И здесь не обошлось без определенных эксцессов. Сообщение руководства райотдела и УВД о том, что квартира выделяется мне индивидуальным целевым образом по линии службы Угро, проигнорировал другой претендент. Стоящий первым в длинной очереди, в которой я болтался где-то в необозримом хвосте, замначальника ГАИ, уперся и продемонстрировал отчаянный, но законный, протест. Я понимал, что для ветерана предпенсионного возраста, ждавшего более 15 лет улучшения жилищных условий, это был последний шанс. Не препятствовал ему, и был уже готов уступить свалившееся на меня счастье. Ситуацию спасла, невиданная прежде в вопросах распределения жилья, принципиальность и настойчивость руководства. Замначальника областного УВД генерал Поляк и начальник РОВД полковник Вельможко, совершив невозможное, вырвали у администрации города вторую, в течение месяца, трехкомнатную квартиру для одного и того же органа внутренних дел. Мне даже предоставили право выбора между ними. Обе сдавались в одном и том же новом микрорайоне, но в разных домах и в разное время. С учетом двух малолетних дочек, ориентируясь на предполагаемую этажность, я выбрал вторую, сдающуюся несколько позже. Можно представить наше с женой состояние, когда примерно за два месяца до обещанного вселения, имея на руках все необходимые документы, мы около часа под осенним дождем разыскивали необходимый адрес. Строительные адреса не соответствовали почтовым. Мокрые и озябшие, мы молча стояли перед глубоким бесформенным котлованом в намытом острове песка. Дом еще не начинали строить. Я подумал, что мы ошиблись, вычисляя его по строительным номерам. Перепроверили – все правильно! Жена заметно расстроилась, перестав замечать, что мокнет и мерзнет под дождем, пыталась расспрашивать монтажников на соседних стройплощадках. К моему удивлению, они успокоили ее, категорично подтвердив плановые сроки сдачи и ввода объекта в эксплуатацию. Авральное чудо под названием «конец года» реанимировало, чуть было не умершую, надежду. Ключи от первой собственной квартиры я получил за день до наступления Нового 1990 года.
В этой квартире я прожил ровно столько же, сколько и в родительском доме в Донбассе. Стала ли она отчим домом для моих дочерей – мне трудно судить. У них сформировался свой, особенный взгляд и на семейный, и на жилищный вопрос. Старшая, к семнадцати годам, в ультимативной форме поставила нам с женой неожиданное условие. Она обещала учитывать в своей будущей жизни наши родительские наставления и пожелания только в случае переселения ее в собственную отдельную квартиру. Впрочем, неожиданность и затратность ультиматума касалось в основном меня. Я, следуя общепринятым русским традициям, считал, что успешное замужество, в первую очередь, определяется личными качествами невесты, а потом уже – общим статусом родительской семьи. Но никак не количеством и качеством приданого. Жена, руководствуясь украинскими ментальными и культурно-историческими особенностями, была уверена в том, что дочери к моменту замужества, обязательно должны иметь собственное жилье. Уступив женскому большинству, купил Катерине однокомнатную квартиру в многоэтажке, расположенной недалеко от нашего дома. Больше всего я переживал, что дочь пойдет по стопам отца, и превратит собственное жилье в многопрофильный молодежный клуб по интересам. На этом женские прихоти не закончились. Через пару лет, накануне свадьбы, уже самостоятельно, они с женой обменяли ее на двухкомнатную в другом микрорайоне. Притащив меня, после долгих уговоров посмотреть новое приобретение, они приготовили мне еще один, тщательно скрываемый сюрприз. Убедившись, что я остался доволен их выбором, они, как бы ненароком, предложили мне посмотреть свободную квартиру напротив. Площадью в 100 квадратных метров, оригинальной планировки с огромным залом и тремя большими балконами. Пустая, от того казавшаяся намного просторнее любой стандартной трехкомнатной, квартира, конечно же, впечатляла. Когда в три голоса зазвучали фантазии о том, что если закрыть перегородкой вход на площадку, две расположенные напротив квартиры можно считать одним жилищем, я понял их коварный замысел. Тут же последовало, уже конкретное предложение остальным членам семьи переселиться поближе к Кате и жить двумя дружными семьями – соседями. А если потом решить вопрос с расположенной в торце площадки однокомнатной – идеальное семейное гнездышко появится и у меньшей Надежды. Отделенная площадка на этаже станет простым коридором в общем трехквартирном жилище. Поняв, что мне их не остановить и не переубедить, я пообещал подумать. Долгожданная идиллия, как и Катин брак, продолжалась недолго. Уже через три года они с женой, в очередной раз, занимались традиционной забавой-обустройством нового жилья. Теперь уже в Киеве. Старшая дочь решила покорять столицу. Верная своим привычкам, младшая Надежда все это время жила, пусть и в отдельной комнате, но в пределах родительской квартиры.
Теперь я беспощадно распекал себя злой иронией и малоприятным сарказмом: «Дожились! Имея столько комфортного жилья, семья рассыпалась на отдельных БОМЖей и бродяг! Все – в разных местах, все по отдельности снимают чужие углы!». Я допускал в решении жены и существенный материальный фактор, вместе с тем был уверен, что выигрывая в малом, она теряла в большом. Детей она лишала, так необходимого в любом возрасте, ощущения отчего дома. Меня – надежды и возможности возвращаться к семейному очагу. Теперь, даже открыв границу и разрешив въезд, Украина не сможет восстановить эти значимые для меня понятия. Встречаться с женой и детьми на улице, в гостинице или у родственников, было ниже моего достоинства. Аргументы, что это временная мера, что ранее было достигнуто согласие всех заинтересованных сторон на ее продажу, не влияли на общее состояние и не утешали. Теперь, это были уже частности. Вместе с ее бегством в Чернигов, а не в Нижний Новгород, сдвинулось с места, развернулось и, стремительно уменьшаясь, удалялось от меня, в другую сторону, что-то большое и значимое, сохранявшее все эти годы семью семьей и дававшее надежду на совместное будущее.
Глава II. УЧЕНЬЕ-СВЕТ
СССР, Донбасс, середина 60-х
Моя школьная учеба началась, едва мне исполнилось 5 лет. До этого я уже знал несколько букв, но писать и читать не пытался, мне больше нравились картинки. Особенно в журнале «Крокодил», который вместе с газетами регулярно приносила почтальонша, и я первым, до возвращения отца, старался достать его из почтового ящика. Когда к школе начали готовить сестру, и в доме появился первый букварь, всякие азбуки, кубики и картинки с буквами, мой интерес к грамоте резко возрос, я учился читать быстрее ее. Но главным катализатором и мотиватором, вскоре стала моя первая школьная любовь. Она настигла меня не в школьном, а в собственном дворе. После торжественной линейки и первого короткого учебного дня, моя сестра-первоклассница вернулась домой не одна. Она пришла с первой школьной подружкой, Киншовой Ирой, живущей через улицу от нас. Это миниатюрное создание с огромными белыми бантами на коротеньких «хвостиках», в белоснежном крылатом фартуке поверх черного форменного платья, показалось мне волшебной живой куклой. Я был поражен, потерял дар речи. От смущения забрался на густую раскидистую вишню, растущую во дворе, и уже с нее украдкой наблюдал за подружками. Временами они отвлекались от своих разговоров, сравнения содержимого новеньких портфелей и других девчачьих дел, смеясь, обращались ко мне, предлагая спуститься вниз. Но я в ответ еще больше смущался, краснел и продолжал сидеть на спасительном дереве. В этот день мы так и не пообщались. Зато потом, когда Таня и Ира пытались вместе делать уроки у нас дома, я, как нельзя кстати, им пригодился. Сначала они учили меня, потом ситуация быстро изменилась, и помогать им усвоить заданные уроки стал уже я. Это давало возможность находиться рядом с объектом своего обожания практически ежедневно, но требовало от меня ускоренного освоения школьной программы с опережением на два года.
В свой первый класс я пришел подготовленным на уровне третьеклассника, тем не менее, школьная жизнь для меня началась не совсем удачно. На второй день мы серьезно подрались с мальчиком из параллельного класса. Естественно, из-за девочки. Похоже, что он еще не понимал, что к этим прекрасным созданиям нужно относиться по-другому, нежели к мальчикам, способным дать сдачи. И хотя, виноватым в случившемся однозначно был он, демонстративному наказанию подвергли, почему-то, меня. Возможно, из-за того, что на его теле и одежде осталось больше доказательств, что именно он является потерпевшим. Возможно, потому, что понес еще и материальный ущерб-под конец нашей схватки я пару раз огрел его по белобрысой голове его же собственным портфелем, от чего на нем оторвалась слабенькая ручка. В школу вызвали родителей, собрали экстренную линейку. Классные руководители и завуч не жалели красок, осуждая мой кошмарный и недопустимый поступок. Грозили отчислением и переводом в спецшколу для хулиганов, требовали демонстративного покаяния. Я стоял, опустив вниз голову, и упорно молчал, как взятый в плен партизан. Меня не смущало несправедливое показное судилище, я был уверен в своей правоте. Но когда я поднял глаза и увидел лицо расстроенной и виновато оправдывающейся матери, сердце мое дрогнуло. Тихо и коротко пообещал: «Больше не буду!»
Классная руководительница Александра Яковлевна, заметив, что вместо того, чтобы внимательно слушать урок, я скучающим взглядом продолжаю смотреть в окно, сделала мне очередное замечание. Мой хвастливый и самоуверенный ответ, что все это я уже знаю, парировала рифмой: «А я знаю, куда знахарей девают!» Пригрозила выгнать из класса. Узнав о моей хорошей дошкольной подготовке, она вскоре нашла ей полезное применение и стала регулярно пересаживать меня за парты слабо успевающих учеников. Примерно каждые 2-3 недели я кочевал по классу, заново знакомясь и теснее сближаясь с не самыми лучшими его представителями. Моя помощь отстающим, в основном, ограничивалась разрешением списывать и тихими подсказками во время ответов с места. Но и это, по мнению Александры Яковлевны, давало свой положительный эффект. Вместе с хорошей успеваемостью, помощь двоечникам и троечникам стала для меня своеобразной индульгенцией, защищающей от заслуженного наказания за далеко не примерное поведение. Дольше всего я задержался за партой с Фарзалиной Наташей. Этой маленькой цыганской девочке учеба давалась, действительно, очень тяжело. И не из-за каких-то личных качеств. Мне стоило большого труда и времени докопаться до тщательно скрываемой истинной причины. Оказалось, что следуя традициям и убеждениям, основная часть большой цыганской родни вообще была против ее учебы в школе. Дома ей не давали заниматься, загружая массой других дел и обязанностей. Часто приходилось пропускать школу из-за регулярных выездов на гастроли, связанные с гаданием, попрошайничеством и торговлей мелким ширпотребом. Понимая это, я делал исключение и занимался с ней более активно и интенсивно, чем с другими. В благодарность она рассказывала мне интересные и мало известные детали, закрытой для всех других, цыганской жизни, дарила разные интересные безделушки. Через нее я снабжал всю многочисленную уличную компанию дефицитной плотной фольгой, используемой нами при изготовлении самодельных бомбочек и «дымовушек». Основные мои классные друзья и товарищи – Лисунов Сергей, Гнидин Вовка и Кондрашенко Сергей – жили на других улицах поселка, поэтому география нашего внеклассного времяпровождения все время менялась и расширялась. Сложившиеся местные компании плохо принимали новичков с других улиц, поэтому, на радость родителям, мы все больше времени проводили дома друг у друга. Появились новые интересные занятия – мы начали осваивать фотографию, моделирование кораблей и самолетов. Некоторые параллельно ухаживали уже за собственными, а не родительскими аквариумами, кроликами, хомячками и птичками. Недавно Наташа открыла мне еще одну свою тайну. Она очень боялась, что ее накажет Бог. Я, как мог, пытался ее успокоить, убеждая в том, что Бог – не такой уж и страшный, взрослые нас больше им просто пугают. Мне не хотелось признаваться ей, что и сам побаиваюсь его. Еще больше не хотелось признаваться, что я в этом ничего не понимаю. Я видел в углу на кухне, и в старой хате, и в новом доме, иконы, у которых отдельно друг от друга, молились мать и бабушка. Бог на них выглядел по-разному. У матери – он был старым, добрым дедушкой. Но мать постоянно пугала меня тем, что он все видит и обязательно накажет меняя за плохие поступки. Когда я не унимался и спрашивал, как он может все видеть и как будет меня наказывать, мать неуверенно отвечала, что Бог – на небе, потому – то все знает и видит. О плохих поступках он сообщает родителям, а те уже сами выбирают наказание. Я был уверен, что о моих проделках им чаще сообщали сестры и соседи. У бабушки, Бог выглядел не старым, но строгим мужчиной с пронзительным взглядом. Но она, наоборот, объясняла мне, что он – очень добрый и отзывчивый, дает людям, все, что они просят у него. И молились они ему по-разному. Мать – со слезами и страхом постоянно жаловалась и что-то просила. Бабушка – добродушно и откровенно беседовала, как бы убеждая обратить внимание и помочь кому надо. Чаще всего – не себе, а другим. Я был спокоен – Богу не было видно, как я воровал яблоки из соседского сада и конфеты у сестры, из заначки за китайской картиной. А родителям и без него хватало поводов для наказания меня почти ежедневно. Так же я подозревал, что и у Фарзалиных – свой, цыганский Бог. Не такой, как наш. Он разрешает им обворовывать и обманывать всех, кроме своих, цыган. Учителям, в один голос твердившим, что Бога вообще нет, что это-выдумка темных, необразованных людей, я не доверял, хотя и считал их всех очень умными. Чем больше я читал учебники, особенно предстоящих старших классов, которые по-прежнему часто заимствовал у Тани, тем больше разочаровывался. В них были умные, иногда даже интересные и нужные знания, но не было никакой тайны и ответов на самые главные вопросы. Они меня не впечатляли. Другое дело – интересные книжки из отцовой библиотеки. Я почти не видел, чтобы он их читал. Наверное, он делал это раньше, когда мы с сестрами были совсем маленькими. На это указывали наши многочисленные бестолковые калячки-малячки на страницах многих из них. Неужели отец разрешал нам так глупо и безжалостно портить хорошие книги? Наверное, он просто больше не открывал их и не видел наших художеств. Я с удовольствием читал книги о приключениях индейцев, путешественников и разведчиков, русские сказки и былины о богатырях и страшных чудовищах. Малопонятные книги о Китае больше нравились из-за необычных персонажей на фотографиях и иллюстрациях, а короткие, шипяще-звенящие имена и названия, просто смешили. Стихи и баллады средневековых немецких поэтов завораживали каким-то напряженным и тяжелым чувством ожидания опасности и испытаний для бесстрашных и благородных рыцарей. Книг о Боге не было. Лишь однажды, когда я особенно надокучил матери своими неудобными вопросами, она как-то нехотя и кратко объяснила мне, что где-то существует редкая и необычная книга – Святое Писание. В ней все написано – о Боге, о том, что было раньше, и о том, что будет позже. Но ее читали только самые умные люди. Школьные учителя, как я понял, к ним не относились.
СССР, Ростовская область, середина 70-х
Середина сентября. Занятия в школе начались две недели назад. Программа восьмого, выпускного класса нашей поселковой восьмилетки предполагала особо плотный и насыщенный график занятий. Для всех, кроме меня. У меня продолжались каникулы. Уже третью неделю мы живем в палаточном городке в густом плавневом лесу на берегу Тихого Дона. Вокруг – дикая первозданная природа. До ближайшей станицы Семикаракорской – несколько километров. Мы – это я с отцом, и его друг по шахтерской бригаде – Василь Нипотрибный с женой Валентиной. Это стало доброй и неизменной традицией – к началу осеннего клева выезжать на живописные берега Дона большой и дружной шахтерской компанией. В этот сезон компания оказалась не очень многочисленной, зато срок рыбалки небывало затянулся. Виной тому – отличный клев и прекрасная погода. Посовещавшись на месте, решили, что несколько пропущенных учебных дней никак не отразятся на успеваемости отличника, а с руководством школы отец пообещал по возвращению встретиться лично. С первым пунктом решения я был полностью согласен, по второму – сильно сомневался. За все предыдущие годы учебы, отец ни разу не появился в школе, сколько бы его не вызывали. Постоянно ходила мать. Учителя, сделав вывод, что она не в состоянии повлиять на неудовлетворительное поведение сына, несколько раз, прямым текстом в моем дневнике, настойчиво требовали персонального визита отца. Он, не скрывая иронии, считал это неприкрытой педагогической глупостью. В лучшем случае, поинтересовавшись тем, что я натворил в очередной раз, ставил свою роспись рядом с учительской, давая понять им, что разобрался со мной дома. «Скажешь, что проходил практику по природоведению и географии родной страны» – шутливым тоном предлагал он. Я таким же тоном отвечал, что, к его сведению, эти предметы мы давно прошли в начальных классах, а ихтиологию, к сожалению, в школе не изучают вообще. А напрасно. Я мог бы продемонстрировать им по этому предмету свои прекрасные знания. Решили, что сошлемся на карантин. Он действительно вводился в этих местах ежегодно. Только – в отношении вывоза пойманной рыбы. Но эта мелкая проблема решалась нами легко и просто – деньгами или натуроплатой. Сколько я себя помню, рыбалка для нас с отцом была не просто хобби или приятным времяпровождением. Она была непреодолимой страстью и потребностью. С трех-четырех лет он начал брать меня с собой, приобщая к любимому увлечению вопреки мнению матери. Сначала на шахтные ставки, потом ездили автобусом за 30 километров на Нижнюю Крынку. Пару лет назад отцу, как ударнику труда, на шахте предоставили право покупки нового «Жигуленка», и ездить за 300 километров на Дон стало намного быстрее и комфортнее.
Река поражала обилием и разнообразием рыбы. Мы с отцом, считая себя обычными рыбаками, не перебирали и ловили все подряд, что клевало на наши немудреные снасти. В основном это был лещ, подлещики и рыбец. Реже – белый амур и сельдь. Однажды, думая, что подцепил тяжелую корягу, я с большим трудом вытащил донкой рака величиной с дальневосточного омара, с единственной клешней размером с мужской кулак. Все это ловилось с лодки. Здесь я впервые столкнулся с новым способом фиксации ее на довольно сильном течении. Вместо якорей использовался завоз. Стальной трос или крепкий капроновый шнур одним концом крепился к массивному грузу(якорю), завозившемуся на середину реки, ближе к фарватеру. Другим – к крепкому стволу дерева на берегу. Можно было легко выбирать нужную глубину и расстояние от берега, привязанную к завозу лодку не сносило вниз по течению. С берега, с помощью «водяного змея» ловили только чехонь. Эта красивая и вечно голодная хищная рыба, фактически ловилась сама, без нашего участия. Моя роль сводилась лишь к необходимости 3-4 раза в сутки снимать улов с крючков и после этого легким пинком ноги снова сталкивать «змея» в воду. Течение само устанавливало перемет в нужное положение. Лучшей наживкой служил пучок красного шелка, охватывающий цевье крючка пышной юбочкой. Постоянно приходилось жертвовать не только своими, но и Таниными, пионерскими галстуками.
Василь Нипотрибный, будучи в рыбалке намного опытнее нас с отцом, подходил к процессу более творчески и изощреннее. Его не интересовало то, что ловилось легко и просто. Каждый день он устраивал персональную охоту на конкретный вид, даже экземпляр, редкой крупной рыбы. По только ему известным соображениям, как правило, за ужином у костра, он объявлял нам будущую цель: «Завтра с утра иду ловить сома на «квок». Или – ночью пойду на язя. Или – а не пощупать ли нам сазанов?!». Я не помню случая, чтобы он не исполнил задуманное. И все равно, он не переставал нас удивлять. Вчера к обеду он возвращался с охоты на сазана. Я заметил, как он швартует лодку к берегу и отвязывает от нее кукан в метрах 50 от лагеря, выше по течению. Мы с Валентиной отправились ему навстречу. Подойдя ближе – оторопели. Медленно шагая по мелководью, Василь с трудом тащил за собой на кукане небольшое стадо крупных рыбин. Самый большой сазан тянул на среднего поросенка. Валентина не удержалась и, проявив прыть озорной девчонки, уселась на него верхом. Такого улова мы еще не видели. Несколькими днями раньше, ночная охота на крупного язя, чуть было не закончилась для Василя трагедией. Задремав в лодке в ожидании поклевки, он с ужасом проснулся в воде. С трудом избавившись от тянувших на дно сапог и телогрейки, еле выбрался на берег. Тяжелый вертикальный топляк, незаметный с поверхности даже днем, зацепившись за завоз, утопил лодку за считанные секунды. С помощью местных станичников ее потом вытаскивали на берег трактором.
Ближе к полудню клев замирал и мы возвращались на берег. Управившись с приготовленным Валентиной обедом и засолкой утреннего улова, я почти ежедневно, садился за весла и на несколько часов уплывал обследовать окрестности. Места здесь, действительно, были уникальными по своей красоте. В полукилометре вниз по течению начиналась очередная излучина Дона. Левый вогнутый берег, заросший плавневым лесом, возвышался крутым обрывом. Правый, выпуклый, манил к себе широким пляжем нетронутого чистого песка. Я иногда пересекал широкое русло, швартовался и высаживался на нем, как Робинзон на необитаемом острове. На многие километры не было ни души. Только чайки и вороны безбоязненно доклевывали выброшенных на берег рыбин. Здесь я вовсе не понимал местных станичников, постоянно сетовавших на то, что за последние годы реку загрязнили и обезрыбили. Особенно, после строительства Волго-Донского канала. Какая же она тогда была до этого? Неужели могла быть еще красивее и богаче?!
Кроме подобных неформальных занятий по природоведению и биологии, на днях мне так же посчастливилось неожиданно окунуться в историю и этнографию. Во время поездки за закончившимися продуктами на станичный базар, на подъезде к Семикаракорам, мы случайно наткнулись на недавно прикочевавший сюда цыганский табор. Картина, для второй половины ХХ века была, мягко говоря, поразительная. Несколько десятков кибиток, поставленных полукругом, табун лошадей, сотни ярко и непривычно одетых людей разного возраста, шум и гам на непонятном языке – все это моментально переносило на несколько веков назад. Особенно нереально смотрелась древняя, седая старуха на вершине горы из разноцветного тряпья. Не обращая на нас никакого внимания, она как четки перебирала какие-то пестрые лоскуты, монотонно и неторопливо перекладывая их справа налево, а потом наоборт. Глядя на нее, я понимал, с кого списывал свою легендарную старуху Изергиль знаменитый прозаик. Внезапно вспомнилась Наташа Фарзалина. Около двух лет она уже не появлялась в школе, не видели ее все это время и на поселке. Поговаривали, что 12-летнего ребенка без согласия и любви, отдали замуж за представителя иногороднего цыганского клана. В пестрой традиционной одежде, в таких же косынках на голове, с множеством украшений на теле, издалека многие девочки казались мне Наташей. Подходя ближе, я разочарованно понимал, что ошибаюсь. Из машины Василя сигналили клаксоном и жестами, призывая прекратить экскурсию и следовать по первоначальному маршруту. Незлым, тихим словом помянув цыганского бога, пришлось подчиниться.
Вечерами, после ужина и чаепития, я все чаще покидал взрослых и ложился на перекинутую вверх дном резиновую лодку метрах в 5-7 от костра. Не потому, что мне наскучили их разговоры на безразличные или малопонятные темы. Я все сильнее испытывал потребность побыть наедине. Во мне росло и созревало еще смутное и малоосознанное решение. Постепенно захватывая все мои мысли, оно неудержимо превращалось в главную цель и сокровенную мечту. Последние дни я все больше и больше отвлекался на проходящие в нескольких десятках метров от лодки теплоходы , баржи и катера. Отец, замечая пропущенные поклевки на моих донках, сначала окликал меня, или пытался подсекать и вываживать пойманную рыбу сам. Потом решил, что я уже попросту насытился активным клевом и потерял интерес к рыбалке. Ему и в голову не приходило, что я не просто глазею на проходящие мимо суда, а решаю главный жизненный вопрос – быть или не быть?! Груженые баржи, двигаясь против течения, проходили мимо так медленно, и так близко, что я без труда мог рассмотреть не только малейшие детали самого судна, но и действия всей немногочисленной команды. На многих, почему-то, в экипажах были женщины. Я догадывался, что это были жены капитанов, одновременно выполнявшие функции кока. Часто над палубой, вместо праздничных корабельных флажков, на бельевых веревках строем развевались свежевыстиранные тельники и полотенца, создавая ощущение домашнего уюта и плавучего семейного жилья. Порой, не удержавшись, я махал им рукой, получая в ответ такое же добродушное приветствие и вопросы об улове. Более быстроходные круизные теплоходы с шумными, веселыми туристами и проносящиеся на подводных крыльях «Ракеты» и «Метеоры» привлекали намного меньше. Через какое-то время я уже представлял себя на капитанском мостике в строгом кителе и с биноклем в руках. Баржа незаметно превращалась в огромный лайнер, а тихий и уютный Дон – в безграничный океан. Я с удивлением и радостью открыл для себя, что выбор профессии штурмана или капитана дальнего плавания одним махом решает все мои неразрешаемые доселе жизненные проблемы и реализует все самые заветные мечты. Я уже твердо знал, что уеду навсегда из родного шахтерского поселка. Самостоятельно выстрою будущую жизнь, полную приключений и скитаний, утолю свою неуемную тягу к воде и путешествиям. В этот раз я возвращался с Дона, тяжело и надолго заболевший морем.
СССР, Донбасс. Лето 1977 года
Идет третья неделя, как я стал добровольным затворником. Почти не выхожу из дома, с утра до позднего вечера не покидаю светлую и уютную веранду. Стол, кушетка, полы и подоконники завалены учебниками, пособиями и справочниками. Я готовлюсь к вступительным экзаменам в институт. Мое последнее решение по профориентации было спокойным, выверенным и безэмоциональным. Не потому, что я наконец-то повзрослел и поумнел. Я расценивал его, как очередное логичное и закономерное последствие удара, нанесенного мне судьбой два года назад. Оно уже не было лобовой наступательной атакой на важный рубеж будущего, а скорее – тактическим, вынужденным маневром. Все это время я шел к нему методом исключения других вариантов, заново переживая главную неудачу прожитой жизни.
Следуя за своей мечтой, после окончания восьмилетки, я уехал в Херсон поступать в мореходное училище. Как отличнику, мне достаточно было пройти пусть и серьезное, на уровне приличных экзаменов, собеседование и строгую медкомиссию. Я был спокоен и полностью уверен в положительном результате. Можно представить мое состояние, когда при прохождении окулиста, у меня была выявлена скрытая аномалия цветоощущения. О ней я не подозревал ни сном, ни духом. За 15 лет жизни не было ни одного случая, который заставил бы усомниться кого-либо в полноценности моего зрения. Незадолго до этого была успешно пройдена медкомиссия при постановке на допризывной воинский учет. Неожиданное открытие поразило, как гром с ясного неба. Оно безжалостно разбивало мою мечту. Утешая, врачи объясняли, что это – не болезнь, а довольно распространенный вариант цветовосприятия. С ним можно жить обычной жизнью. Нельзя заниматься лишь некоторыми видами профессиональной деятельности. О том, что я приехал не просто учиться и получать профессию, а реализовывать мечту о новой прекрасной жизни, они слушать не хотели. Я был в шоке! Долго не мог понять, что мне делать дальше. Возвращаться домой не хотелось. Пошарив в карманах, с удивлением обнаружил, что мои деньги каким-то непонятным образом незаметно уменьшились в предполагаемой сумме. Я был не в состоянии разбираться, потратил ли я их сам, потерял или у меня их просто украли в кубрике общежития. Несколько ночей подряд, прикалываясь, старшекурсники мореходки поднимали нас, абитуриентов, по ложной тревоге и выводили во двор на потешное построение. Оставшихся денег впритык хватало только на обратный проезд. Попытать счастья в «рыб-тюльке», другой мореходке, готовившей моряков для рыбного флота, и где требования к здоровью абитуриентов были несколько лояльнее, уже не было возможности и желания. Целый день и полночи, трясясь в автобусе маршрута «Херсон-Донецк», голодный и расстроенный, я пытался осмыслить происшедшее и выработать какой-то план на будущее.
Увидев мое кислое лицо, отец иронично пошутил, что кругосветное путешествие закончилось не начавшись, и мою лодку снова прибило к родному берегу. Выслушав причину быстрого и бесславного возвращения, расстроился не меньше моего. Обладая отменной, намного более 100%, остротой зрения, он понятия не имел о каком-то там цветоощущении. После импровизированной собственной проверки на окружающих предметах, пришел к выводу, что я нормально вижу и по остроте, и по цветам, что меня врачи просто «срезали» по своим, корыстным мотивам.
Вернувшись, я попал не только домой, но и в исходную точку собственной биографии. Передо мной снова стал неразрешимый вопрос: «Что делать дальше?». Все уважающие себя путевые уличные пацаны, считали продолжение учебы в 9 и 10 классах глупой тратой времени. ПТУ или техникум, армия и женитьба – традиционная перспектива для большинства не предполагала альтернативы. Даже непланируемая и нежелательная тюрьма для них казалась более естественным и приемлемым ходом событий, чем два лишних класса в школе. Тем более – еще пять лет в ВУЗе. Меня же, такая схема категорически не устраивала. Особенно, тюрьма. Старшая сестра, закончив десятый класс в СШ№29 на Трубном поселке, уехала учиться в кооперативном техникуме в город Арзамас Горьковской области, на родину родителей. Из ее коротких рассказов о десятилетке, о молодежи Трубного поселка, у меня сложились не самые приятные впечатления об этом районе. За неимением лучшего решения, я смирился с мыслью о СШ№95 на Пролетарке. После Херсона у меня не было ни малейшего представления о будущей любимой профессии и абсолютно никаких мыслей и планов на обозримую перспективу. Я, действительно, соглашался с друзьями, что просто подожду два года, авось что-то изменится само собой, и жизнь сама расставит все по местам.
9-В, куда меня и еще нескольких выпускников из параллельных классов нашей восьмилетки определили в сентябре, считался самым сильным классом в новой для меня школе. С уходом малоперспективных учеников, выбравших дальнейшее образование в ПТУ и техникумах, он стал еще сильнее и ярче. Я сразу же заметил интересную особенность. Самые сильные ученики с большей охотой общались и дружили с самыми слабыми по успеваемости, но не менее активными в общественной жизни класса. С шалопаями и двоечниками они проводили времени больше, чем с малочисленной прослойкой серых и пассивных середнячков и хорошистов. Их за глаза называли емким словом «болото». Классная элита приняла меня хорошо, через несколько недель мы уже общались на равных. Стараясь быть максимально объективным в оценках, я отдавал себе отчет, что между новой школой и бывшей поселковой восьмилеткой – значительные отличия не только в уровне преподавания, квалификации учителей, но и в отношении к учебе самих старшеклассников. Большинство из них были нацелены на продолжение учебы в институтах и университетах, получение престижных профессий и специальностей, о которых мои поселковые сверстники даже не мечтали. Конечно, это в первую очередь, было связано с новым возрастным этапом самих школьников. Но трудно было не обратить внимание и на целенаправленное влияние учителей и родителей. Понимая кратковременность и вынужденность пребывания в новом коллективе, я не сильно стремился к сближению с новыми одноклассниками, а тем более – с учителями. Больше внимания уделял восполнению относительного недостатка знаний и повышению своего культурного уровня. Но мой пассивный нейтралитет продержался недолго. К концу осени на одной из перемен я был приглашен за глухой школьный угол, где группа местных школьных авторитетов во главе с Тимчишиным Славкой стала доходчиво объяснять мне о недопустимости неравнодушного отношения к некоторым самым красивым старшеклассницам. Я понял, что это – только формальный повод прощупать меня на «слабо», но обострять ситуацию не стал. Сообщил, что у меня есть постоянная девушка на своем поселке, что знаю и свято чту законы территориальности и не собираюсь лезть в чужой сад за запретными яблоками, и в чужой монастырь – со своим уставом. Возможно, манера моего общения с ними мало походила на поведение отличника, и они почувствовали мое уличное воспитание, но обошлось без серьезной драки и в дальнейшем подобных недоразумений не возникало. По линии комсомола мне доверили возглавлять трудовой сектор, что позволило существенно активизировать и без того насыщенное внешкольное общение с большинством одноклассников. Металлолом, макулатура, уборка урожая в подшефном совхозе, сближали быстрее и крепче, чем сидение за общей партой. В классе было много учеников с хорошими музыкальными данными и соответствующим образованием. На школьных праздниках, вечеринках и днях рождения им не было равных. Моя мать оторопела от ужаса, когда я сообщил ей, что грядущее 8 –е марта и, одновременно, мой день рождения, класс будет отмечать у нас дома. Я долго объяснял ей, что в новой школе подобные вечеринки являются обычным и регулярным делом, что мы уже выросли и поумнели, гарантировал достойное поведение всей чесной компании и сохранность домашнего имущества. Мать с трудом согласилась, вечеринка удалась на славу. Валера Докукин виртуозно играл и аккомпанировал на аккордеоне, Саша Колесниченко подыгрывал на гитаре, Алла Филипенко, Лена Пивненко, Люда Бушмакина и все другие девчонки красиво и талантливо пели. Костя Чуриков до колик в животе смешил бесконечными приколами. При минимуме спиртного компания веселилась до глубокой ночи. На удивление, не было свойственной возрасту сексуальной озабоченности, преобладали чистые и открытые дружеские отношения. Класс очень отличался от моей уличной компании и учеников бывшей восьмилетки. Отсутствием агрессии, здоровым стремлением к совершенству, осознанным планированием будущего. Меня это различие удивляло и беспокоило. Между двумя школами было всего два километра расстояния. Большинство новых одноклассников жили в казенных многоквартирных домах, но были и представители частного сектора. Родители тоже не сильно отличались от наших, поселковых. Большинство из них были коренными горожанами, некоторые относили себя к интеллигенции, занимали руководящие и управленческие должности. Но были и простые работяги, и приезжие. Такое разнообразие вселяло надежду, что два года не пройдут для меня даром, помогут преодолеть традиционную поселковую планку и положительно скажутся в будущей жизни.
Примерно за полгода до выпускных экзаменов меня вызвали в кабинет завуча. Я, как ни старался, не мог определить причину вызова. В новой школе к моему поведению не было претензий. По старой памяти приготовился к худшему. Добродушная улыбка Надежды Ивановны, ее заговорщицкий тон, быстро рассеяли все мои опасения. Она сообщила, что по разнарядке обкома партии на область выделили две вакансии для поступления в Московский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Одну из них распределили целевым образом на нашу школу. У педсовета есть мнение рекомендовать меня. Специальность связана с дипломатией. Видя мое замешательство, она добавила, что такая система отбора дает хорошие шансы на успех в поступлении. На первом месте стоит биография и характеристика кандидатов. Но учитывая серьезность предложения, школа, как можно раньше, должна приступить к моей персональной подготовке. На раздумья и советы с родителями отводилось только два дня.
Я не стал тратить это время на разговоры с родителями. Я вообще не сказал им ни слова. Я потратил их на сбор информации о загадочном ВУЗе и борьбу с непосильным искушением. Нужной информации было очень мало. Конечно, возможность учиться в одном из престижнейших столичных ВУЗов – уже большая честь и причина для согласия. Но были и подводные камни. Я узнал, что дипломатия – официальное, легальное прикрытие. На самом деле, университет готовит кадры для внешней разведки. А значит, опять велика возможность серьезной медкомиссии и повторения трагедии двухлетней давности. Этого допустить я не мог. Кроме того, меня мучило ощущение скрытого подтекста в таком заманчивом предложении. Почему остановились именно на мне? Два года класс звучал в области и занимал первые места по трудовому воспитанию школьников. Я как руководитель трудового сектора имел к этому непосредственное отношение. Но, вряд ли, причина в этом. В школе много достойных претендентов. Скорее, дело в другом. За два года я не мог стать для руководства и учителей лучше и ближе собственных любимых учеников, которых они вели к такому шансу долгих десять лет. Даже, если все они давно определились с будущей профессией и конкретным ВУЗом, нашелся бы хоть один, готовый поменять планы и рискнуть. Значит, партийные рекомендации, по мнению педсовета, не дают полной гарантии поступления. Возможно, кандидатов с периферии привлекают в качестве статистов для оформления видимости честного и справедливого набора в университет. Понимая, что за пять лет университета, любого можно научить всему, даже обезьяну – играть на гармошке, я все равно не представлял себя дипломатом – разведчиком. Через два дня, зайдя в кабинет к Надежде Ивановне, я отказался от заманчивого предложения. Причина? Мать категорически против. Она видит меня только врачом. Я, как всегда, говорил правду.
Вопрос о моей будущей профессии все чаще и чаще обсуждался в семье. У меня был запасной вариант реализации романтической мечты о море. Яценко Сергей, мой товарищ с соседней улицы, два года назад поступил учиться на факультет ихтиологии Астраханского рыбВТУЗа. Мы поддерживали с ним постоянную связь, встречались на каникулах, регулярно переписывались. Но в прошлом году произошла трагедия – он пропал без вести. Перед этим вернулся в общежитие после работы в студенческом стройотряде с крупной суммой денег. Видно, они и стоили ему жизни. Активный розыск не дал результатов. Почти год о его судьбе не было никакой информации. Хотя труп не был обнаружен, никто не сомневался в том, что его уже нет в живых. Мои родители, узнав обстоятельства исчезновения Сергея, категорически запретили мне даже заикаться по поводу учебы в Астрахани.
Выбирая будущую профессию, я действовал методом исключения того, что считал абсолютно неприемлемым. В первую очередь-все технические и творческие специальности, торговлю, учительство и сферу услуг. Наученный горьким опытом, вычеркнул, как недоступные, все военные и приравниваемые к ним службы. В итоге, оставалась только медицина. Этого сильно хотела и добивалась мать. С каждым годом состояние ее здоровья серьезно ухудшалось, выучиться на врача она считала моим сыновьим долгом и естественной обязанностью. Отец в мой выбор не вмешивался, предоставляя мне полную свободу действий, и возможность, как он выражался, «в очередной раз наломать дров». Исподволь, всплывала и другая проблема. Кроме пропавшего Сергея, у меня не было ни одного близкого знакомого, товарища или родственника, уже преодолевшего барьер поступления и обучения в ВУЗе. В разговорах с одноклассниками проскакивало, что они связывают свой успех в этом нелегком деле с конкретным опытом друзей, возможностями родственников и знакомых. Все чаще звучало мнение, что одних знаний для поступления может оказаться недостаточно. Не помешали бы еще связи и блат. Если с первой составляющей у меня дела обстояли более-менее нормально, со второй – хуже не придумаешь. Приходилось надеяться только на себя. Не добавляли оптимизма участившиеся слухи и скандалы, связанные с золотыми медалистами, получавшими вместе с медалью право льготного поступления в ВУЗы на большинство престижных специальностей. Только в нашем классе на такие медали могли претендовать 4-5 отличников, включая и меня. Видимо, для большей объективности и предотвращения подобных скандалов, школьное руководство, за месяц до выпускных, объявило нам о намерении провести промежуточные, неофициальные экзамены. Причем, не прошедшим эти испытания, предстояло распрощаться не только с мечтой о медали, но и с аттестатом «круглого отличника». Посовещавшись, элита класса решила не осложнять ситуацию ненужной конкуренцией и отказалась от предлагаемой борьбы за «золото» в пользу самой достойной из нас отличницы, активистки, талантливой и красивой любимицы всего класса – Лены Пивненко. Она оправдала наше доверие и стала заслуженной обладательницей золотой медали. Все остальные – отличных аттестатов. Такой аттестат, вместе с дипломами и грамотами победителя областных олимпиад по биологии и химии, представлялись мне даже более надежными и проходными козырями. Наши учителя были уверены в нас, одобряли и поддерживали непростой выбор, охватывавший по географии пол страны. Валера Докукин выбрал Московский энергетический институт, Лена Пивненко – Витебский легкой промышленности. Саша Колесниченко – Киевский институт инженеров гражданской авиации. Неразлучные подружки Алла Филипенко и Таня Кочубей, как обычно, вместе – Харьковский институт коммунального строительства. Саша Гетьман – высшее военное училище в Поволжье. Несколько человек, выбрав педагогические, горные и транспортные специальности, не пожелав никуда уезжать, остались в родном Донбассе.
Уступив матери с медициной, я сохранил право на вторую часть мечты – уехать на учебу в другой город. Конкретной привязки к ВУЗу, родственникам и знакомым в других городах у меня не было, поэтому я сыграл в русскую рулетку. Отправил несколько писем в медицинские институты соседних областей с просьбой прислать подробные условия поступления на лечебный факультет. Решил, откуда придет первый ответ, туда и отвезу документы.
СССР, Приднепровье. Начало 1979 года
«Как аукнется – так и ахнется, дорогой наш профессор Яхница!» – на просторной сцене лекционной аудитории физиологического корпуса во всю мощь разворачивалось грандиозное театрализованное действо. Наш второй курс гулял и праздновал. Этот уникальный праздник был определенной вехой и для студентов, и для профессорско-преподавательского состава. Отмечали сдачу главного экзамена и прощались с кафедрой анатомии. Праздновали даже те, кто этот экзамен завалил, и перед кем маячила реальная перспектива, в случае неудачной пересдачи, попрощаться не только с кафедрой, но и с институтом. Позади три семестра напряженной и необычно интересной работы. Только после сдачи этого экзамена можно было считаться настоящим студентом и надеяться на получение через четыре с половиной года заветного диплома. С прощальным, напутственным словом выступил заведующий кафедрой, самый уважаемый в институте профессор, доктор медицинских наук Яхница. Всех поразили его воспоминания о первой в жизни операции. Не успев закончить второй курс мединститута, добровольцем ушел на фронт – шла Великая Отечественная война. В болотистых белорусских лесах попали в окружение, долго и трудно, с боями и потерями прорывались к своим. У молодого разведчика, после осколочного ранения голени, началась гангрена. Его жизнь могла спасти только срочная ампутация. Понимая это, студент второго курса, будущий профессор Яхница, решился на рискованную операцию в тяжелых походных условиях. В качестве основного инструмента использовали обычные ножи и двуручную пилу для валки леса, предварительно прокалив их на костре и протерев раздобытым в соседнем хуторе самогоном. Два стакана этого же самогона внутрь и удар поленом по затылку, заменили рауш-наркоз. Пилить бедренную кость пришлось дважды – неопытный студент не знал тогда о спастическом сокращении перерезанных мышц и правилах формирования культи. Рану зашивал обычной цыганской иглой и суровой ниткой. От начавшегося нагноения и сепсиса спасли не отсутствующие антибиотики, а обыкновенные мухи. Вернее их личинки, активно съедавшие некрозную ткань и помогавшие заживлению тяжелой раны. Молодой разведчик был спасен, после выхода из окружения переправлен на большую землю. Через много лет разыскал и горячо благодарил своего спасителя.
На сцене разыгрывались невероятные, но реальные эпизоды студенческой жизни. За полтора года изучения анатомии, на каждом курсе таковых набирались сотни. Многие из них потом передавались с курса на курс и гуляли по институту в качестве бородатых анекдотов. Ни один институтский предмет не мог сравниться с анатомией по сложности и многогранности изучения. С первых же дней, за каждой учебной группой закреплялся свой индивидуальный учебно-демонстрационный труп. Нашего мы ласково называли Федей. По мере изучения органов и систем, шло его послойное препарирование. Он был предварительно проформалинен по специальной методике, исключающей естественное гниение и разложение, ежедневно обрабатывался особым раствором на основе глицерина. Смесь этих реактивов с собственным жиром и другими веществами мертвой плоти трупа, обладала особым специфическим запахом, по стойкости превосходившим любые французские духи, а по эффекту – любое из известных рвотных средств. Его не могли уничтожить или перебить ни мыло, ни крепкие одеколоны, которыми мы многократно, но тщетно обрабатывали руки после очередного занятия. Возвращаясь домой в забитом до предела троллейбусе, я с нескрываемым удовольствием наблюдал, как стоящие рядом пассажиры сначала обеспокоенно и брезгливо морщили свои физиономии, потом, не сговариваясь, пятились подальше, создавая вокруг меня, приятную и полезную в ужасной тесноте, зону отчуждения. Если при изучении костной системы, отдельные сложные элементы украдкой, или по договоренности с лаборантами, можно было на время вынести с кафедры и продолжить изучение на дому, с Федей, естественно, такой вариант исключался. В анатомке приходилось проводить многочисленные дополнительные часы. Это заставляло приспосабливаться и относиться к основному учебному пособию, как к равноправному члену учебной группы. Через некоторое время, большинство из нас уже считало нормальным и допустимым, не отрываясь от затянувшегося процесса обучения, борясь с голодом, тут же съесть конфетку или маленький бутерброд. Некоторые ребята, любуясь освобожденными от кожи и подкожной клетчатки, подсохшими на воздухе, яркими и приятными глазу мышцами, подшучивали над самыми впечатлительными девчонками: «Наверняка, они подошли бы в качестве классной закуски к пиву, вместо надоевшей тараньки». Девчонки демонстративно и кокетливо возмущались, упрекая ребят в глупости и черствости, хотя и сами уже все больше и больше привыкали к издержкам специфического обучения. Но были и естественные запредельные реакции, обусловленные особой женской эмоциональностью. В группе положительно выделялась девушка с необычной фамилией – Красаускас. Необычной потому, что по всем правилам прибалтийских языков и традиций, она должна была бы звучать, как Красаускене, или Красаускайте. Позже она объяснила мне, что ошибку допустили при оформлении паспорта, по незнанию скопировав в мужском варианте отцовскую фамилию. Будучи призером многочисленных всесоюзных и международных конкурсов бальных танцев, обладательницей прекрасного тела и красивого, благородного лица, она не стеснялась своих достоинств и демонстрировала соответствующее самомнение в отношениях не только со студентами, но и преподавателями. Все мужчины стремились завоевать ее расположение, во всем шли ей навстречу. Но когда Вадим Кириллович, молодой, симпатичный и амбициозный преподаватель кафедры, однажды заметил, что она препарирует Федю с использованием запрещенных медицинских перчаток и длинного пинцета, академический долг взял верх над джентльменской галантностью и снисходительностью. Крепко сжав Викину руку, он ловко стащил перчатку. Откинув, как капот автомобиля, переднюю брюшную стенку Феди, погрузил ладонь в скользкую и неприятно пахнущую массу кишечника по самый локоть, на несколько секунд придавив сверху этим импровизированным капотом. Пораженная Вика окаменела лишь на мгновенье. Резко выдернув руку, рефлекторно, по инерции закатив ухмыляющемуся преподавателю звонкую пощечину, она впала в натуральную, уже не поддельную истерику. Не выбирая выражений, как фурия, носясь по аудитории, обзывала Вадима Кирилловича бесчувственным мужланом и хамом, грозилась привлечь к суду. Всей группой нам пришлось приводить ее в чувство и успокаивать, отпаивая валерианой. Я не удивился бурной реакции сверхэмоциональной и гордой девушки, понимал и сочувствовал ей. От такого интенсивного и напряженного темпа изучения предмета, все находились в состоянии хронического стресса. Порой не выдерживали и срывались даже закаленные и непробиваемые мужики. Буквально, за неделю до этого, я стал невольным свидетелем похожей ситуации на вечерней отработке пропущенного занятия. В тесной аудитории готовились несколько прогульщиков и двоечников с обоих потоков курса. Среди них я заметил заочно знакомого мне, по многочисленным рассказам сокурсников, Голева Анатолия. Личность колоритная и своеобразная во всех смыслах. Он поступил в институт после армии и нескольких лет работы водителем-дальнобойщиком. Был одним из самых опытных и взрослых мужчин на курсе. Его собственная яхта стояла у берега Днепра, буквально напротив окон деканата. Подходила моя очередь общения с доцентом кафедры, я сосредоточенно дочитывал конспект лекции по пропущенной теме. Громкий трехэтажный мат камазиста-дальнобойщика, грохот упавшего на пол черепа, заставили подпрыгнуть на стульях не только студентов, но и пожилого доцента. «Да е…сь оно все конем! Я что вам, пацан какой-то?! Нах.. мне такая учеба и все ваши е…. дырочки!!!» -разъяренный Голев сметал со стола на пол свои конспекты и учебники. До моего прихода, он уже несколько раз подходил и пытался сдать застарелый «хвост» по теме костей черепа принципиальному и упрямому доценту. Последний раз, тот снова отправил его готовиться еще потому, что Толя не смог назвать и описать небольшое отверстие внутри распиленного пополам черепа. Он сделал несколько попыток, относя его к каналам всех известных ему нервов и сосудов, даже вспомнил латинские названия некоторых из них. Когда доцент назвал подозрительную роковую дырочку «Форамен студентикум» -отверстие, по неосторожности сделанное студентами, и в очередной раз отправил на место, Толя, тогда уже, был готов взорваться, как перегретый паровой котел.
Бывшие десятиклассники и иностранные студенты молчали, ожидая реакции преподавателя. Студенты, поступившие после армии или с 5-6 попытки, смеялись и понимающе успокаивали. Кто-то за спиной язвительно заметил: «Это тебе, Толя, не КАМАЗ водить и девок на яхту таскать! Это-анатомия!». Реакция доцента оказалась, на удивление, спокойной и доброжелательной. Он по–отечески успокоил резнервничавшегося студента и после нескольких простеньких вопросов, принял отработку.