
Полная версия:
Одна сверкающая нить

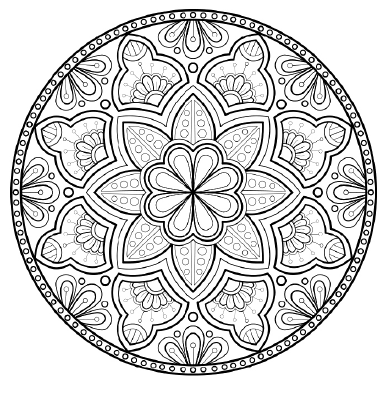
Салли Колин-Джеймс
Одна сверкающая нить
Любовь моя, через сколько жизней встретились наши сердца?
Сколько еще впереди?
Но все равно мало.
Sally Colin-James
One Illumined Thread
Copyright © Sally Colin-James 2023
Published by arrangement with Bold Type Agency Pty Ltd, Australia
© Соломахина В., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
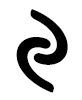
О книге
Хотя роман «Одна сверкающая нить» – художественное произведение, я написала его под впечатлением реальной биографии жены художника, жившего в эпоху Возрождения, и двух женщин на его известной картине. В этом выдуманном повествовании описываются исторические и библейские сюжеты. Однако художественная вольность в изображении персонажей и выборе времени для изобретений и событий – это приглашение присоединиться ко мне в продолжающемся – и, на мой взгляд, бесценном – исследовании того, что мы думаем, что знаем о себе, друг о друге и нашей жизни.
Арамейский считается языком, на котором говорили в период событий в Эйн-Кереме. Что касается названий и мест, обратитесь к глоссарию и примечаниям к переводу в конце книги.
Часть 1
ЕСЛИ БЫ НЕ ТЕНЬ, ПОНЯТЬ ФОРМУ ТЕЛ В МЕЛЬЧАЙШИХ ПОДРОБНОСТЯХ БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНО.
Леонардо да ВинчиГлава 1. Аделаида, осень 2018 года
Девушка в зеркале смотрит на меня не моргая. Моргать больно.
По щекам отражения струятся слезы, и я сжимаюсь от желания разделить его боль. Ты же должна была знать. Почему ты не предусмотрела подобного?
Хоть она моя точная копия, это не я, – пытаюсь убедить себя.
Я тяну руку к девушке в зеркале, касаюсь кончиком пальца лилового пятна под глазом. Прохладное стекло не дает ощутить жар плоти. Глаз почти не закрывается – такая нежная там кожа. Черный канал слезной борозды будет заживать дольше всего. Кожа здесь хрупкая, в сосудах. Как папиросная бумага – того и гляди лопнет.
Пространство между нами закрывают тени ванной комнаты. Я отдергиваю руку и нащупываю выключатель голой лампочки.
Fiat lux. Да будет свет.
Зеркало словно рама обрамляет лицо девушки. Подкрашивая кисточкой веки, я рассматриваю ее, словно произведение искусства. Внимательно, меняя ракурс. Удерживая ту невидимую натянутую нить между смотрящим и видимым, пока подбираю нужные слова. Чтобы понять.
«Искусство живет в неволе и погибает на свободе», – писал Леонардо.
Девушка в зеркале – произведение искусства. В отличие от меня ей никогда не обрести свободу.
Убираю кисти. Закручиваю волосы наверх и закрепляю разными заколками.
Закрываю глаза и распыляю лак для волос.
Снова нащупываю выключатель.
Fiant tenebrae. Да будет тьма.
Когда я открываю глаза, той девушки больше нет. Есть я.
Выхожу на улицу, и фонари гаснут. На платанах суетятся птицы, медленно кружат золотистые листья. В этом году осень теплая, и деревья припозднились с красками. В воздухе листья кажутся невесомыми, но в руке ощущаются плотными и крупными – больше ладони. Я подбираю двадцать ярких, как солнце, листьев и прячу их в сумку, потом в два раза больше малиновых, помельче, от сумаха, заполонившего один из заросших садов перед выстроившимися в ряд невысокими домиками. Столько же блестящих фиолетовых листьев от соседней декоративной сливы. Это материал, из которого я создам произведения искусства – юбки для дерева, чтобы закрыть место, где ствол встречается с землей.
Осенние кольца из желтых, красных и фиолетовых листьев предназначены для великана-эвкалипта в парке Варнпанга в Северной Аделаиде. Занятие меня успокаивает, укрепляет нервы, и я жду его с нетерпением.
Я вешаю сумку на плечо и достаю большой конверт формата А4. Прохожу короткий переулок и сворачиваю направо. В конце улицы почтовый ящик. Ладонь потеет, и свежие чернила адреса отпечатываются на коже. Можно было послать заявку по электронной почте, но отправка обычной дает мне время смириться с результатом.
Я подталкиваю толстый конверт к щели почтового ящика, пытаясь протолкнуть его внутрь. Металлический зажим, скрепляющий бумаги, цепляется и ломается. Кожу покалывает, капельки пота нарушают тщательную завесу макияжа. Я выдергиваю конверт и обмахиваю лицо. Рядом с галереей есть большой почтовый ящик. Когда я ухожу, накатывает волна стыда, и я слышу девушку в зеркале.
«Ты даже треклятое письмо отправить не можешь».
* * *У служебного входа в Художественную галерею Аделаиды грудь пронзает тревожная боль. Сегодня пятьдесят пятый день, как я здесь работаю, но каждый раз иду как впервые. Я поднимаюсь по ступенькам.
Пять вещей я вижу…
Радушные суетливые воробьи, лилли-пилли – вечнозеленая вишня, нити испещренной росой паутины между ярко-зелеными листьями, пушистый шарик одуванчика, истертый коврик у двери.
Четыре чувствую…
Ключ в одной руке, конверт – в другой, ремешок сумки давит на плечо, открытая застежка-липучка натирает бедро.
Выпрямившись, я касаюсь ключом панели.
Три слышу…
Гул машин с Северной террасы, шлепанье кроссовок утренних бегунов по тротуару, небрежный щелчок, когда открывается замок.
Два запаха ловит нос…
В художественной галерее запах преднамеренно нейтральный. Если отели и бутики стремятся к фирменным ароматам, музеи и галереи предпочитают, чтобы запахи не мешали любоваться произведениями искусства. Иногда меня беспокоит, что они этого добиваются. Раньше я мало знала о тяге к запахам, о связи запахов, эмоций и памяти. Например, по запаху можно найти утерянное. Когда-то я тщательно стирала футболки и шорты, школьные штаны, простыни, засаленные наволочки, полотенца, носки и шапочки, воротя нос от запаха пота, жира, травы, земли и ободранных коленок, вымывая его, словно желая никогда больше не находить все это.
Первая врач-психиатр предложила вспомнить о приятных ароматах. Не осталось ли у меня каких-либо старинных книг от дедушки и бабушки? Не помню ли я цветы из детства, которые можно посадить, сорвать, поставить в вазу?
«Запах прежней жизни», – сказала она, нарушая правило, которое установила для меня: придерживаться конкретных вещей, а не расплывчатых понятий. Под «прежней» она имела в виду жизнь до того стука в дверь. Стук руки с ногтями, блестевшими изумрудно-зеленым лаком, заставил меня задуматься, подходит ли этот цвет полицейскому, посланному сообщить новости, которые не дай бог услышать ни одной матери.
Я прохожу по коридору, автоматически включая лампы над головой. Открыв кабинет, вдыхаю аромат кедра и воска. Кедром пахнет от японского табурета для ванны, который я выписала из Киото, а древесной смолой и медом – от свечей из Тасмании.
И одно ощущаю на вкус…
Воспоминание. Дикий мед. Блестящий и капающий с упавшего треснувшего дерева. В Квинсленде мы гуляли по тропическому лесу. Сыну тогда было четыре годика, он мчался вперед на разведку; помню ручонки, испачканные медом, – он тянул их прямо в рот. Восторг, когда он предложил мне облизать его пальчики. Безмолвное восхищение, когда мы наблюдали, как крошечные дикие пчелы восстанавливают поврежденный улей. Вкус нектара и карамели на языке.
Я кладу разорванный конверт на стол и беру распечатку – это фотография вышивки, датируемой семнадцатым веком, с которой предстоит работать, – она потребует моего реставраторского мастерства. Вышивке почти четыреста лет, нашли ее в трухлявой водосточной трубе сарая уже не существующего поместья, и, несмотря на состояние ткани, я увидела редкую и замечательную красоту. Наша начальница, Трис, внимательно выслушала мою оценку и упорно боролась за то, чтобы приобрести вышивку для галереи. В тот день, когда мы ее получили, Трис оставила меня наедине с изделием.
Дала мне время и место его распаковать, осмотреть и посмаковать. Насладиться странной близостью и благоговением, которое реставратор испытывает, рассматривая историческую реликвию.
Я представляю себе вышивальщицу семнадцатого века, сидящую на обитом тканью стуле, в туго затянутом под лифом корсете. Вышивка натянута в пяльцах на козлах. Взлетающие рукава сорочки, кружевные воланы, мастерица ловко изгибает руку, вышивая фон серебряной канителью елизаветинским швом. Вверху моток нити, золотистое сияющее солнце. Нитки, которые при свечном освещении переливаются и блестят.
В центре вышивки части двух фигурок в тонких ажурных одеяниях порваны, некоторые фрагменты утрачены. Но даже в таком состоянии картина производит невероятное впечатление. Ощущение, что каждая пуговица, бусинка или цветок с шелковым отливом, над которыми я когда-то работала, подготовили меня к произведению, внесенному в каталог как «Обнимающиеся фигуры». У меня не было сомнений, что это «Посещение». Нежная встреча родственниц, Елизаветы и Марии, Святой и Богородицы. Обе беременны.
Я возвращаю распечатку на письменный стол и снова смотрю на конверт. Могла бы напечатать письмо и отправить прямо сейчас.
Но это не по мне. Мои повседневные дела образуют целую конструкцию, где есть тропа, которая всегда выведет в нужное русло.
Я оставляю конверт и спускаюсь по лестнице в выставочный зал, к древней деревянной статуе, которая одновременно меня чарует и преследует.
В тихом зале лежит вытесанное из древесины распростертое тело. Трупное окоченение кулаков, вздутый живот. Изо рта вываливается распухший язык. Три падальщика приступили к лакомству. Одна ворона сидит на груди, выставив вперед клюв, чтобы снять с языка жирного червя. У ног маячит стервятник с куском мяса в клюве. Еще одна ворона смотрит на меня, словно чувствуя мое волнение. Предвидя мое отвращение, ужас от такой Смерти.
«Смерть, третья из четырех встреч принца Сиддхартхи».
Неслышно ступая, затаив дыхание, я обхожу статую. Подмышки потеют. Хочу видеть эту смерть. Чтобы схватить и остановить опустошение разрушительным прозрением. Ха! Смерть! Я тебя поймала, больше ты меня не перехитришь. Принцу для откровения хватило одного взгляда. В отличие от меня, он постиг зрелище целиком. Но я не чувствую облегчения.
Передо мной просто шедевр. Артефакт. Вытесанный, раскрашенный, отшлифованный буддийскими монахами. Сияющий преданностью. Целостный. Не разорванный на куски, как мой сын.
Из коридора доносятся тяжелые шаги. Миниатюрная Трис не вяжется с гладиаторской поступью. Я вытираю лицо рукавом. Проветриваю мокрую блузку под мышками. Я ношу темно-синие блузки. Каждый день. Чудесная маскировка.
Присаживаюсь на корточки возле деревянного стервятника у ног статуи, будто изучаю новое граффити под его хвостовыми перьями. Кто-то из старшеклассников, пришедших на экскурсию, подрисовал птице элегантный белый анус. Я изучала работу с деревом, и, поскольку реставратор скульптуры в отпуске, придется мне решать, как удалить «художество», не повредив многовековую резьбу. Граффити неплохое. Расширенный задний проход, как его нарисовал бы сам Леонардо. Как цветок из пяти лепестков.
– Агент Сирани говорит, что они пришлют нам «Голову», – сообщает Трис.
Я встаю, и перед глазами мелькают мушки.
Голова Иоанна Крестителя на блюде. Не отсеченная по приказу Ирода после соблазнения Саломеей, а «Этюд головы» (Иоанна Крестителя III), вырезанный художницей Катериной Сирани. Кусок липы, искромсанный, обтесанный, проколотый и тщательно окрашенный, чтобы заставить смотрящего задуматься о силе. О жестокости. О том, почему мы от нее отворачиваемся. Я пыталась заполучить эту работу, с тех пор как пришла в галерею.
Трис подходит ближе, и мне хочется вытянуть вперед руку, чтобы ее остановить.
– Вы чертовски хорошо справились.
Она касается моей руки, и мои пальцы сжимаются в трупном окоченении. Пыл ее доброты пронзает меня словно забитый в дерево гвоздь.
Она видит, что я чувствую себя неловко, и никак не реагирует. Трис слишком уверена в себе. Редкий случай.
Я борюсь с желанием извиниться. Вспоминаю неоднократные инструкции от третьего психиатра. «Про извинения забудьте. Придется выучить новые ассоциации для прикосновений».
При появившемся желании сбить с его небритого лица огромные очки я покраснела от стыда. Без извинений я себя не представляла. С них в моей жизни начиналось так много предложений.
– Когда ее пришлют? – спрашиваю я, зная, что Трис привыкла к моей профессиональной дипломатии и сдержанному восприятию новостей, хороших или плохих.
– Выставка заканчивается через четыре недели.
Трис заметно беспокоится. Если нет проблем с доставкой или таможней, времени достаточно, чтобы скульптура адаптировалась к новым условиям.
Я вижу, Трис забавляет, что я не волнуюсь.
«Голову» представят на выставке, посвященной проявлениям власти. Маслянистая бледность лица, похожие на настоящие фарфоровые зубы в разинутом рту, блестящие ониксовые глаза. В копну черных волос жестоко вбиты гвозди. Все это производит ужасное впечатление. Среди целой армии поразительных, вырезанных из дерева в натуральную величину моряков, бродяг и маргиналов невольно останавливаешься, оглядываясь в изумлении, и сглатываешь ком, поражаясь чувству собственного достоинства каждого персонажа.
Но не по этой причине я нахожу утешение в работах Сирани. И не поэтому хочу «Голову».
– Как назовем выставку? Есть какие-нибудь мысли? – спрашивает Трис. Ей мое мнение не нужно, но мне льстит, что она спрашивает.
– Одни клише и эвфемизмы, – говорю я, выдавливая улыбку.
Трис смотрит мне в глаза, потом ее взгляд скользит по синяку, скрытому косметикой. Я вздрагиваю и пячусь, спотыкаясь о деревянного стервятника. Глухой стук – и птица падает навзничь, задрав негнущиеся ноги.
– Я доложу, – говорю я, огорченная тем, что придется писать отчет об ущербе, причиненном моей неуклюжестью.
Я наклоняюсь, ощупываю птицу. Кажется, цела, но я не могу сосредоточиться. Если бы он видел, что случилось, сейчас бы посыпались оскорбления. Когда он произносил их, изо рта вылетала слюна. Но я не могу раскисать. Пожалуйста, нет, не здесь. Я закусываю щеку, возвращая стервятника на место.
Рядом со мной Трис пытается загладить неприятность. В руке у нее телефон, большие пальцы летают над экраном, затем она запихивает устройство обратно в боковой карман свободного зеленого, как оперенье попугая, платья, расшитого оранжевой банксией и желтой мимозой. Когда-то и я могла бы надеть такое.
– После работы приходите на вечеринку для сотрудников. Отпразднуем! – говорит она, словно раствором, замазывая разговором трещину в тишине. – Расписание выставок пришлю вам по электронной почте.
Я, притворяясь рассеянной, продолжаю возиться с деревянным стервятником.
Когда она уходит, пытаюсь вспомнить, а попрощалась ли я. А она? Так много незаконченных и мимолетных моментов, скрепленных, сшитых, сметанных на живую нитку, в обрывочном воспоминании.
Я подавляю желание окликнуть ее и поблагодарить. Не за новости о главном герое выставки, а за то, что она не такая, как все.
За то, что никогда не спрашивает обо мне больше, чем я готова сообщить. За то, что проявляет интерес, но никогда не сует нос в мои дела. За то, что ей от меня ничего не нужно.
– Что там с новенькой? – слышу, как один куратор спрашивает у Трис.
Я задерживаю дыхание. Не потому, что он спросил, я жду, что она ответит.
– Шуруй отсюда, Майк. Не каждая женщина жаждет тебе отсосать в архиве.
Ответ меня ошарашил. Во-первых, я всегда слышу от нее только ясную и вежливую речь. Во-вторых, так вот чем занимается персонал в архиве. И, в-третьих, ни намека на то, «что там с новенькой» происходит на самом деле и что Трис вообще обо мне думает. Все это мучило меня несколько дней. Какое же у нее сложилось мнение, что она заранее решила меня оградить от «запросов в архив»? Неужели сама там побывала?
Один за другим прибывают сотрудники галереи, а я все еще стою на коленях у ног Смерти, рядом со стервятником. Встаю, отряхиваю воображаемую пыль с брюк, выхожу из выставочного зала и иду через двор в реставрационную мастерскую. Наконец-то установили новый микроскоп, и я могу рассмотреть вышивку детально. Взгляд через объектив не только показывает каждый стежок, но и раскрывает загадочные истории о том, как и почему он был сделан. Для реставратора главное правило – не латать, а понять, что задумал автор. Я изучаю каждый дюйм и делаю пометки о каждом стежке и его состоянии. Когда я заканчиваю работу, небо за окном темнеет. Моя голова между тем тяжелеет, и пустой желудок дает о себе знать.
Я возвращаюсь к себе в кабинет и слышу голоса в комнате для персонала, выплескивающиеся в коридор. Беру слишком полный бокал красного вина, который суют в руку. Когда кто-то предлагает выпить, я представляю камеру пыток, темницу. Мрачную, удушливую комнату, где меня будут допрашивать, а спастись можно только через люк в потолке. Почему ты уехала из Мельбурна и бросила работу в Национальной галерее королевы Виктории? Что за блажь! Зачем приехала в Аделаиду? Замужем? Дети есть? Последний вопрос всегда первым задает женщина.
– Мужа нет. Детей нет, – отвечаю я, а задавшая вопрос безмолвно оценивает, причисляя меня к категории нежизнеспособных женщин.
Но даже это предпочтительнее правды. И поневоле становишься внимательным слушателем. Хотя здесь наступаешь на другие грабли: можно надолго застрять, слушая припасенную кем-то к этому случаю байку. Сегодня это Герберт.
– В прошлом месяце я потерял Энни, – говорит он.
На галстуке у него размазан томатный соус от пирога.
– Мне очень жаль, – говорю я. – Вы давно женаты?
– Никогда не был женат, – отвечает, ощетинившись от предположения, Герберт. – Я говорю о попугаихе, такая была красотка!
«Невелика потеря», – про себя отмечаю я. Однако сравнивать людское горе – величайшее неуважение. Но так и хочется напомнить Герберту. Это птица. Не человек. Не ребенок.
У меня трясется рука. Пальцы слабеют, суставы гнутся, как у старой топорной деревянной игрушки на шарнирах. Бокал выскальзывает. Вино разливается по блузке, пустой бокал падает на толстое ковровое покрытие и остается целехоньким.
– Я слышал, ты сегодня отреставрировала задницу, – кричит мне через комнату Майк.
– А она тут как тут, никуда не делась, – парирует секретарша Дениз, и все покатываются со смеху.
Слишком громко.
Герберт продолжает болтать, пока я промокаю блузку салфеткой.
– Жила у меня двадцать восемь лет, – сообщает он. – Вообще они живут до тридцати пяти. Красавица. Хохолок как солнышко.
Он не видит, что меня трясет, потому что ему не терпится рассказать, как птица старела. А мне хочется ответить, что это не такая уж трагедия. Его попугаиха пережила моего сына на целых десять лет. Сотни недель. Тысячи дней. У меня в душе, оскалившись, рычат друг на друга два волка. Одному хочется, чтобы я вцепилась Герберту в лицо. А другому – чтобы обняла.
Я осматриваю комнату в поисках ближайшего выхода. Ищу путь мимо тех, кто меньше всего будет возражать.
– Меня тронула история Энни.
Уходя, я сжимаю руку Герберта, чувствуя запах нафталина от его рубашки. Запах детства. От маминых буфетов и шкафов, забитых рулонами дорогого итальянского льна и шелка. От коробок под кроватью, набитых обрезками ткани, которые она не осмелилась выбросить. В детстве я пряталась среди них, закрывая руками уши, пока отец злился, что подали чуть теплое картофельное пюре, разбивая о стены тарелки. Позже случайные осколки впивались в босые ноги, когда я кралась на кухню за печеньем.
И вот я уже иду по пешеходному мосту через реку Торренс, или Карравирра Парри, как ее называют местные. Потом по мягкой траве парка Варнпанга. Падаю на колени перед гигантским эвкалиптом и вытаскиваю из сумки осеннее украшение – золото платана, багрянец сумаха, фиолет декоративной сливы. Я одеваю ими основание ствола, шью для дерева яркую юбку. Эфемерному произведению искусства долго не продержаться. Его унесет, разбросает, расчленит, разорвет на части ветер, опоссум или собака. Мгновение восторга – и потеря навсегда.
Дома, сидя в темноте с включенным ноутбуком, я изучаю на экране изображения «Головы». При виде окровавленной бахромы, где лезвие перерубило шею, сжимается сердце.
«Я билась над ней годы, десятки лет, – сказала Катерина Сирани, когда я позвонила ей по видеосвязи в европейскую студию. – Меня поразили слова Крестителя „Никого не обижайте и не клевещите“ и параллели между его миром, захваченным римлянами, и другими народами, борющимися с завоевателями».
В голосе слышалась боль и неустрашимый творческий дух.
Я спросила, как ей удалось добиться цвета плоти в скульптуре, изображающей смерть, но каким-то образом освещенной предшествовавшей жизнью.
– Мое изобретение! – ответила Катерина, заливаясь смехом.
Меня настолько покорили ее сердечность, щедрость и тяга к открытиям, что захотелось оказаться в ее мастерской, когда она взяла ноутбук, чтобы показать рабочее место. Стены расписаны углем и покрыты барельефами, молотки, топоры и стамески разбросаны по скамейкам, бензопилы установлены на настенных креплениях, промасленные цепные пилы развешаны на крюках. Инструменты для превращения дерева в людей. Кругом опилки. Из огромных, наполовину изрезанных бревен возникают люди.
Когда я спросила, откуда берутся идеи, образы для скульптуры, она уверенно ответила:
– Деревянные фигуры пришли ко мне как спасательный круг.
Как давно я не смеялась так самозабвенно, как Катерина Сирани. Как давно не держала в руках спасательный круг?
Когда наш разговор закончился, я растерялась. Я попыталась найти дешевый авиабилет в одну сторону. Мне захотелось ее навестить, пообщаться, заразиться ее ясными убеждениями. Но кредитную карту отклонили. У меня не было ничего: все счета либо заморожены, либо аннулированы человеком, от которого я сбежала.
Заморожено, отменено. Как девушка в зеркале.
Меня тошнит, и я закрываю изображения «Головы». Открываю файл с изображениями Елизаветы, матери Иоанна Крестителя, пролистываю фреску Джотто ди Бондоне, литографии из испанского и немецкого Часословов, гравюру на дереве Дюрера, несколько анонимных фресок и панно, позолоченную скульптуру из древесины ореха, приписываемую Генриху Констанцскому. Изображений ее одной нет. И все произведения относятся к одному и тому же моменту – Посещению. Встрече Елизаветы и ее двоюродной сестры Марии, вынашивающих чудесных младенцев.
Я задерживаю взгляд на картине Мариотто Альбертинелли, масло, дерево. Фигуры в натуральную величину. Как художнику удалось уловить доверительные отношения между женщинами? Какую мать, сестру, жену он любил? Каково это: своими глазами увидеть этот шедевр эпохи Возрождения в галерее Уффици во Флоренции? Почувствовать изумительную возвышенную привязанность женщин друг к другу до событий, которые отберут у них сыновей. Начало жизней. Их «до того, как».
Живот пульсирует, словно второе сердце, я сдерживаюсь, чтобы не положить на него руку. Я понимаю радость беременных женщин на картине. Особенно Елизавету, вынашивающую долгожданного ребенка. Я чувствовала то же самое, когда носила первенца.
Я перебираю все версии «Посещения»: Гирландайо, братья Штрюб, Ливенс, Масип, ищу подсказки к изображениям в вышивке. Подсказки к восхитительным символам, таким как единорог и павлин, которые кажутся скорее языческими, чем христианскими. Там, где стежки порваны или нитки утрачены, обнажилось льняное полотно с едва заметными остатками рисунка. Различаю на нем две обнимающиеся руки. Один и тот же мотив на всех изображениях с Елизаветой и Марией.
Экран телефона вспыхивает: мама. Опять. Палец зависает над экраном.
Жду, пока не включится автоответчик. Нажимаю кнопку воспроизведения.
Три «Перезвони мне». Сначала резко, затем требовательно.
Потом: «Он просто о тебе беспокоится, только и всего».
Ишь, хватается за соломинку – матери названивает.
Я экономила на всем подряд, чтобы нанять машину и выехать из Мельбурна, чтобы отложить на годовую арендную плату. И прочие секретные махинации для устройства на работу.
Вечно тряслась, что он раскроет мой замысел. Я ожидала чего угодно: преследования, уговоров, угроз. Не услышала ничего. Пока на прошлой неделе он не появился в Аделаиде. И пьяный орал у двери. Я его впустила, уступила.
«Он понимает, что тебе тяжело… он тебя любит».
Под «тяжело» она подразумевает, что я сломлена. А под любовью – терпимость.
И хотя я вижу, что она ошибается, внутри меня узлом затягивается стыд.
Просачивающийся, безжалостный стыд, который привел меня, немую, но не слепую, к мужчине, который обязательно напомнит мне о том, как я была надломлена морально. Который подтвердит, что все было бы иначе, лучше, если бы я была другой.

