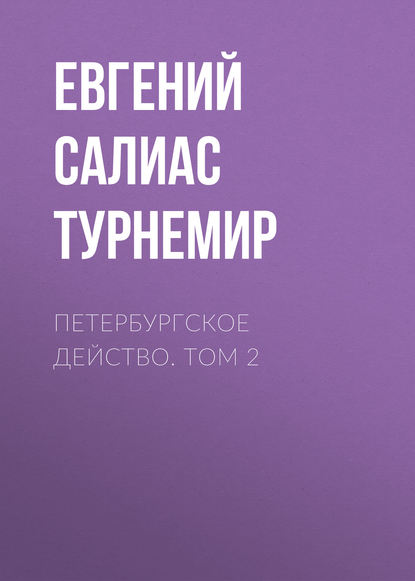 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Петербургское действо. Том 2
– Посмотрите на этих двух личностей, на этих двух графинь. И эта женщина, и та тоже женщина! Но одна возвышает ваши помыслы своим изящным обликом, другая низвергает вас в Дантов ад. Впрочем, нет, даже и не то… эта фигура скорее сорвалась с какой-нибудь картинки Теньера. У дверей таверн Голландии я видал часто таких матрон.
Если бы чувство государя зависело от лица и ума Воронцовой, то, конечно, победа была бы давно на стороне Маргариты. Но у государя была привычка к «Романовне». Кроме этой привычки было еще что-то.
Маргарита всячески и давно старалась разгадать, что могло привязать Петра Федоровича к этой невозможной женщине, и теперь она начала догадываться. Когда-то Воронцова говорила Гудовичу, что графиня Скабронская скоро надоест государю и что он снова вернется к ней, потому что она: «Простота! Что он ни скажет, все сделаю, а другие умничать начнут!»
Тонкая Маргарита однажды именно это и поняла! А Воронцова вдруг однажды догадалась, что эта изящная красавица и умница ей подражает. Она тоже теперь «простота, и что ей ни прикажут, все делает».
В этот день Воронцова целых два часа совещалась с Гудовичем, в первый раз стала бояться за свое влияние и разревелась, как деревенская баба, причитая на все лады. Гудович на этот раз ушел от нее тоже смущенный.
XXVII
Наконец однажды вечером государь позвал к себе Жоржа и, немножко смущаясь, попросил его совета: возможно ли и не возбудит ли чересчур много шума, если он решится сделать графиню Скабронскую кавалерственной дамой ордена Святой Екатерины. Жорж смутился, но отвечал, что если есть на свете изящная женщина, на которую бы следовало надеть всевозможные регалии всех стран, то, конечно, это графиня Скабронская. Но, однако, принц уговорил государя обождать, так как и без того много клевет, много лжи из-за пребывания графини в Ораниенбауме.
– Вся столица уверена, что вы влюблены в графиню! – заметил Жорж.
– Что ж! Это сущая правда! – отозвался государь добродушно.
Жорж несколько опять сконфузился и прибавил:
– Она красавица… Но в Петербурге говорят злые языки, что вы хотите постричь государыню и… и жениться на графине Скабронской, сделать ее императрицей.
– И это правда… Может быть.
Жорж совсем опешил и замолчал.
– Скажите, дядюшка, что дед мой, великий Петр, был дурак, по-вашему? Нет! Хорошо! А он разве не развелся со своей женой, разве не женился второй раз?.. А на ком? Кто была Марта? Солдатская жена. А потом кто была она? Императрица Екатерина всероссийская. А чем Маргарита хуже Марты? Сравнения нет!.. Марта была необразованная женщина, но любившая моего деда. А Маргарита блестящая женщина! И умна, и красавица, и обожает меня. Что скажете?
Принц Жорж ничего не сказал, а только повторял про себя: «Ungeheuer! Ungeheuer!»[45]
Действительно, влияние графини над государем уже зашло далеко… И многое казалось уже возможным…
Влияние это все увидели на первых же порах, а поводом послужил поединок Шепелева.
Принц Жорж прискакал в Ораниенбаум, передал государю весть о поединке, о смерти своего любимца – человека, который еще на днях верой и правдой служил лично государю. Жорж передал подробности поединка со слов Будберга и вдобавок еще присочинил. Шепелев и Квасов вышли какими-то голыми разбойниками, которые заманили двух немцев в пустырь за город и чуть не умертвили обоих.
Государь был поражен смертью Фленсбурга, которого видел за два дня перед тем, но он вспомнил и те успехи, которые сделал в фехтовании старый лейб-кампанец, и понял теперь, что такой противник, конечно, должен был оказаться опасным для всякого. Государь будто чуял, что в рассказе принца не все ясно, тем не менее он отдал приказ немедленно судить Квасова и Шепелева военным судом и тотчас же разжаловать обоих в рядовые.
Одна из первых узнала об этом приехавшая из города Маргарита. Государь тотчас же передал ей о своем намерении примерно наказать виновных и отплатить за смерть ее друга Фленсбурга. Петр Федорович думал вдобавок, что он этим сделает большое удовольствие графине.
Маргарита, одна знавшая, как было все дело, как они со шлезвигцем осудили на верную смерть бедного юношу, пришла в ужас.
Жорж поскакал в Петербург исполнить приказ государя, а Маргарита осталась с ним. По ее просьбе через час поскакал гонец в Петербург с приказанием доставить в Ораниенбаум Квасова и Будберга.
На другой же день Будберг и накануне под конвоем привезенный Квасов явились к государю, и Петр Федорович сам расспросил подробно и того и другого, по очереди, обо всех подробностях поединка. Будберг путался более, чем когда-либо, врал и сам себя опровергал, не желая сознаться в своей жалкой роли секунданта.
Квасов после него рассказал государю все в мельчайших подробностях, от драки на плацу и до смерти шлезвигца, и каждое слово лейб-кампанца дышало негодованием и искренностью. Более всего поразило государя, что Фленсбург бросился уже на упавшего и безоружного Шепелева, намереваясь просто зарезать, так как первые раны, полученные при законных условиях, были совершенно легкие.
– Так он его зарезать хотел, как режут из-за угла! – воскликнул государь. – Когда дрались законно, не сумел убить, а тут упавшего дорезать захотелось! Не знал я, что он такой негодяй! А еще немец! Это бы тебе под стать…
– За что же, ваше величество? – вспыхнул Квасов. – Чем же мы, россияне, заслужили такого об нас рассуждения? У нас и пословица есть на нашем российском наречии: лежачего не бьют!
– А разве есть такая пословица? – удивился государь.
Поняв все дело как следует, государь рассудил его совершенно справедливо. Он взял во внимание, что Фленсбург первый нанес оскорбление безо всякого повода и вызвал на поединок юношу, едва умевшего держать шпагу в руке, с тем чтобы наверняка убить его. И это непременно случилось бы, если бы не Квасов, недавно выучившийся мастерски владеть оружием.
Квасов был тотчас же освобожден самим государем. А после этого, при встрече с Маргаритой, Петр Федорович поблагодарил ее при всех за совет вызвать участников поединка и допросить их лично. И при человеках двадцати придворных государь произнес несколько горячо:
– Я не привык к умным советам! Мне все глупости советуют. Спроси я по поводу этого поединка хоть бы вот Романовну, или Гудовича, или хоть дядю, непременно бы заставили сделать черт знает что. Я отныне буду пользоваться только вашими советами, когда будет к тому случай. А за нынешнее позвольте мне при всех расцеловать ваши ручки.
XXVIII
Наступили, наконец, и последние дни июня месяца.
Весь этот месяц государь прожил в Ораниенбауме почти безвыездно. Государыня сначала оставалась в Петербурге одна в большом новом дворце и здесь на свободе принимала всех петербургских сановников, все чаще являвшихся к ней, все дольше засиживавшихся у нее по вечерам. Но затем вскоре ей приказано было переехать в Петергоф.
Еще с первых чисел июня, когда по городу распространилась громовая весть о новой предпринимаемой войне с Данией за Шлезвиг, никому ни на что не нужный, вся столица заволновалась: и двор, и дворянство, и простой народ. Мало того, что правительство примирилось с исконным врагом, с Фридрихом, и стало помогать ему в его войне с прежними своими союзниками! Мало того, что отданы Фридриху даром годами завоеванные земли! Теперь начиналась война с государством, с которым отношения были отличные, из-за маленького клочка земли, которого, конечно, Дания не может отдать без упорной и кровавой борьбы. Недавно подарили Фридриху чуть не целое королевство, а теперь хотят завоевать маленькое герцогство!
Но более всех заволновалась гвардия. Дармоеды-солдаты, привыкшие по ротным дворам к жизни между курами, детьми и бабами, валяться на печи от зари до зари, негодовавшие еще недавно на простые парады и смотры, были совершенно поражены мыслью о походе и войне.
Сначала прошла весть, и ей никто не верил, а затем весть была подтверждена указом государя, что первая выступит на войну и первая понюхает пороху, конечно, гвардия. Люди, пользовавшиеся каждым удобным случаем, чтобы в превратном виде представить все распоряжения правительства, тотчас же распустили слух, которому всякий солдат рад был верить. Слух этот был, что государь, хотевший прежде раскассировать гвардию, поделав из нее полевые команды, теперь хочет отделаться от нее более жестоким способом, – всю положить на полях иноземных под пушками датчан. Ему не Шлезвиг нужен! Зачем ему маленькое герцогство? Ему нужно средство, законное и хитрое, истребить гвардию. Кто и не верил этой нелепости, повторял, клялся, что будто бы государь прямо и искренне говорил об этом многим и совет этот подан ему Фридрихом.
Так или иначе, но гвардейские полки, в особенности Преображенский и Измайловский, весь июнь волновались без конца. Бабы плакались и причитали от зари до зари о том, что мужья осуждены на смерть.
Чьи-то червонцы щедрой рукой сыпались в ряды солдат. Конная гвардия, измайловцы, семеновцы, преображенцы, от капрала до рядового, с утра ходили во хмелю. Случаи неповиновения, открытого буйства, дерзостей относительно нелюбимых офицеров все учащались. В Преображенском полку три ненавистных солдатам офицера – Текутьев, Воейков и Квасов – даже опасались за свою жизнь.
Текутьев однажды на собственном ротном дворе, в темную ночь, получил страшный удар кулаком по голове. Он не мог поймать оскорбителя, но видел, однако, на нем свой преображенский мундир.
Квасов, проходя, тоже ночью, по коридору ротной казармы, получил удар, но уже не кулаком, а ножом. По счастью, ножик скользнул, распорол ему сюртук, прорезал обшлаг мундира и только расцарапал плечо. На его крик выскочило несколько солдат, но злоумышленник тоже не был найден. Наутро, когда Квасов и Воейков требовали выдачи этого человека, которого солдаты, конечно, не могли не знать, то из толпы раздался крик:
– Небось не выдадим! Обожди малость, скоро вас всех, голштинцев, передавят!
И Квасов уже опасался бывать в сумерки и по вечерам на собственном ротном дворе.
Впрочем, лейб-кампанец редко бывал даже на своей квартире. Он проводил дни, а иногда и ночи около выздоравливавшего племянника.
Вместе с ним, не отходя ни на шаг, ухаживала за юношей и Василек.
Шепелев поправлялся медленно, но к концу месяца был уже на ногах, и только немного бледный, немного слабый от большой потери крови. Вместе с тем он возмужал. В лице его и красивых глазах уже не было прежнего юношеского наивного выражения. Глаза его будто подернулись легкой дымкой печали, дымкой пережитого, выстраданного. Такие драмы, как его сердечная драма, не проходят даром, и даже не рана от шпаги Фленсбурга, и не потеря крови, а главным образом рана, нанесенная в сердце Маргаритой, подействовала на него и если не состарила, то заставила возмужать.
Впрочем, со дня поединка, со времени болезни юноши, уже случились два события, которые в жизни Шепелева и жизни княжны отдалили и будто поставили на второй план преступный, отвратительный поступок Маргариты.
Василек была неотлучно день и ночь у изголовья юноши вопреки всем приличиям, вопреки собственным свойствам характера и в первый же день, на увещания Квасова, отвечала спокойно и твердо:
– Что мне! Пускай! Будь что будет! Ведь я ему сказалась! Он знает! Что ж тут скрытничать! А что про меня выдумают злые люди, мне все равно. Я ведь потом в монастырь пойду. Господь видит, что я дурного не делаю. А ходить за ним мне сердце и совесть велят.
Через неделю после этого почти безотлучного пребывания у Шепелева Василек, бывшая только два раза около больной тетки на минуту, собралась однажды снова проведать больную. Но явившиеся на квартиру Шепелева люди объявили, что барыня приказала долго жить, что поутру ее нашли скончавшейся.
Василек вздохнула, перекрестилась, пожелала тетке царства небесного, но совесть не укорила ее. Тетка лежала последние дни в совершенно бессознательном положении, Василек ничем не могла ей помочь, а здесь, около этого человека, который был ей дороже всего на свете, она была полезна. Вдобавок доктор Вурм, пользовавший юношу, сказал ей совершенно серьезно, что Шепелев очень многим, если не жизнью, обязан ей.
Василек вместе с Квасовым прохлопотали три дня, похоронили Гарину, и княжна, приказав запереть опустелый дом, вернулась снова в маленькую квартиру выздоравливающего.
А через дней пять после этого первого события случилось другое, даже не внезапное или неожиданное, а понемногу незаметно готовившееся, но про него покуда знали только Василек и Шепелев.
Однажды вечером Квасов, придя с ротного двора в квартиру племянника, застал Шепелева уже сидящим в кресле, а Василек наливала ему чай.
Квасов остановился, поглядел на них, нюхнул с присвистом из тавлинки и выговорил:
– Вот только тут и душу отведешь! Молодец, порося, давно бы тебе сидеть! Завалялся! Небось, поди, и ноги трясутся, как у столетнего старца. Да, – прибавил лейб-кампанец, – тут вот тишь да гладь, а что, порося, у нас творится, так бежал бы за тридевять земель.
– На ротном дворе? – спросил Шепелев.
– Да, кажись, не нынче завтра, ей-богу, офицеров перережут. А речи такие слышишь, что волос дыбом становится. А главное, чего, подлецы, захотели? За нами тянутся! Мы щенка немецкого свергли с престола и российскую девицу, дщерь Петрову, возвели на его место. А они чего захотели? Въявь орут, законного государя и законного внука того же великого Петра низвергнуть, а на его место немецкую принцессу посадить! То есть шиворот-навыворот – вверх тормашкой!
И Квасов злобно расхохотался.
– Поглядел бы я хоть одним глазком, каково бы это правление и царствование было, кабы Екатерину Алексеевну царицей или регентшей объявить? Покуда Павел Петрович вырастет да примет правление, каких бы, голубушка, она несуразных глупостей натворила!
Квасов помолчал и прибавил снова с презрительным смехом:
– За нами тянутся! Мы, вишь, пример! Нет, голубчики, это то же, да не то. Я теперь костьми лягу, коли какое только буйство на улице будет. Законный царь всероссийский, каков бы он непорядливый ни был, по его доброте сердечной и небольшому разуму, все-таки Петр Федорович. А Павел Петрович еще мальчуган! И если бы Екатерина Алексеевна попала за него в правительницы, то опять будет на Руси полная беспорядица и смута. Все-таки она чужая нам, ангальтская принцесса.
– Да, это истинно, – вымолвила Василек, – хотя она и добрая и совсем нету в ней ничего немецкого, а все-таки рождением своим она чужая для нашего отечества. Все-таки она чужеземная принцесса, стало быть, опять то же, что была Анна Леопольдовна.
– Еще меньше того! – воскликнул Квасов. – Анна Леопольдовна происхождением все-таки нашего царского дома была, а Екатерина Алексеевна такая же русская, как вот графиня Скабронская. Только по имени.
Шепелев вздрогнул, поднял глаза на дядю и вдруг выговорил слабо, но отчетливо и резко:
– Дядюшка! Просьба у меня до вас: никогда вы эту… эту… ну ее!.. не называйте при мне. Она для меня померла, но я не могу ее, как мертвую, добром поминать. Я не могу даже имени ее слышать. Можете вы сделать это для меня?
– Господь с тобой, порося, как ты прикажешь. Вот я дьявола не люблю поминать, ну, теперь буду знать, что есть два дьявола, которых поминать не след. Никогда больше не услышишь. А придется при случае по какому делу назвать, буду говорить «второй», и это будет значить: второй, мол, дьявол.
Наступило молчание. Только лейб-кампанец, закусив губу, постукивал ложечкой по стакану и слегка сопел. Он собирался теперь сказать нечто, что собирался сказать давно. Но каждый раз слова не сходили с языка, дух спирало в груди, сердце замирало. Он боялся вымолвить эти несколько слов, потому что боялся того впечатления, которое произведет это на Шепелева и на Василька. Он боялся, что нечто, ставшее для него единственной дорогой мечтой, окажется вдруг несбыточной вещью.
Но на этот раз Квасова особенно что-то толкало заговорить и высказаться. Наконец он вдруг бросил на стол ложку и вымолвил:
– Слушай-ка, порося. Я твою просьбу исполню. Это немудрено! Никогда второго дьявола именем не звать. А вот что! У меня есть до тебя просьба. Давно собираюсь, да все страшно вымолвить. Откажешь ты мне, прощай, брат, на вечные времена. Никогда не увидимся.
– Что вы, дядюшка!
– Да «не что вы»! Не про пустое сказываю, а дело великое, святое. Грех даже, что ты не понимаешь и не догадываешься, про что я говорю. Ты бы должен давно сам заговорить. Чего ждешь? А если просьбу мою не уважишь, вот видишь – лежат шпага и шляпа; надену их, скажу гут морген, и никогда меня не увидишь.
– Так объяснитесь, дядюшка, а то, ей-ей, ничего не понимаю.
– Ты сказывал не раз, что хочешь пользоваться новою вольностью дворянской и, выздоровев, просить абшид и уехать к матери, благо уж офицер.
– Правда.
– Ты и меня звал с собой.
– Вестимо, – отозвался Шепелев. – Что вам тут делать? Слава богу, наслужились довольно. Да и всякий день сказываете, что служить больше нельзя, что не нынче завтра зарежет какой-нибудь солдат.
– Все это верно, я, пожалуй, тоже абшид подам. Ну а потом что ж? Мы с тобой так и поедем к твоей матери?
– Вестимо, дядюшка.
– И только того и будет?
– Да чего же вам еще?
– Да что ты! Одеревенел, что ли? – стукнул Квасов кулаком по столу так, что все стаканы зазвенели. – Что ты, каменный, что ли? Или у тебя Фленсбург весь разум проковырял своей шпажонкой и совесть отшиб! Пойми, про что я тебе сказываю.
Шепелев сидел, вытараща глаза на лейб-кампанца, и лицо его ясно говорило, что он ничего не понимает. Княжна Василек еще более удивленно глядела на своего дорогого друга, наконец скрестила руки и своими чудными глазами как будто хотела проникнуть в душу лейб-кампанца и увидеть, что там бушует.
– Так ты да я поедем в Калугу? – выговорил Квасов.
– Да, – отозвался Шепелев, удивляясь.
– А княжна? – вдруг выговорил лейб-кампанец таким голосом, как если бы произносил самую страшную вещь.
И действительно, в этом слове, в этом вопросе теперь заключалось сразу все то, что бушевало в нем давно, все то, что не мог он произнести, боясь узнать как бы свой собственный смертный приговор.
Шепелев молча поглядел на дядю слегка блеснувшими глазами и улыбнулся. Княжна Василек вспыхнула и отвела глаза.
Наступило молчание.
– Да, – проговорил, наконец, укоризненно лейб-кампанец. – Да! Вот что! Ваше дело, как знаете! Добрая девушка всегда готова себя загубить, но Каин тот, кто губит. Всяк может сказать: дай, мол, я за тебя помру, да ты-то сам этого не должен допускать. Ну, стало быть, пеший конному, гусь свинье, честный подлому, а я тебе – не товарищи.
Голос Квасова задрожал при последних словах; он поднялся и пошел в угол, где была его шляпа. Когда он обернулся, то Шепелев сидел, улыбаясь, и глядел на Василька. Затем он сделал едва заметный знак бровями.
Она встала, обернулась к лейб-кампанцу, тихо, будто робко подошла к нему, вскинула руки ему на плечи и вдруг поцеловала его.
Квасов как-то ахнул, будто его ударили по голове.
– Что? – выговорил он изменившимся голосом.
– Аким Акимович, да ведь это давно… давно кончено!
– Что кончено? – заорал вдруг Квасов на всю квартиру, так что на улице двое прохожих вздрогнули и остановились под окошками.
– Дядюшка, идите сюда, – сказал Шепелев. – Я еще вставать боюсь. Поцелуемся, простите меня! Я уже и матери писал, и ответ имею. Как в Калугу приедем, так и пир горой.
– Так как же ты смел! – заревел Квасов совершенно серьезно, наступая с кулаками на племянника. – Как же ты смел, щенок поганый!
– Вам не сказать? – отозвался Шепелев. – Ну, уж если вы хотите драться, так бейте Василька, а не меня. Она виновата.
– Вы виноваты? – обернулся Квасов, тоже наступая, но уже опустив руки и разжав кулаки.
– Я, Аким Акимович! Мне хотелось вас попытать, мне хотелось, чтобы вы сами и первый заговорили…
Квасов остался среди горницы как истукан, поглядел по очереди на Василька и на Шепелева, потом достал тавлинку и, нюхнув чуть не целую горсть, выговорил, качая головой и щелкая пальцем по тавлинке:
– Ах вы, разбойники; ах вы, людоеды! Да вас теперь надо… Что надо?.. А?! До смерти вас надо избить!!!
И при тусклом свете нагоревшей свечи, близ самовара, Шепелев и Василек увидали суровое коричневое лицо лейб-кампанца, мокрое от слез. Василек бросилась и снова обняла друга. Шепелев, через силу, тоже приподнялся и протянул руки к дяде.
– Второй раз завыл по-бабьи! – шепнул Квасов в его объятиях. – Первый раз перед резней было… и вот опять…
XXIX
В Ораниенбауме за целую неделю начались большие приготовления на двадцать девятое число к празднованию дня Петра и Павла – именин императора и наследника престола. Предполагался фейерверк, иллюминация всего городка и концерт, в котором должен был участвовать сам государь, недурно игравший на скрипке. Все должно было закончиться балом, на который уже рассылались приглашения всем лицам, имеющим на то право.
По поводу этого бала в Петербурге уже шел смутный говор. Говорили, что императрица, находящаяся в Петергофе почти в заключении, обставленная часовыми и шпионами, не будет приглашена на праздник и именины мужа и сына и что Панин один привезет наследника. К этому прибавляли невероятный слух, что принимать в качестве хозяйки на празднестве будет графиня Скабронская.
Государь на время бросил экзерциции и смотры и с увлечением принялся разучивать свою партитуру квартета, в котором должен был участвовать.
В Петре Федоровиче была положительно жилка артиста и не было только выдержки и прилежания. В музыке он мог бы достигнуть известного совершенства, если бы усидчиво занимался. Но он всегда бросался на музыку случайно, временно, мимолетно, предавался ей запоем и потом снова бросал на несколько месяцев, иногда на целый год.
Однажды, будучи еще наследником престола, он сам и Елизавета Петровна разыскивали для него по всей Европе самую лучшую скрипку. После многих хлопот, переписки и крупной суммы, обещанной за первую скрипку в мире, была найдена такая в Венеции. Говорили, что скрипке двести лет, что она диво дивное, чуть не сама играет и поет, как живой человек. Так, по крайней мере, описал ее в донесении государыне российской посол при венецианском доже. Но когда скрипка достигла Петербурга, Петр Федорович и не взглянул на нее. В это время он муштровал своих голштинцев и выдумывал какое-то построение для атаки, которое будто бы когда-то изобрел и предпочитал македонский царь Филипп, отец знаменитого Александра.
Теперь государь бросил все заботы о кампании и походе в Данию, о войне и приготовлениях не смел никто и заикаться. Государственный секретарь не смел появляться с докладами, как бы они важны ни были. Даже с Маргаритой, окончательно поселившейся во дворце, государь перестал беседовать и болтать, как прежде, по целым часам. Он сидел за скрипкой и, едва успев позавтракать или пообедать, снова садился за пюпитр с нотами и снова разучивал квартет.
Однажды утром, недовольный своей игрой, он в припадке гнева схватил скрипку и, ударив ею о пюпитр, сломал его, а скрипка, конечно, разлетелась на десятки кусков. Через минуту Петр Федорович опомнился и понял, что сам себя погубил, что к скрипке этой он все-таки привык и на новой окончательно не мог бы играть. Тогда все, что только было в Ораниенбауме придворных, офицеров, адъютантов, было послано в Петербург в один день разыскать скрипку такого же размера, как разбитая. Даже принца Жоржа чуть-чуть не заставил государь тоже ехать и разыскивать инструмент по столице.
В числе лиц, посланных на поиски, был Будберг, который теперь заменил убитого приятеля в должности адъютанта принца. Будбергу посчастливилось: он тотчас же по приезде в столицу отыскал немца-музыканта, у которого была целая коллекция скрипок. Одну из них, очень дорогую, с которой бы немец никогда не решился расстаться, как с другом или любимым детищем, он, конечно, пожертвовал для государя с удовольствием.
Когда Будберг у подъезда дворца принца садился с инструментом в бричку, запряженную тройкой ямских, чтобы скакать в Ораниенбаум, к дворцу подъехал на извозчике и подошел к бричке неизвестный ему офицер, громадный детина на коротких ногах.
Будбергу показалось, что он где-то видал это чудовище и прежде. Но вспомнить его фамилию он не мог.
Неуклюжий и огромный офицер был Василий Игнатьевич Шванвич.
Угрюмо, не называя себя, он молча передал Будбергу письмо и записку. Затем тотчас сел на извозчика обратно и уехал. Большое письмо было на имя «его императорского величества» с обозначением, что содержит государственную тайну. Записка была для Будберга, и в ней незнакомая личность говорила офицеру, что письмо императору заключает в себе открытие самого дерзкого заговора против правительства, а что один из участников, именно преображенский офицер Баскаков, берет на себя адское намерение убить государя. А если же Будберг или даже сам государь не поверят неизвестному доносчику, то могут, арестовав офицера Пассека, немедленно найти при нем все данные, все списки участников, даже документы, обличающие все и всех.



