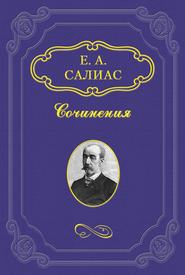 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Аракчеевский сынок
– Где же, где искать? где искать? – повторял он вслух и так часто, что извозчик обернулся и выговорил:
– Кого тоись? Вы это мне?
– Пошел! Гони! – вскрикнул Шумский.
Извозчик начал хлестать по лошади, но, наконец, обернулся снова к Шумскому выговорил:
– Все прямо, аль куда завернете?
– Тебе сказано куда! – крикнул Шумский.
– Никак нет, барин, ничего вы мне не сказали.
– Гони! – повторил Шумский и стал думать, куда в эту пору мог выехать фон Энзе.
«Наверное в том трактире, где уланы бывают, – подумал он. – Тогда не нашел, а теперь, сегодня, мне будет удача! Чую, что мне будет удача».
– На углу Конюшенной остановись, – сказал он.
Минут через пять Шумский вошел в ресторан, где сидело много народу – человек по крайней мере шестьдесят; большинство были офицеры разных полков и в том числе три-четыре улана. Оглядывая всех пристально и злобно, он прошел во вторую горницу, где было еще несколько человек офицеров, и затем прошел в третью, но она оказалась пустой.
«Куда же я теперь пойду? Лучше весь день здесь ждать, он всякий день бывает тут».
Шумский вернулся в первую комнату, сел около маленького столика и на предложение услуг лакея ответил раздражительно.
– Ничего! Отстань!
Он оперся локтями на стол и казался всем окружающим человеком, тревожно и глубоко задумавшимся. Но он ни о чем не думал. В его голове крутились какие-то обрывки мыслей без всякой связи между собой.
Но вдруг он вздрогнул и вскочил, как от электрического удара, и двинулся вперед.
Перед ним явилась фигура фон Энзе.
Шумский подошел к улану вплотную и выговорил:
– Наконец-то!
Это слово произнесено было глухим голосом, но все, что было в ресторане, двинулось, а некоторые повскакали с мест. Люди, прислуживавшие публике, тоже сразу остановились. Все замерли.
– Что вам? – тихо отозвался фон Энзе.
– Жених ли вы ее? – выговорил Шумский через силу, так как чувствовал, что дыхание ему захватывает.
– Да, – отозвался фон Энзе и стал к Шумскому боком, плечом к его лицу и настороже.
– Что вы вчера налгали барону на меня? Отвечайте сейчас.
– Оставьте меня, – глухо отозвался фон Энзе, – или вы – погибший человек! Я скажу одно слово, и вы – погибший. Здесь много народу. Я здесь, при всех скажу. Уйдите, я напишу вам, объясню. Если же вы пальцем двините, я вас уничтожу…
– Ах, ты собака! – прошептал Шумский так тихо от спазмы в горле, что никто, кроме фон Энзе не мог расслышать.
Но, вместе с тем, он схватил и тряс улана за борт сюртука. Фон Энзе отмахнулся ударом кулака не столько сильным, сколько искусным, и Шумский невольно выпустил его и едва устоял на ногах.
– Я хочу драться. Ты будешь драться со мной! – задыхаясь, выговорил он. – Негодяй и клеветник!
Фон Энзе вспыхнул и крикнул громко:
– С тобой? Сказано – никогда! Теперь менее, чем когда-либо. Я не могу драться с подкидышем! Да, дерзкий и распутный блазень и шатун. Ты – подкидыш! Я тебе здесь объявляю и всем буду сказывать, что любовница графа Аракчеева купила крепостного мальчишку и выдала его за своего ребенка. И вот ты ходишь под названием Аракчеевского сынка. Ты – безродный подкидыш – без отца, без матери. И не с тобою идти на поединок дворянину и офицеру с незамаранным именем.
Шумский стоял ошеломленный, почти не видя ничего. Слова улана были несколькими тяжелыми ударами по голове его и будто оглушили его. Слова эти однако – бессмыслица! Но, вместе с тем, в этой бессмыслице чудится ему «что-то», что он уже давно, давно знает, хотя слышит теперь в первый раз в жизни. Это «что-то» всегда ведь было в нем, но было едва видимо, а теперь сразу выросло в нечто огромное, ясно видимое, тяжелое, давящее…
Да, это ложь, бессмыслица, глупость, клевета. Он все это слышит в первый раз, но нисколько не удивлен! Все это, однако, схватило его, давит и вот сейчас раздавит в прах.
– Последний раз… Я хочу драться! – заговорил Шумский бессмысленным голосом, чувствуя, что теперь дуэль уже нечто второстепенное, глупое, пустое… Все перевернулось, спуталось…
Он снова подступил к улану и тотчас засунул руку в карман сюртука, где был пистолет. Фон Энзе поднял кулак и крикнул:
– Возьмите! Я убью его.
– Нет, врешь… Я…
И Шумский вдруг полусознательно увидал себя и улана среди кучки обступивших их людей. Быстро вытащил он пистолет, вытянул руку, и дуло в одно мгновенье было уже у самого виска фон Энзе. Но выстрела не последовало. Что-то тяжелое налегло на Шумского со всех сторон.
Только впоследствии сообразил он, что это были десять рук, схватившихся и за пистолет, и за него. Другие сильные руки обхватили его сзади и оттащили от улана.
Когда Шумский вполне пришел в себя, он сидел на диванчике. Ресторан наполовину опустел. Он вскочил с места, и тотчас же два лакея двинулись к нему, как бы намереваясь схватить его.
– Прочь! – вскрикнул он и бросился в следующую горницу. Но там было пусто. Не только фон Энзе, но ни одного офицера не оставалось в ресторане. Вероятно, не одну минуту просидел он, ошеломленный словами своего соперника.
Шумский надел шинель, вышел на улицу, но тотчас же снял кивер и, несмотря на проливной дождь, двинулся с обнаженной головой. И только через несколько мгновений, благодаря крупной сети свежего дождя, в голове его стало проясняться. Он вспомнил все, что произошло, понял, что сейчас был сам не свой, оглушен ударом, отуманен, будто в полуобмороке. И чем больше, чем ярче вспоминалось Шумскому все слышанное им, тем спокойнее становился он. Но спокойствие это не просто, как всегда, входило в него, а врывалось в душу болью, захватывало сердце, леденило тело. Когда Шумский, спокойный на вид, взял извозчика и сел, то ему показалось, что не он едет в пролетке, а сидит какой-то другой человек, какой-то деревянный, глупый, бесчувственный, бессмысленный. И этот человек захвачен! И не спокойствием захвачен, а каким-то зверем, который влез в него и ворочается в нем. И вся жизнь сосредоточивается в этом звере, который называет себя спокойствием. А он, этот человек, только какая-то клетка или какой-то деревянный футляр для этого большого, сильного, злобного зверя – спокойствия.
«Подкидыш!» – постоянно кричит голос. Но это не фон Энзе кричит, это он сам. Нет, и не он. Это захвативший его злобный зверь кричит.
«Подкидыш!» Ведь это же бессмыслица? Нет, это сущая правда. Он этого никогда не знал! Он это всегда знал! Оно было в нем с детства, но маленькое, крошечное… Это была черная точка, или это был прыщик. А теперь это огромная, зудящая, страшная язва! Из нее кровь течет, из нее гной идет!
И эта язва становится все шире. Скоро она захватит все его тело, и ничего не останется.
L
И то же время Квашнин и Ханенко сидели в кабинете Шумского молча и понурившись. Квашнин изредка вздыхал, но не подымал головы, а капитан сильно сопел и бессознательно перебирал пальцами по своим толстым коленкам, как бы играя на фортепьянах. Изредка подбросив одни кисти рук, он ударял сразу всеми пальцами трелью, как по клавишам, и приговаривал однозвучно:
– Д-да-с, батенька. История!..
Затем он снова принимался сопеть и думать, снова начинал играть на коленках, и снова подпрыгивали руки, и капитан протяжно, выпустив из себя дух, опять произносил:
– И-сто-ри-я-с!
Каждый раз, что раздавался стук экипажа, оба подымали головы и глядели в окно.
Наконец, раздался стук колес ближе к окошкам и оба офицера вскочили. Это был Шумский. Оба быстро вышли в переднюю.
– Не палил! Не палил! Слава тебе, Господи! – произнес капитан. – Кабы палил, домой бы не приехал.
Васька, который сидел, вероятно, тоже начеку, отворил дверь, прежде чем Шумский успел позвонить.
Когда молодой человек вошел в прихожую, оба приятеля, собиравшиеся спросить что-нибудь, не вымолвили ни слова. Они никогда не видали лица Шумского таким искаженным.
Шумский двинулся мимо них в комнату, как если бы не замечал их. Они пошли за ним.
Шумский на вид совершенно спокойно и обыкновенно расстегнул сюртук и сбросил его с себя на стул. Оба офицера заметили, что пистолета в сюртуке нет.
– Убил, что ли? – проговорил Квашнин совершенно дрожащим голосом.
Шумский взглянул на приятеля совершенно бессмысленными глазами и стал что-то искать в горнице. Он бродил по комнате, как пьяный или сонный. Нечаянно, будто ощупью, задвигал он руками по подставке, где были всегда трубки с набитым табаком, взял одну из них и стал опять стеклянными глазами водить вокруг себя.
Квашнин зажег спичку. Шумский протянул к нему конец трубки, как делал это всегда с Васькой. Затем, раскурив, он стал двигаться по комнате.
Оба офицера были столько же смущены и встревожены, стоя истуканами среди горницы, на сколько Шумский казался естественно и просто спокойным.
Однако, капитан Ханенко уже думал: «Не свихнулся ли он? Больно чуден!»
Он взглянул Квашнину в глаза, и Квашнин будто понял мысль капитана.
– Михаил Андреевич! – подошел он к Шумскому и положил ему руку на плечо. – Сядь.
Шумский поглядел на него и послушно, как ребенок, сел на ближайшее кресло и начал тянуть дым из трубки. И оба приятеля заметили, что он как-то странно тянет дым. Точно будто ребенку дали в руки трубку и заставили его делать нечто, смысл чего он не понимает.
Но затем Шумский вдруг опустил руки, чубук вывалился, и трубка упала на пол. Он задумался. Потом он поднял обе руки и стал тереть себе лоб и виски. Оба офицера сели близ него и тревожно смотрели на него. Несколько раз принимался Шумский тереть лоб, ерошить волосы, потом потянул себя за ворот, оборвал галстук и бросил его на пол.
Квашнин догадался, налил стакан воды и подал ему. Шумский взял и выпил с таким видимым наслаждением, как если бы умирал от жажды. Квашнин, ни слова не говоря, взял стакан, налил еще воды и снова подал, а когда тот опять выпил все до дна, он хотел было взять стакан из опущенной руки, но Шумский не давал. Через мгновение бессознательно он выпустил его из руки. Стакан скользнул, ударился об пол, зазвенел и разбился вдребезги. Шумский сильно вздрогнул и выпрямился на стуле.
Этот звук был особо знакомый звук, и коснулся прямо сердца! Этот звук дребезжащего стекла напомнил что-то. В этом звуке, сразу, как бы в каком-то сиянии, явилась пред его глазами красавица. Это она, Ева! Она, которую он тщательно, с любовью, со страстью, создал вновь цветными карандашами на бумаге.
И тотчас же этот, в звуке возникший, образ девушки, с серебристыми волосами, с чудными глазами, умиротворяюще подействовал на Шумского. Он вздохнул глубоко, поднял глаза, и его друзья сразу увидели перемену во взгляде.
– Михаил Андреевич, что с тобой? – заговорил Квашнин, сразу поняв, что приятель теперь пришел в себя.
Шумский вздохнул, провел рукой по лбу и выговорил:
– Голова тяжела. Вот теперь ничего не помню, чудное дело. Как я сюда попал: будто с неба свалился. Должно быть, сильно хватил он меня.
– Да что было-то? – выговорил Ханенко.
Шумский молчал, вздохнул, но затем, взглянув поочередно на Квашнина и на капитана, выговорил совершенно другим и спокойным голосом:
– Вы меня простите. Я вас буду просить. Вы уезжайте. Я теперь не могу ни о чем говорить. Мне хочется одному побыть, так вот полежать, подумать, покурить.
Шумский улыбнулся, а вместе с тем думал:
«Как я хорошо говорю! Какие слова выходят! Нет, это совсем не я, это он, деревянный человек так хорошо рот разевает».
– Мы тебя оставим, только ты ложись в постель, – услыхал он голос Квашнина.
– Да, да, я сейчас лягу. А вы поезжайте.
– Стало быть, ничего не было? – выговорил Ханенко.
– Ничего, ничего. Совсем ничего.
– Пистолет-то где же?
Шумский улыбнулся странной улыбкой, но добродушной.
– Отняли, – произнес он.
– Как отняли?
– Да.
– Ну, и слава Богу, – махнул рукой Квашнин и подморгнул капитану – бросить разговор.
Офицеры собрались и взялись за свои кивера. Ханенко был даже рад поскорее добраться домой после скверно проведенной ночи и тревожного дня.
Когда капитан уже был в столовой, выходивший за ним Квашнин вернулся назад, подошел к Шумскому и повторил:
– Ложись в постель, а я, пожалуй, в сумерки приеду.
– Да, – вдруг своим обыкновенным голосом отозвался Шумский, – да, Петя, приезжай в сумерки, приезжай, надо: ты мне скажешь – ты добрый, ты меня любишь – ты скажешь, зарезал, или не зарезал.
– Что ты! кого?
– Ты скажешь, ты узнаешь в Петербурге и скажешь, а я не знаю, зарезал он меня или нет, кажется, сдается – да.
– Фу, ты, Господи! – произнес Квашнин как бы себе самому и растопырил руками. Он не знал, что ему делать, уезжать или оставаться.
– Ну, слушай, Михаил Андреевич: часа через два я уже буду здесь, а ты, будь друг, ложись в постель.
– Да, хорошо, – отозвался Шумский.
Квашнин вышел в противоположную дверь, прошел в коридор и крикнул Шваньского. Его не оказалось дома.
– Черт бы его взял! – выговорил Квашнин. – Таскается, когда не нужно. Василий! приглядывай за барином, он что-то не хорош, будто не по себе. Уложи-ка его в постель, а я через часа полтора буду здесь.
Квашнин вышел в прихожую, где его дожидался Ханенко, и оба вместе вышли на улицу.
– А ведь он свихнулся, – проговорил Ханенко. – Ведь он почти и совсем безумным выглядит.
– Нет, капитан, это пройдет. Он силен, у него все сильно – и руки, и разум. Его так легко не сломаешь.
– Но что же такое могло с ним быть, что огорошило?
– Я к нему через часа полтора вернусь. Успокоится – расскажет. А вы бы вечером приехали?
– С удовольствием, – отозвался капитан, – только вот что, до вечера-то, пожалуй, его уже успеют заарестовать.
– За что?
– Как за что? Вы разве верите, что он ничего не натворил?
Квашнин не ответил и сделал движение рукой, говорившее: «Нет, тут что-то не то»!..
Офицеры расстались и разошлись в разные стороны.
LI
Квашнин был на столько взволнован всем, что случилось с приятелем и, в особенности, отказом барона, что теперь вдруг невольно задал себе вопрос: «Что же – так его оставлять? Не помочь, чем можно? Стало быть, поступить, как и все эти блюдолизы? Кутить на его счет умели, а теперь, хоть год свисти, никого их не досвищешься. Надо помочь».
Но Квашнин остановился в недоумении. Он не знал, что он может сделать. И вдруг внезапная мысль осенила его. Не поехать ли ему в качестве друга тотчас же к барону и просить словесного объяснения, так как послание его чрезвычайно темно и ничего не объясняет.
«Пускай он мне прямо скажет все, назовет причину, которая понудила его на такой резкий шаг».
Квашнин решился сразу. Съездив домой, он надел новый мундир и менее чем через час после того, что он вышел от Шуйского, он уже входил в дом барона.
Человек пошел докладывать. Квашнин, назвавшись человеку, велел прибавить, что он является по весьма важному делу. Барон, узнав, что имеет дело с гвардейским офицером, приказал просить к себе в кабинет.
Уже двигаясь через столовую, Квашнин вдруг вспомнил нечто и невольно остановился. Ведь он когда-то беседовал с бароном, изображая из себя Шуйского.
«Ну, все равно, – подумал он, – теперь уж не до того».
Когда офицер переступил порог кабинета, барон двинулся к нему и, приглядевшись, приостановился. Он вспомнил лицо этого молодого человека, это тот самый, который когда-то играл с ним комедию, назвавшись Шумским. И у барона тоже явилась та же мысль: «не до того». Зато барон тотчас же догадался, по какому делу и от кого является офицер. Он поэтому не счел возможным подать руку и сухо попросил садиться.
– Вы, конечно, от г. Шумского? – произнес Нейдшильд.
– Нет, барон. Я являюсь по его делу, но он не знает, что я теперь у вас.
– Может быть, – отозвался этот равнодушно.
Квашнин немножко выпрямился и выговорил:
– Я утверждаю, барон, что Шумский не знает, что я решился быть у вас. Я не понимаю, по какому праву вы считаете возможным мне не верить.
– Я имею право господин офицер не верить словам молодых людей, принадлежащих к тому кружку гвардейцев, где все считается позволительным. Если им возможно менять свои фамилии, надевать разные костюмы, являться в дома и принимать у себя под разными личинами и, вообще, играть всякие комедии, то уж говорить им…
Барон не договорил и слегка пожал плечами, как бы удивляясь, что молодой человек еще имеет претензию обижаться.
– Но оставим в стороне вопрос, – продолжал барон, – имел ли я право так отнестись к вашим словам или, вообще, относиться так к вам, к господину Шумскому и вам подобным. Объясните, пожалуйста, кратко, какая причина заставляет меня принимать вас у себя.
– Я явился, барон, узнать какой повод вы имели, чтобы в короткий промежуток времени согласиться на предложение моего друга и тотчас же написать ему письмо с отказом. И мало того, по слухам баронесса уже невеста другого. Что могло случиться за несколько часов времени?
Барон помолчал, потом поднял свои светлые, честные глаза на Квашнина и вымолвил:
– Вы не знаете этой причины? Полагаю, что вы должны ее знать, что вы знаете многое из того, что я узнал вдруг неожиданно.
– Если бы я знал, барон, то я бы и не явился вас спрашивать.
– Вы друг господина Шуйского?
– Точно так-с.
– Давнишний?
– Да-с.
– И вы не знаете, кто господин Шумский! Странно!
– Как кто! – удивляясь, отозвался Квашнин, – вы сами назвали его. – Шумский, флигель-адъютант, артиллерийский офицер, сын графа Аракчеева, – не прямой, но зато единственный и любимец. А так как граф Аракчеев всесильный сановник в государстве, то очевидно, что Шумскому предстоит быть по соизволению государя – графом Аракчеевым и наследовать все состояние отца.
– Все, что вы изволите говорить, – отозвался барон, – я тоже думал. Иначе я никогда бы не дал своего согласия… Но все это оказывается только одним – как бы это сказать – un mirage[33]… вы говорите по-французски?
– Нет-с, не говорю, – нетерпеливо отозвался Квашнин, – и слова этого не понимаю. Вранье – хотите вы сказать?
– Нет, не совсем вранье, a… un mirage. Все это так казалось. Может быть, и самому господину Шумскому все это казалось, и теперь даже кажется. Я почти уверен, что Шумский действительно не знает сам ничего и только, вероятно, теперь узнает то, что многие уже знают.
– Барон, я ничего не понимаю. Потрудитесь объясниться просто, а не загадками. Вы сами желали, чтобы беседа наша была короткая.
– Господин Шумский, – выговорил барон, как будто слегка вспылив, – неизвестно кто, и что, и откуда. Он не сын Аракчеева, а подкинутый младенец. Кто его отец и мать – никому неизвестно.
Квашнин только слегка сдвинул брови и, помолчав мгновение, ответил тихо:
– Это, барон, безобразная петербургская сплетня, вражеская клевета, про которую не стоит говорить. Кому же лучше знать – Аракчееву самому или нам с вами – кто Шумский? И каким образом человек в положении графа Аракчеева станет называть и даже станет любить чужого ребенка?
– Да поймите, – воскликнул барон, – что он сам обманут! Сам Аракчеев. Только две женщины знают, кто Шумский – любовница графа и какая-то нянька, которая даже была у меня в доме.
– Но позвольте, барон. Откуда все это дошло до вас?
– Мне передал все мой родственник, молодой человек, которого я очень люблю и за которого всегда думал отдать дочь.
– Фон Энзе? – произнес Квашнин.
– Да, фон Энзе.
– Где же он подобрал эту клевету?
– Он узнал все это от девушки, которая жила у нас, которую зовут Пашутой, и она же была у меня сегодня утром и мне подробно рассказала всю историю происхождения господина Шуйского. И неужели вы думаете, что я бы основал мое решение отказать принятому жениху, если бы не было у меня верных сведений?
– Но почему же, – возразил, улыбаясь, Квашнин, – крепостная девушка Аракчеева знает то, чего никто не знает?
– Она узнала это от одной женщины, которая была взята в дом Аракчеева почти со дня рождения Шумского. Кому же знать лучше, как не ей! Она все рассказала Пашуте, и даже передала много подробностей, которых Пашута не хочет покуда рассказывать.
– И вы всему этому верите?
– Совершенно, – отозвался барон. – И согласитесь, что всякий в моем положении, несмотря на скандал, немедленно взял бы свое слово назад. Если бы я знал, что граф Аракчеев знает эту тайну и все-таки желает считать господина Шумского своим сыном, все-таки пожелает сделать его наследником своего имени и состояния, то тогда признаюсь вам…
Барон пожал плечами и прибавил:
– Не знаю, как бы я поступил. Побочный сын или приемыш – что лучше? По-моему, приемыш лучше. Если бы граф, хотя бездетный, хотел иметь сына, то лучше было бы, честнее было бы, взять приемыша и воспитать, нежели, будучи уже женатым, прижить ребенка с какой-то женщиной. Ну, да это все, – прибавил барон, – рассуждения, к делу не идущие. Я хотел сказать, что когда я писал письмо господину Шумскому, мною руководила уверенность, что сам граф Аракчеев обманут, ничего не знает, а что теперь, когда все раскроется, граф сам прогонит от себя своего обманным образом полученного подкидыша. И тогда – представьте себе мое положение, мое, барона Нейдшильда, потомка древнейшего шведского рода, человека, коего предки отличились во времена Карла XII, один из них даже…
– Но кто же вам сказал, – перебил Квашнин, – что граф сам обманут?
– Даже Густав-Адольф, – продолжал барон упрямо и не слушая, – в бытность свою…
– Но от кого же ваш Густав-Адольф мог это узнать, – возразил Квашнин.
Барон вытаращил глаза на Квашнина, потом сообразил и вымолвил с иронической усмешкой.
– Вам, кажется, неизвестно, кто такой Густав-Адольф.
– Почему же оно должно быть мне известно. Я знаю двоих, фон Энзе и Мартенса, но больше ни одного из офицеров немцев не знаю.
Барон собрался было разъяснить недоразумение, но потом легко дернул плечом и прибавил:
– Мы, кажется, объяснились. Я не могу согласиться отдать свою дочь за молодого человека, который завтра будет существовать одним своим артиллерийским жалованьем и сделается для Петербурга la bete noire[34]. Ведь на него все будут пальцем показывать. Наконец, легко быть может, что государь, узнавши, кто этот молодой человек, лишит его звания флигель-адъютанта. Хорошего приобрел бы тогда зятя барон Нейдшильд!
В это мгновенье Квашнин уже думал о другом. Он собирался спросить нечто, о чем думал еще дорогой к барону. Ему хотелось узнать одно обстоятельство, крайне важное для самого Шумского.
– Согласитесь ли вы, барон, отвечать мне на один вопрос, несколько щекотливый? Отвечая на него правду, вы бы крайне меня обязали.
– Если можно, отвечу. Если отвечу, то правду. Если не захочу сказать правды, промолчу. Я не из породы комедиантов, – прибавил барон, прищурив глаза и говоря ими: «я не ты и твои приятели скоморохи».
– Идет ли ваша дочь замуж за фон Энзе по своему желанию или по вашему приказанию? Простите, я выражусь прямо: к кому больше склонна баронесса – к фон Энзе или к Шумскому?
– Баронесса, – отозвался Нейдшильд, – молодая девушка, привыкшая почитать и уважать своего отца и слушаться его советов, полагаться на его опытность. Но, во всяком случае, баронесса так воспитана, что прежде, чем быть молодой девушкой, она, понимаете ли, avant tout[35] – баронесса Нейдшильд. Она точно так же обязана перед своими предками…
Но при слове «предки» Квашнин уже нетерпеливо задвигал руками и ногами. Эти предки, путаясь в его беседу с бароном, до такой степени раздразнили его, что мягкий Квашнин готов был разругать их всех самыми крепкими словами.
– Из ваших слов, – выговорил Квашнин умышленно, – я заключаю, что баронесса имеет склонность к Шумскому и выходит за фон Энзе по вашему приказанию.
– Это до вас не касается, – отозвался барон резко.
– Совершенно верно-с. Это до меня не касается, но тем не менее это правда. Скажите: нет.
– Не скажу. Может быть. К несчастию. Но это пройдет!
И при этих словах барон встал с места.
Квашнин поднялся тоже и поклонился. Барон положил руку в руку и начал слегка потирать их, как бы от легкого холода. Вместе с тем он слегка наклонялся, отпуская гостя.
Квашнин хотел иронически улыбнуться, но вдруг вспомнил, что один из офицеров их полка, которому товарищи перестали подавать руку, тоже каждый раз горделиво ухмыляется.
Квашнин холодно, но низко поклонился и вышел.
LII
Двигаясь пешком тихими шагами по Васильевскому острову, Квашнин был почти в таком же тумане, в каком был Шумский после своей стычки с фон Энзе. Беседа с бароном имела для него одуряющее значение. Не раз слыхал он в Петербурге кое-где, что якобы всем известный блазень и кутила «аракчеевский сынок» должен бы был по-настоящему называться иначе – аракчеевским подкидышем. Квашнин был всегда убежден, что это была злобная клевета, сочиненная одними из ненависти к Аракчееву, а другими из зависти к молодому человеку, умному, красивому, богатому, но дерзкому. Многие боялись этого дерзкого баловня судьбы и так как попрекать его различными соблазнами и скандалами было мало – кто же тогда в гвардии не делал их! – враги Шумского придумали, что он не сын того, чьим значением пользуется, чтобы безнаказанно шуметь на весь Петербург своими похождениями.



