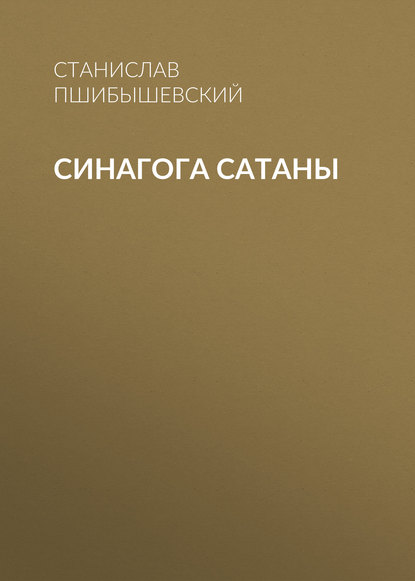 Полная версия
Полная версияСинагога сатаны
Но не один только знак ведьмы отмечает ведьму. Магической душевной деятельностью, управляющей всем ее существом, телесная чувствительность крайне понижена, иногда и вовсе уничтожена. Ведьма совершенно нечувствительна к ужаснейшим мукам пыток, и случаи полной каталепсии и бесчувственности очень часто приводятся в демонологической литературе; даже на дыбе, о которой палачи говорили: «тебя растянут так, что солнце будет просвечивать сквозь тебя», ведьма ни в чем не сознавалась, смеялась или спала.
Эта maleficium taciturnitas[49], которую дьявол уделял, по «Молоту ведьм», своим избранным и которую также приписывали тайным амулетам, вследствие чего ведьму раздевали догола и брили всю растительность на ее теле, была связана со странной восстановляющей силой организма, так что тягчайшие раны заживали легко и скоро, раны, которые обычно повели бы к неминуемой смерти. Было много процессов ведьм, когда ведьму четыре, пять раз подряд подвергали пытке, но всегда «она спала на дыбе, закрывая глаза так, что палачам приходилось не мало возиться, пока удавалось открыть один глаз».
В этом экстатически-медиумическом состоянии изменяются или вовсе уничтожаются все законы, обычно управляющие организмом. Огнеупорность ведьмы была так общеизвестна, что Шпренгер вовсе отвергает испытание огнем. Дельрио, вполне компетентный в этом отношении специалист, говорит о ведьме, которая осталась невредимой даже при ужасной пытке смоляным сапогом.
Еще менее приходится сомневаться в правдивости этих показаний, если принять во внимание, что и в наше время было обнародовано не мало подобных фактов; наиболее известный приведен у Валласа («Защита спиритуализма»), когда Mr. Home всовывал голову в огонь, не спалив ни одного волоса.
Также связанное с экстатическим состоянием изменение удельного веса вполне соответствует истине, хотя оно, как и вышеупомянутое качество, необъяснимо. Вполне понятно, что такой полный переворот физиологических законов в физическом организме соответствовал дикому a rebours[50] души.
Нечувствительность к боли убивала в ведьме всякое сострадание; она жестока до зверства, она не знает милосердия, но ей знакомо экстатическое сладострастие причиняемой боли. Она любит сладострастие зверства, и ее половая похоть всегда смешивается с жестокостью. Садизм и мазохизм управляют ее половой страстью; но ей недостаточно бить или быть битой: лишь когда она жадными, горящими руками копается во внутренностях убитого ребенка, когда она зубами впивается в его грудь и вырывает содрагающееся, еще теплое сердце, когда она обнаженным телом с воплями сладострастия извивается в его распоротом животе, тогда она, пожалуй, испытывает небольшое удовлетворение.
Такая же безграничная страстность – в ее ненависти. Она ненавидит все, что называется законом, она чувствует ярость против всего, что могло бы поставить преграды ее демоническому распутству и больше всего она ненавидит церковь и ее учреждения. Эпидемическим является ведовское безумие там, где катары в отталкивающих формах высиживали свою больную ненависть к христианской церкви.
Церковь, в сущности, все еще никак не могла справиться с манихеями. С неслыханной жестокостью церковь преследовала их десятки лет; жгла и колесовала тысячами, но они появляются все вновь и вновь, образуют тайные союзы, усиливаются, скрываясь, и даже там, где они были совершенно истреблены, сохранились традиции их жутких месс, которые когда-то они справляли по ночам в лесах и на высотах, и народ, давно уже дыбой, мечом, колесом и костром обращенный к единственно спасающей церкви, не прекращал посещения ночных сходбищ, на которых могла вылиться душа, стремящаяся к иступлению.
И на этих, казалось бы, фактических и действительных оргиях шабаша опять женщина подстрекает мужчину к нечеловеческому размаху инстинкта.
Женщина средних веков была малокровна до крайности, она поражала грязью, потому что все средние века болезненно боялась воздуха и воды; порабощенная мужчиной, отвергнутая церковью, презираемая даже Богом, который создал ее из кривого ребра Адама, женщина была совершенным зверем. Ее злые инстинкты пышно разрастались, как ил на дне морском. Мозг ее рождал бешено мстительные замыслы против соседки, которая кинула на нее злой взгляд, против мужа, угощавшего ее пинками, против помещицы, которая порой, чтобы рассеять скуку, приказывала ее сечь. Малокровие, разные, порожденные грязью накожные болезни постоянно раздражали ее сладострастие; она отдавалась каждому мужчине, т. е. безвольно давала насиловать себя, но никогда не испытывала удовлетворения.
Одна вечно растущая жажда наслаждения, удовлетворения, продолжительной половой оргии мучила женщину-зверя.
Она находилась всегда в возбужденном состоянии. При дьявольском «меланхолическом» темпераменте, в этой «дьявольской купели», каждая мысль, каждое ощущение становится ядом. Вопрос о том, когда эта женщина станет ведьмой, это только вопрос того, когда все зародыши одержимости, которые она носит в себе, придут к проявлению. И вот в один прекрасный день это наступает. Никогда она еще не чувствовала такого беспокойства. Она мучится больной жаждой убивать, рвать людей в клочья, неистовствовать, кричать и вдруг, как будто гонимая посторонней силой, она мчится бессознательно в лес, она не бежит, летит, она чувствует, что ее несет по воздуху, пока, наконец, она не падает.
И вот рядом с ней появляется инкуб. Он очень красен, одет как охотник, немного хромает, прячет хвост, насколько может, и рогов его не видно, но она наверняка, знает, что это черт. Ей страшно, но она ужасно любопытна. Она знает его могущество, она знает, что он может дать ей все, что она ни пожелает; в это мгновение она не думает о том, что деньги его после оказываются песком или грязью, ей очень страшно, но любопытство пересиливает страх.
Между тем черт приближается с ласковыми, но весьма недвусмысленными движениями. Он знает-де нужду ее сердца, знает, чего ей недостает, он согласен исполнить ее желания, если она отдастся ему и conditio sine qua non[51] – не будет раскаиваться в этом. Он становится все настойчивее. Она еще защищается, но уже чувствует, как тяжесть его опускается на нее, и она дает произойти ужасному. Это не сладострастие; от этого больно и холодно, о, как холодно!
Придя в себя, она замечает, что на две мили удалилась от своей деревни. Она дрожит как в ознобе, она разбита всем телом, она с величайшим трудом тащится назад, и только робкая надежда на то, что желания ее исполняются, поддерживает ее на ногах. Но ничто из ее желаний не исполняется, страшная мука, раскаяние и страх перед адом, страх, что ее живую утащат в ад, доводит ее до безумия. Она переживает, бок о бок с храпящим мужем, ужасную ночь.
Ад с ужаснейшими пытками разверзается перед ее глазами, с безумным отчаянием вперяет она в него взгляд, хочет молиться, но ее насильно отрывают от молитвы, адский хохот раздается в комнате, маленькие зеленые огоньки носятся взад и вперед, потом она слышит стуки в стенах, растущие до страшного грохота, ее постель кружится, тряпье, которым она прикрывалась, начинает плясать, она хочет разбудить мужа, но лежит как скованная и не может двинуться и вдруг опять видит его.
И вновь испытывает она пытку холодного как лед, полового акта, но теперь уже меньше боится, она даже задает вопросы своему адскому любовнику. В сущности, он любезный господин. Он советует ей сходить к ведьме, которая одиноко живет в лесу, и довериться ей; тогда она получит от нее травы, обладающие чудесной силой. Когда дьявол покидает ее, она впадает в тяжелый, мертвый сон.
На другое утро, после пробуждения, ее первая мысль – старая ведьма. Ее муж послан куда-то помещиком, а детей у нее нет. Она с нетерпением ждет вечера. С робостью в сердце, гонимая страхом, она, наконец, приходит к всегда запертому дому ведьмы.
Никто не помнит, когда страшная старуха пришла в деревню. Ее боятся, страшная паника следует, когда она идет по улице. Матери убегают с детьми, а если это уже невозможно, то творят крестное знамение или произносят имя Иисуса, с величайшей заботливостью избегая прикосновения к ней и стараясь не дать ей взглянуть на себя.
Но ведьма, видимо, ни на что не обращает внимания, она только бормочет что-то себе под нос и время от времени кидает на тот или другой дом короткий, острый взгляд. Ее давно побили бы камнями, ибо бесчисленны ее преступления, но боятся помещицы, которая охраняет ее, потому что получает от ведьмы яды для тайных целей. Между женщиной и ведьмой, которая, впрочем, кажется, ждала ее, завязывается долгая беседа. Она возвращается домой, полная решимости и мужества, и судорожно сжимает в руке горшочек мази и палочку, которую она должна спрятать в таком месте, где ее не найдет никто, кроме принадлежащих к «той же секте».[52]
Наконец наступает желанное мгновение, она извещена, что в такой-то день состоится посещение «синагоги». В полночь она раздевается догола и натирается мазью, полученной от ведьмы, натирает все тело, преимущественно подмышками, под сердцем, темя и половые органы. Она впадает тотчас же в «твердый, как камень» сон, который продолжается очень недолго, часто только одно мгновение. Она «просыпается» и отправляется в синагогу.
Как она туда добирается, она не знает. Она знает все обстоятельства своего путешествия, она наверняка знает, что шла пешком, она припоминает, что по дороге с ней заговаривали, но больше ничего[53].
Шла ли она много или мало времени, она не знает. Место, куда она, наконец, попадает, ей не совсем незнакомо. Это пользующееся дурной славой жуткое место на одной горе, о котором она уже раньше слыхивала, пустынная поляна, без дороги, без жилищ поблизости.
Она уже застает большое собрание – мужчин (их немного), женщин и детей. Некоторых она, кажется, узнает, но не вполне, потому что очень темно и беспокойно колеблющееся пламя факелов искажает фигуры, превращая их в страшные привидения. Она видит женщин, полуобнаженных, мчавшихся в диких прыжках взад и вперед, в растерзанных платьях и с распущенными волосами, легко и быстро, как будто они ничего не весят. Время от времени поднимается оглушительный вой: «Гар! Гар! Шабаш! Шабаш!». Вдруг, как по данному знаку, все присутствующие выстраиваются в круг с заложенными за спины руками, мужчина (он большей частью дьявол-любовник) и женщина, спина к спине, и вот начинается яростный вихрь пляски. Головы все быстрее откидываются назад, громко орут распутные песни, все время прерываемые задыхающимся, хриплым «Гар! Гар! Дьявол! Дьявол! Прыгай здесь, прыгай там!» В самых диких прыжках, в головокружительной путанице оргия достигает вершины. Зверь выпущен, жадная похоть смешивается с жаждой крови, безумие сладострастия загорается в болях головокружения.
Пляска расстроена, люди бросаются друг на друга, мужчины и женщины без разбора, отец на дочь, брат на сестру, мужчина на мужчину, все собрание извивается в невероятнейшем, противоестественном распутстве; как псы лежат они друг на друге, застыв в судорожных конвульсиях, и в отвратительные стоны нечеловеческого, болезненного совокупления врывается хриплое «Гар! Гар!» Женщина управляет сборищем и доводит его до экзальтации. Чтобы отречься даже от малейших признаков стыда, она сплетает руки за спиной, бросается на спину, подымает кверху широко расставленные ноги и с хриплыми криками отдается фаллосу. Древняя жрица Кибелы просыпается в ней с двойной силой; одержимая нимфоманией фурия с нечеловечески разросшейся чувствительностью, которой грязь и отвращение служат похотливыми наслаждениями. Похоть завершается кровожадностью; она рвет ногтями собственное тело, вырывает толстые пряди волос из головы, расцарапывает себе грудь, но всего этого недостаточно, чтобы насытить зверя. Она бросается на дитя, которое приносится в жертву Сатане, рвет ему грудь зубами, вырывает сердце, пожирает его, обливающееся кровью, или разрывает ему артерии на шее и пьет брызнувшую оттуда кровь, или зажимает его мягкую головку между ляжек, приговаривая «Иди туда, откуда ты вышел!». Бесчисленны видоизменения этого похотливого убийства, и всегда дитя является ужасной жертвой кровожадного Сатаны, царящего в женщине. После этой подготовительной оргии, которой заключается действительный, реальный шабаш, шабаш вавилонян, греков и римлян, шабаш доманихейский, начинается шабаш послеманихейского периода. Фактическое исчезает, сознание меркнет, разверзается неизмеримое царство ночи. Появляется Сатана. Охотнее всего он принимает образ козла, но часто видят его и в человеческом виде. Кажется, что он сидит на кресле, у него есть что-то, напоминающее человеческий облик, но все неясно, как бы затуманено.
Только очень редко удается ясно увидеть его. Он страшен! Все члены его разрослись до чудовищных, гигантских размеров. На голове у него корона из черных рогов, из них один так ярко раскален, что весь шабаш освещен им ярче, чем полной луной. Глаза его велики, широко открыты и совершенно круглы. Получеловек, полукозел, он имеет человеческие конечности, женские, дрябло висящие груди, но что особенно бросается в глаза – это его гигантский искривленный фаллос, похожий на огромный собачий хвост, раскаленно-красный, заканчивающийся женскими половыми органами.
Голос его страшен, но беззвучен и хрипл; его трудно понимать. «Он всегда выказывает большую куртуазность, соединенную с манерами меланхолического принца, который скучает». Под пупом у него другое лицо, еще более страшное, чем верхнее – лицо испражнений с широко разинутой мордой и высунутым языком.
Лишь только Он появляется, начинается месса. Она начинается всеобщей исповедью и каждый кается в том, что сделал доброго. Каются в страшном грехе целомудрия, в смертном грехе смирения, терпения, умеренности и любви к ближнему. Каются в страшных и противоестественных грехах, заключающихся в исполнении десяти моисеевых заповедей, и горько сожалеют о том, что упустили случай совершить преступление.
Козел слушает внимательно и наносит страшные удары, потому что он не любит половинчатых. Каждый вступающий в его церковь должен целиком исполнять его законы. После исповеди – представление тех, кто хочет вступить в его церковь. Дрожа от страха, предстают они перед троном владыки.
Чего ты хочешь? Хочешь ты стать одним из моих? – рычит он на пришельца. Да!
Так делай же и делай, чего я желаю.
Тогда вступающий произносит следующую формулу: «Я отрекаюсь сперва от Бога, потом от Иисуса Христа, Святого Духа, св. Девы, святых, святого Креста и т. д., во всем предаюсь в твою власть и в руки твои и не признаю другого бога, так что ты бог мой, а я твой раб».
После этого неофит целует Сатану в лицо под пупом и тем клянется в вечном рабстве и в покорности власти Дьявола.
Сатана ногтями сцарапывает у него со лба следы крещения, в грязной купели неофит подвергается новому крещению, причем он торжественно клянется никогда не принимать причастие иначе, как для преступных целей, оплевывать и осквернять св. реликвии, хранить тайну шабаша, вербовать новых приверженцев для церкви Сатаны и посвящать ему все свои силы.
Церемония достигает своей кульминационной точки в страшной просьбе неофита к Сатане, чтобы он вычеркнул его из книги жизни и внес его в книгу смерти. Дьявол ставит свой знак на веках, плечах, губах неофита, женщинам же на грудной сосок, чаще же на половые части.
Договор с дьяволом заключен, человек безвозвратно подпал дьяволу. С этого момента природа его совершенно изменяется, в душе его все переворачивается вверх дном, закон, связывающий до сих пор зверя, становится над ним бессильным, все добродетели, навязанные ему законом, отбрасываются с издевательством и женщина возвращается к своей древней природе, которую тщетно старались в ней укротить. Все ее свойства сбрасывают узду. Женщины становятся fallaces, proditiosae, loquaces, garrulosae, tenaces, glutinosae, ardentes et luxuriosae, leves rebelles et libitiosae, nociosae et periculosae, comparantur Ursis, Vento, Scorpion! Leoni, Draconi et Laqueo[54].
Вся мрачная, отчаянная история средних веков отражается в ужасах шабаша. Шабаш – это организм разнузданных инстинктов, мощное восстание угнетенной плоти, мрачная аллилуйя пригвожденного к кресту язычества.
И действительно, шабаш – уродливо искаженный синтез всех оргиастических культов древности. Служение Кибеле, где истерическая похоть выливалась в формы утонченной жестокости, своеобразные, давно позабытые приемы разврата при служении Астарте, преступления и заклинания, которыми греческие ведьмы понуждали Гекату отдавать мертвых – все это мы находим собранным в шабаше. Переиначенное, приноровленное к новому религиозному кругозору, но все же узнаваемое. Средневековый шабаш вряд ли имеет что-нибудь собственное, он – явление, встречающееся во все времена, у всех народов, универсальный исторический факт.
Но в то время как мистерии древности имели, безусловно, положительный характер, в то время как их целью было ввести все в круг божественного, освятить все инстинкты, чтить божество высшим проявлением экстаза, – шабаш средних веков имеет исключительно отрицательное значение.
С одной стороны, он коренится в страшной ненависти манихеев к католической церкви и бесспорно возник в лоне манихейства или, вернее, развился под его покровительством. Учение манихеев имело почти исключительно полемическое содержание и является разрушительнейшей критикой католицизма. Все, что в учении катаров было основным вероположением, погибло в этой ненависти, которая от фантастических преследований все росла из поколения в поколение.
На этой гостеприимной почве ненависти, естественно, в огромном количестве нагромоздилось все, что преследовала церковь, все, что жило еще из остатков язычества в сознании народа, все взгляды и обычаи, принесенные из других стран, но по каким-то причинам жадно воспринимавшиеся народом, и против которых церковь подымала самое жестокое свое оружие.
С другой стороны, шабаш коренился в болезненной ненависти одержимых ко всему церковному. Церковь заявляла, что в одержимых свирепствуют бесы, она пыталась исцелять больных святой водой и молитвами. Пусть так. От этого люди еще больше верили в то, что они одержимы бесом; они носили дьявола в себе и давали ему реветь страшные богохульства по отношению к церкви. А на низшей ступени этих заболеваний, которая наблюдается у ведьмы, мы видим, как те добровольно и с возрастающим наслаждением предавались черту, который в награду давал им нечеловеческие радости шабаша. Так смешалось манихейство со странной страстью средневекового человека к святотатству.
Основной первоначальный бог катаров, quand meme[55], положительная материя, стала в ярости сражения, в полемических неистовствах издыхающих альбигойцев, a rebours[56], материей грязи, отвращения, яда и вони.
Для катара основное положение «nemo potest peccare ab umbilico et inferius»[57] было столь же святой основой, как жертва Гимена для жрицы Астарты. Но для ведьмы это основоположение стало средством осквернять святыню.
Убежденный катар отрекался от католической религии со святой серьезностью неофита; для ведьмы формула отречения стала адским договором, который она заключала с дьяволом.
Итак, ведьма взяла из символа веры катаров как раз то, чем она могла больнее всего уязвить Бога христиан и вызвать его гнев.
Народ, со зверской жестокостью обращенный в христианство, вступил во владение мрачным наследием убитых отцов. Веры больше не существовало, но отчаявшийся, порабощенный и измученный пытками народ не оставил празднеств отцов, празднеств инстинктов, греха, который должен быть умерщвлен грехом фаллоса en eveil[58] и furores matrices[59] И кто раз посетил церковь посвященных, «braves homines»[60], тот бесповоротно подпадал Сатане.
Исторический шабаш, культ альбигойцев, которым они чтили злого «бога», растекается в диких фантазмах одержимых; первоначально естественные формы искажаются в чудовищные галлюцинации и нельзя больше установить, где кончается галлюцинация и где начинается действительность. Дикое смешение тысячеобразных обломков культур всех народов и времен, лихорадочная путаница основ веры всех религий, вулканический взрыв противоположных инстинктов в диком хаосе и ожесточенной борьбе.
* * *Посещение шабаша действует как привычка употребления опиума. После нескольких раз оно становится страстью, от которой никогда уже нельзя отделаться. Все показания ведьм сходятся на том, что «шабаш – истинный рай, и в нем больше радости, чем можно высказать». Когда был подан знак, то становилось радостно, «как будто звали на свадьбу. Дух так сковывает сердце и волю, что нет места никаким другим желаниям». Судьи удивленно спрашивали, как может шабаш действовать так притягательно, когда он только место ужаса и неистовства? На что они получали ответ, что «ужасами этими наслаждаются с удивительной радостью и бешеной страстью», так что время, «полное таких наслаждений, летит, как безумное, с сожалением расстаешься с ним и с невероятной тоской стремишься возвратиться на шабаш». «Что радости его поистине нечеловеческой сущности и неземного происхождения».
Таким образом, у ведьмы мало-помалу утратилась цель осквернять церковь; шабаш стал ее религией, преступление – ее добродетелью; извращение инстинктов произошло почти незаметно, и она вдруг стала новым существом. Бесстыдная оргия стала самодовлеющей целью; ведьма более не думает о том отношении, в каком ее культ находится к христианской церкви, она бросается вниз головой в бездну бешенства инстинктов, не думая более о совершенном при этом святотатстве. Итак, оргии стали праздноваться без всякого отношения к чему бы то ни было, по раз намеченному порядку, со всеми традиционными обычаями, целью которых первоначально было богохульство. Справляли оргию из-за самой оргии, давали простор бешенству в мучительнейших судорогах сладострастия, человеческое существо становилось волком, вампиром, козлом, свиньей, неистовствовало в сознании вечного проклятия, но что значили все небесные радости в сравнении с нечеловеческими наслаждениями шабаша!
И, таким образом, шабаш, на котором в первый раз присутствовали с ужасом, с жутким сознанием бесповоротной потери спасения души, стал мало-помалу единственным культом без всякого противоположения, без всякого иного значения, кроме желания испытать сладострастие, повышенное до сверхчеловеческих размеров. И Сатана, первоначальное «анти» всего католического, стал единственным богом, милостивым отцом, уготовляющим безмерное блаженство. Если первоначально, отдаваясь ему, стремились получить земные блага, золото и могущество, то теперь забывали все это, ничего больше от него не требовали, восхваляли его и благодарно целовали его тело. Ибо он давал все – вулканическое потрясение плоти, в спазмах которой всякое золото кажется ничтожной пылью и всякая власть глупым тщеславием.
Стадия отрицания, сознательного богохульства, которым ведьма вводилась в замкнутый круг поклонников Сатаны, продолжалась очень недолго; в яростных вихрях пола вскоре забывался культ христиан, и не было никакого бога, кроме него, висящего фаллоса и когда козел подъемлет черную гостию и лает: «Вот – тело мое!», вся община падает на колени с той же неистовостью, с которой еще недавно поклонялась всякому причастию, и из глубины души козел стонет: «Aquerra goity! Aquerra boyty!» (Козел вверху! Козел внизу!). Ведьмы, которых де Ланкр судил в стране басков, оправдывались тем, что они вовсе не знали, что грешат, что они не признают за собой никакой вины; наоборот, они думали, что это – единственная религия. Они с невероятнейшим благодушием описывали невероятнейшие детали своих служений. «Девушки и женщины Лабура вместо того, чтобы краснеть и оплакивать свое преступление, рассказывали перед судом все обстоятельства и всякие грязнейшие подробности с таким наслаждением и бесстыдством, что видно было, что они гордятся, рассказывая, как все было, и находят в этом особое удовольствие, ибо они предпочитают грязнейшие ласки дьявола всему другому. Они нисколько не краснели, какие бы нескромные и грязные вопросы им не задавали, так что наш переводчик, который был священником, больше стыдился, переводя им наши вопросы». «Ita pestis haec velut contagio proserpsit!»[61], говорит Вир в своей прекрасной книге «De prestigiis daemonium»[62], а советник Генриха IV Флоримонд из Бордо пишет в ужасе: «Et le diabbe est si bon maistre, que nous ne pouvons envoyer si grand nombre (т. е. ведьм) aufeu, que de leur cendres il n'en renaisse de nouveau d'autres»[63].
Шабаш, бесспорно – величайшая культурно-историческая загадка в истории мира. В эпоху Просвещения задача была значительно облегчена. Все огульно было объявлено глупостью и средневековым лицемерием; процессами ведьм пользовались как глупым и тенденциозным предлогом для нападения на церковь. Так называемый историк культуры часто поспешно перескакивал через слишком достоверные факты, потому что они были ему неудобны, и он не знал, что с ними делать. Лишь в последнее время, после того как нельзя стало отрицать странных явлений оккультных феноменов, после того как многочисленные ученые, которым Крукс расчистил путь, серьезно и без предвзятости подвергли пытливому исследованию факты медиумизма, темнота стала рассеиваться. Одно упустили из виду, что существовал действительный шабаш, столь же реальный и несомненный, как черная месса при Людовике XIV, шабаш, куда ведьма не летала, не отправляла свое астральное тело, но куда она шла пешком, часто за несколько миль. Утверждать это нам дает право не только все то, что мы знаем о тайных сектах и их тайных сходбищах; нет ни малейшего основания сомневаться в том факте, что эти сходбища неожиданно заставались непосвященными, причем участники поспешно разбегались. В одном случае непрошеных гостей угостили такими побоями, что они вскоре умерли от их последствий.

