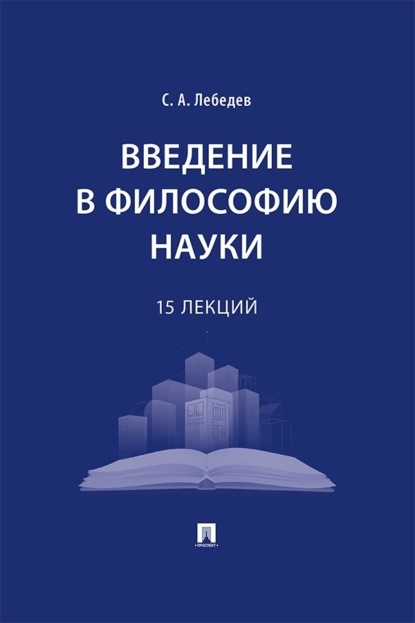
Полная версия:
Введение в философию науки. 15 лекций
Одним из магистральных направлений развития философии науки ХХ в. был неопозитивизм, сменивший эмпириокритицизм и ставший третьим этапом в развитии позитивизма.
5. Неопозитивизм
Сначала неопозитивизм возник в форме логического позитивизма, а затем был дополнен философией лингвистического анализа. Основателями логического позитивизма были Б. Рассел, Л. Витгенштейн, М. Шлик, Р. Карнап, Г. Рейхенбах и др. Что не устраивало создателей неопозитивизма в эмпириокритицизме как предшествующей версии позитивизма? Прежде всего, сведение эмпириокритиками задач философии науки к теории научного творчества и описанию организационных механизмов функционирования науки и научного знания. Больше всего их не устраивали исторические и психологические методы анализа и решения эмпириокритиками проблем философии науки. Обвинив вслед за Э. Гуссерлем эмпириокритиков в психологизме, неопозитивисты утверждали, что методы эмпириокритиков являются слишком расплывчатыми для статуса такой строгой науки, какой должна быть философия науки. Из этой ситуации, с точки зрения неопозитивистов, есть только один выход: во-первых, ограничение предмета философии науки только языком науки, а во-вторых, построение эталонного (идеального) научного языка только с помощью методов таких строгих наук, как математическая логика и логическая семантика. К этому времени обе эти дисциплины были на подъеме и достигли замечательных результатов в решении проблем построения строгих логических доказательств и рассуждений. Логический анализ научного знания, структуры научных теорий, их доказательности, уточнение смысла и значения всех фундаментальных понятий реальной науки средствами математической логики и логической семантики – вот суть программы философии науки логического позитивизма. Однако мощные усилия логических позитивистов реализовать эту программу показали явную ограниченность заявленных ими методов реконструкции научного знания. Язык реальной и успешно функционирующей на практике науки явно не соответствовал тем стандартам и меркам, с позиций которых к нему подходили логические позитивисты. Он явно не укладывался в прокрустово ложе идеальных схем современной формальной (математической) логики. В итоге программа логического позитивизма оказалась реализуемой лишь частично – в самой логике, а также в математике (да и то с известными ограничениями – результаты А. Черча, К. Геделя, Б. Рассела и др.). Она оказалась плохо реализуемой в естественных науках (где попытки применить строгие формально-логические стандарты анализа и реконструкции языка этих наук оказались явным насилием над ним – показательными в этом отношении были работы А. Зиновьева по построению им систем «логической физики» и т. п.). И наконец, философия науки логических позитивистов потерпела полное фиаско в социально-гуманитарных науках, язык которых не только весьма далек от формально-логических канонов его построения, но и в том, что само социально-гуманитарное знание лишь частично и достаточно приблизительно выражается с помощью дискурса. Здесь существенную роль играют также такие средства и методы как понимание, когнитивные и не когнитивные коммуникации, неявное знание, в том числе личностное и др.
Эпистемологическую основу логического позитивизма составили следующие принципы:
1) научное знание имеет два основных уровня: эмпирическое и теоретическое знание; при этом второе частично сводится к первому и контролируется им;
2) научная теория – это дедуктивно организованная система высказываний об основных законах изучаемой предметной области;
3) из научной теории логически выводятся ее эмпирически проверяемые следствия;
4) единственным критерием истинности и обоснованности научных теорий должна быть степень их соответствия данным наблюдения и эксперимента.
Однако сравнение этих положений с реальной наукой и ее историей показало, что они явно не соответствуют структуре реальной науки. Она оказалась значительно сложнее представлений о ней логических позитивистов. Во-первых, структура научного знания любой науки состоит не из двух уровней: эмпирического и теоретического, а из четырех качественно различных по своему содержанию уровней: чувственного, эмпирического, теоретического и метатеоретического. Во-вторых, любая научная теория имеет собственное (идеальное) содержание, которое не сводимо ни полностью, ни частично к эмпирическому знанию. В-третьих, теории являются относительно самодостаточными когнитивными системами. Они не только не подчиняются данным наблюдения и эксперимента, но скорее сами контролируют и интерпретируют эмпирическое исследование. В-четвертых, только математические теории являются дедуктивно организованными и аксиоматическими системами научного знания. Подавляющее же большинство теорий как естествознания, так и социально-гуманитарных и технических наук организованы другим способом. В-пятых, из любых теорий самих по себе не могут быть логически выведены эмпирические следствия. Их можно вывести только из более сложной системы: «Теория + ее конкретная эмпирическая интерпретация». В-шестых, соответствие эмпирически интерпретированной теории некоторому множеству фактов является лишь одним из критериев ее истинности и успешности. Дело в том, что при оценке истинности (или приемлемости) научной теории используется также целый ряд других, внеэмпирических критериев (внутреннее совершенство теории, ее непротиворечивость, простота, согласие с другими теориями, доверие к ней со стороны членов научного сообщества, ее эвристичность и др.).
Мощная критика логического эмпиризма со стороны ученых и представителей других направлений философии науки за его несоответствие реальной науке, за неспособность логического позитивизма решить главные проблемы философии науки: проблему конкуренции научных теорий, а также проблему закономерностей развития науки и научного знания привели его к уходу с философской сцены уже в начале 70-х гг. ХХ в. Начиная с этого времени логический эмпиризм перестал быть влиятельным направлением в философии науки. Более жизнеспособным оказалось другое направление неопозитивизма – аналитическая философия, программа лингвистического анализа языка науки (Г. Райл, Дж. Остин и др.). Лингвистические аналитики разделяли позицию логических позитивистов о том, что главным предметом философии науки должен быть язык науки. Однако в отличие от логических позитивистов они считали, что а) это должен быть язык реальной науки, а отнюдь не его искусственно сконструированный образец с помощью средств математической логики; б) язык реальной науки – это специфический вид языковой игры с достаточно широким набором правил, применение которых в существенной степени определяется задачами общения субъектов научного познания и варьируется достаточно широко в зависимости от предмета, целей и контекста научного исследования. В 60–70-х гг. ХХ в. на смену неопозитивизму в западной философии науки приходит постпозитивизм.
6. Постпозитивизм
Его главное содержательное отличие от неопозитивизма состояло в переключении философии науки с анализа структуры готового научного знания на проблемы рациональной реконструкции процессов открытия, динамики, конкуренции и смены научных теорий. В решении указанных проблем постпозитивизм был весьма неоднороден. Здесь можно выделить следующие достаточно влиятельные концепции: 1) критический рационализм (или фальсификационизм) К. Поппера; 2) методологию научно-исследовательских программ И. Лакатоса; 3) эволюционную эпистемологию Ст. Тулмина; 4) методологический анархизм П. Фейерабенда; 5) и, наконец, теорию научных революций Т. Куна. Рассмотрим коротко основные положения этих концепций.
Как и все представители позитивистской философии, сторонники постпозитивизма также считают, что сущность науки составляет эмпирическое изучение действительности, заканчивающееся созданием точных математических моделей познаваемых объектов. Именно поэтому постпозитивизм вполне правомерно рассматривать как продолжение позитивизма и даже как особое направление логического эмпиризма, несмотря на все попытки постпозитивистов отмежеваться от этого. Общее между ними состояло также в том, что образцом науки и научного знания как позитивисты, так и постпозитивисты считали физику. Структура, динамика и развитие именно этой науки рассматривались теми и другими как исходный эмпирический материал для построения своих универсальных моделей научного познания. Однако в понимании места и роли эмпирического опыта в обосновании и динамике научного знания между логическими позитивистами и постпозитивистами действительно имелось существенное различие. Тогда как логически позитивисты исходили из классических эмпиристских взглядов о том, что опыт играет положительную роль в утверждении, обосновании и динамике научного знания, постпозитивисты в лице Поппера впервые провозгласили альтернативный взгляд. С их точки зрения, гносеологическая функция данных наблюдения и эксперимента состоит вовсе не в доказательстве истинности научных законов и теорий или хотя бы только подтверждения их истинности, а только лишь в опровержении ложных гипотез и теорий. Дело в том, что правила логики запрещают делать выводы об истинности оснований любого вывода на основе установления истинности его следствий. Правила логики позволяют делать только два вида выводов: 1) от истинности оснований вывода к истинности его следствий; и 2) от ложности следствий вывода к ложности его оснований. Поэтому сам по себе эмпирический опыт принципиально не может ни доказать, ни даже подтвердить истинность никаких универсальных суждений, например, научных законов, включая эмпирические, а тем более научные теории. Он может только опровергать любые ложные гипотезы общего характера. Уже в 40-х гг. ХХ в. К. Поппер занял жесткую и непримиримую позицию по отношению к неоиндуктивизму логических позитивистов (Г. Рейхенбах, Р. Карнап и др.), пытавшихся построить индуктивную логику как теорию и метод определения степень истинности или степень выводимости общих законов и теорий на основе имеющихся эмпирических данных. Методологический анализ эпистемологического конфликта Поппера с логическими позитивистами показал, что именно Поппер оказался здесь прав. Его оппоненты, – известные логики, совершали (каким парадоксальным это не покажется на первый взгляд) элементарную логическую ошибку: от истинности эмпирически удостоверенных следствий некоторой теории действительно нельзя заключать не только об истинности, но даже о вероятности истинности теории. Дело в том, что согласно определению логического следования истинные следствия могут быть вполне законно с логической точки зрения получены и из ложных посылок. Приведем элементарный пример такого логически законного вывода. Посылки: 1. Все тигры – травоядны. 2. Все травоядные – млекопитающие. Заключение: все тигры – млекопитающие. Очевидно, что заключение данного вывода истинно, тогда как обе его общие посылки ложны. Исходя из того, что с логической точки зрения подтверждаться фактами могут и заведомо ложные теории, Поппер делает вывод, что критерий подтверждения теорий опытом не может рассматриваться в качестве критерия демаркации (различения) научного знания от ненаучного. Подтверждаться фактами могут любые концепции и теории, в том числе различные религиозные, политические, идеологические, а также явно паранаучные, типа астрологии и т. п. Поппер считает, что критерием научности знания (критерием его демаркации от разных видов вненаучного и паранаучного знания) может быть только возможность его опровержения эмпирическим опытом. Знание, которое никогда и ни при каких условиях не может быть опровергнуто эмпирическим опытом, не может и не должно считаться научным согласно предложенному критерию. Отсюда Поппер делает последовательный, но довольно неожиданный и далеко идущий в гносеологическом плане вывод. А именно, что любая научная теория, в силу своей универсальной формы, рано или поздно, но обязательно будет опровергнута опытом. Весь вопрос лишь во времени и таланте ее ниспровергателей. Эта концепция получила в философии науки название «фаллибилизма», или принципиальной ошибочности всех научных теорий. Согласно Попперу, если следствия научной теории были опровергнуты опытом (данными наблюдения и эксперимента), она немедленно должна быть отправлена в «отставку», без всякого права на свое усовершенствование с целью исправления обнаруженного ее противоречия фактам. Если же в ходе проверки конкурирующих теорий каждая из них выдерживает проверки фактами (т. е. не опровергается ими), то предпочтение должно быть отдано той теории, которая была более информативной, более богатой по содержанию, так как у нее была бόльшая вероятность быть опровергнутой опытом по сравнению со своими соперницами. В отличие от логических позитивистов философия науки Поппера поощряет более смелые, более невероятные гипотезы. По Попперу, главный смысл научного прогресса в том и состоит, чтобы обеспечивать все бόльшую эмпирическую информативность сменяющих друг друга научных теорий, а вовсе не в их коллекционировании как когда-то доказанных и якобы бесспорных истин. Подлинная философия науки должна быть направлена на объяснение и обеспечение динамики науки, а вовсе не ее статики. Концепция динамики науки Поппера имела название «теория перманентной революции в науке», поскольку, с его точки зрения, революции в науке совершаются постоянно, с каждым случаем выдвижения новой гипотезы, альтернативной прежней. Победитель же всегда является лишь «калифом на час», ибо сразу после победы любой гипотезы перед ней возникает угроза либо быть опровергнутой новыми фактами, либо быть «смещенной с трона» более информативной конкурирующей с ней гипотезой. Идеи К. Поппера легли в основу нового направления философии науки 60–70-х гг. ХХ в. – «критического рационализма» (Дж. Агасси, Дж. Уоткинс, Х. Альберт, Э. Топич, Х. Шпиннер и др.).
Одним из вариантов критического рационализма стала концепция развития научного знания И. Лакатоса, известная как «методология научно-исследовательских программ». Согласно этой концепции, базисной единицей структуры научного знания являются не факты и не теории, а более общие когнитивные образования – научно-исследовательские программы. Последние представляют собой синтез следующих компонент: 1) ядро программы – гипотеза о структуре объектов исследуемой предметной области (например, идея планетарного устройства структуры атомов); 2) продуцируемое на основе ядра программы множество частных научных теорий (гипотез второго уровня), представляющих собой конкретизацию основной идеи программы (например, первоначальная модель структуры атома, предложенная Э. Резерфордом). Множество таких теорий образует так называемый защитный пояс ядра программы. Соотношение ядра программы и представляющих его отдельных теорий-гипотез является не логическим, а конструктивно-синтетическим: ни одна научная теория не является дедуктивным следствием ядра программы, а есть результат конструктивного присоединения к этому ядру некоего нового содержания. Следствием такого синтетического взаимоотношения между ядром программы и представляющими его отдельными теориями является то, что опровержение отдельной частной теории (или отказ от нее) автоматически не ведет (с логической необходимостью) к опровержению ядра программы. Ядро программы, согласно Лакатосу, принимается ее сторонниками конвенционально и потому неопровержимо для них в принципе; 3) положительная эвристика программы – методы развития ее защитного пояса, успешного объяснения имеющихся эмпирических фактов исследуемой предметной области, а также обеспечения предсказания новых фактов; 4) отрицательная эвристика программы – совокупность методов ее защиты от опровержения со стороны конкурирующих исследовательских программ, выдвижение против них таких фактов и теоретических аргументов, которые продемонстрировали бы их несостоятельность (или слабую конкурентоспособность). Несомненным достоинством методологии научно-исследовательских программ Лакатоса явилось то, что ему удалось избежать изображения динамики науки как перманентной революции и одновременно объяснить очевидный эмпирический факт из истории науки – относительную устойчивость ее теорий в процессе их согласования с опытом на длительном промежутке времени. Недостатком же методологии научно-исследовательских программ Лакатоса явилось то, что, согласно этой методологии, принципиально невозможна окончательная победа или поражение одной из конкурирующих научных программ. Это, конечно, не соответствует реальной истории науки (например, бывшие когда-то вполне научными и успешными астрономия Птолемея, теории флогистона и теплорода в химии и физике впоследствии исчезли из науки навсегда).
В качестве альтернативы критическому рационализму в постпозитивистской философии науки второй половины ХХ в. был выдвинут целый ряд концепций. Наиболее известными из них стали концепция методологического анархизма П. Фейерабенда, парадигмальная теория развития науки Т. Куна и когнитивная социология науки М. Малкея. Главный смысл концепции Фейерабенда состоял в отрицании существования в науке некоего единого, одинакового для всех наук и во все времена метода построения и обоснования научного знания, следование которому гарантированно бы вело к получению объективной научной истины. Обращаясь к анализу реальной истории науки в ее различных областях, Фейерабенд убедительно показал, что понимаемого таким образом «метода науки» никогда не существовало. Это относится как к тем методам, которые предлагали различные метафизики – представители классической философии науки (умозрение, феноменологическая редукция, диалектический метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному и др.), так и к средствам научного познания, которые иногда используют реальные ученые (наблюдение, эксперимент, индукция, дедукция, аналогия, метафора, моделирование, подтверждение, фальсификация, формализация). Согласно Фейерабенду, научные задачи, проблемы, предметные области, познавательные ситуации, с которыми имеет дело наука, настолько разнообразны, что единого метода их решения просто не может существовать. И обращение к реальной истории науки подтверждает это весьма убедительно. Открытие и утверждение научной истины – это в существенной степени творческий и социальный по своей природе процесс. Хотя, разумеется, в научном познании важную роль играют разного рода частные методики. Но они, как правило, способны лишь экстенсивно продуцировать (тиражировать) уже когда-то полученный с их помощью аналогичный результат, а не порождать новое знание. Для получения последнего ученый волен использовать самые разные комбинации известных познавательных средств или вводить новые средства, надеясь получить приемлемое решение определенной научной проблемы. Успех научного развития, по Фейерабенду, как раз и состоит в максимальной пролиферации (размножении) и поощрении многообразных попыток и способов решения проблем (как по результату, так и по средствам), а также последующем выборе (отборе) научным сообществом наилучшего из предложенных решений. Поэтому, считает Фейерабенд, никакая философия науки не может претендовать на статус некоего нормативного знания по отношению к науке и познавательной деятельности ученых. Она может быть полезна для них только как систематическое описание многообразия различных примеров и событий из истории науки. Здравая философия науки может быть лишь неким поучительным резюме прошлого науки, но никак не прямым руководством к действию, оставляя каждому ученому его свободу, право на риск и надежду на успех. Соответственно, научная истина понимается Фейерабендом не как некое объективно-безличностное по своему происхождению и содержанию знание, а как знание, имеющее существенно субъектный характер. В науке всегда действуют и принимают когнитивные решения конкретные субъекты и научные сообщества, живущие в определенную историческую эпоху, а отнюдь не некие абстрактные ученые.
История науки – пробный камень для философии науки, критерий адекватности различных концепций последней. Это – один из главных принципов постпозитивистской философии науки. Наиболее полное выражение данный принцип нашел в философии науки американского историка и философа науки Т. Куна. В своей известной книге «Структура научных революций» (1970 г.) на примере анализа коперниканской революции в астрономии Т. Кун изложил свою «парадигмальную» теорию развития науки. В ней Т. Кун попытался соединить идеи прерывности и непрерывности в развитии научного знания, а также совместить идеи существования внутренних законов функционирования и развития научного знания, внутренней логики науки и ее социальной обусловленности. Основной несущей конструкцией модели науки Т. Куна явилось понятие «научная парадигма». Научная парадигма – это общепринятая дисциплинарным научным сообществом определенной области науки фундаментальная научная теория. Например, геоцентрическая, а позднее гелиоцентрическая концепция в астрономии; аристотелевская физика и сменившая ее ньютоновская механика; ламаркизм и дарвиновская теория эволюции; классическая механика и квантовая механика; классическая термодинамика и современная термодинамика отрытых систем (синергетика); рефлекторная и бихевиористская теории в физиологии и психологии; классическая политэкономия Смита – Рикардо и политэкономия Маркса и др. Парадигмальная теория задает не только общепринятое видение определенной предметной области, но и образцы, а также методику решения научных проблем, относящихся к данной области. Это так называемый нормальный период в развитии науки в целом или одной из ее областей, когда ее динамика, прирост научного знания определяются чисто внутренними факторами самой науки. Однако, как показывает реальная история науки, рано или поздно любая фундаментальная теория исчерпывает до конца свои когнитивные возможности. Это имеет место, в частности, тогда, когда открываются новые факты, которые с трудом поддаются описанию и объяснению («решение головоломок») в рамках существующей теории или вообще противоречат ей. Тогда в развитии научной дисциплины наступает «экстраординарный» период, или период «научной революции». Это – время «смуты», неопределенности в развитии науки. Но это и время востребованности глубоких теоретиков, творцов-инноваторов, которые способны выдвинуть и разработать новое видение данной предметной области, позволяющее решать непреодолимые для старой теории трудности столь же естественным и эффективным образом, как это делала сама старая теория по отношению к релевантным для нее фактам. Как правило, борьба между сторонниками старой научной парадигмы и теми, кто претендует на утверждение новой парадигмы, является довольно жесткой, нелицеприятной и поначалу бескомпромиссной. Здесь используются самые разные ресурсы из социокультурной инфраструктуры науки (общие философские идеи, научные авторитеты, властный ресурс научной элиты, идеологическая аргументация, самоутверждение нового поколения научной молодежи, деятельность средств массовой информации и научной пропаганды и т. д.). Конечно, при этом главные цели науки – точное описание и эффективное объяснение как всех имеющихся фактов, так и, особенно, предсказание новых, остаются приоритетными для всех участников экстраординарного этапа развития науки. Во всяком случае, на словах. Интегрируя все перечисленные выше социальные факторы, влияющие на исход научной борьбы во время научных революций, Т. Кун относит их к ведомству социальной психологии науки. Отказ научного сообщества (по крайней мере, его наиболее влиятельной части), от старой научной парадигмы и принятие им в качестве таковой новой теории, во многом несовместимой со старой, Кун сравнивает с обращением ученых в «новую веру». Он трактует этот переход в терминах психологии восприятия, а именно как гештальт-переключение. Т. Кун выступил оппонентом сразу двух весьма популярных среди философов и ученых XX в. моделей развития науки: 1) концепции перманентной научной революции К. Поппера с его идеями фальсификационизма и фаллибилизма; и 2) концепции кумулятивного прогресса в развитии научных дисциплин, основанной на принятии принципа соответствия между содержанием новой и старой теорий. Т. Кун подверг резкой критике обе эти модели и заявил о себе как о создателе новой парадигмы в философии науки. Его идеи до сих пор пользуются широкой известностью и признанием как среди зарубежных, так и среди отечественных ученых и философов. Однако необходимо признать, что в концепции Т. Куна имеются два серьезных изъяна: 1) отрицание наличия некоторого общего содержания у старой и новой парадигмы; и 2) истолкование процесса принятия научным сообществом новой парадигмы как чисто социально-психологического процесса, как простого гештальт-переключения. Оба эти допущения слишком наивны и прямолинейны, чтобы быть истинными.
Гораздо дальше Т. Куна в признании фундаментальной роли фактора научного сообщества в утверждении научной истины, а также значения социально-психологического механизма в развитии науки пошли представители когнитивной социологии науки.

