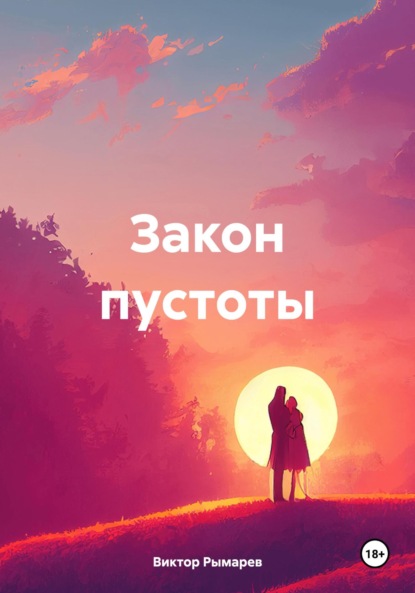
Полная версия:
Закон пустоты
– Что за сон? Ты его помнишь?
– Ещё как помню. Словно я парю высоко-высоко над землёй, а внизу среди ярко-синего моря отчётливо виден огромный зелёный остров, крест-накрест пересечённый двумя прямыми синими линиями. Но вот я постепенно снижаюсь, и остров становится всё ближе и больше, пока его края совсем не исчезают за горизонтом. Прямые синие линии оказываются широкими полноводными реками, текущими среди густых лиственных лесов. Деревья в том лесу мне незнакомы. Почти все они отягощены какими-то диковинными плодами. Должно быть очень вкусными. Уж очень аппетитно они выглядели.
А вот какой-то город. Он весь застроен красивыми деревянными домами. Дома резные, все разукрашены узорными наличниками. Совсем такие, какими рисуют их художники, когда иллюстрируют книги, повествующие о русской истории. На просторной площади группа людей ведёт хоровод.
Там парни и девушки. Все как на подбор. Высокие, стройные русоволосые, с голубыми, либо синими глазами. На них длинные светлые рубахи, расшитые каким-то странным орнаментом.
Откуда-то доносится негромкая мелодичная музыка. Люди в хороводе поют какую-то песню. Жаль, слова в ней непонятные. Вроде и похожи на наши, но какие-то древние. У парней и девушек весёлые счастливые лица.
В центре хоровода, на деревянном помосте стоит кресло. Оно блестит и сверкает в лучах яркого солнца. Должно быть, кресло сделано из чистого золота. И не кресло это, а трон.
На троне сидит человек. На нём точно такая же расшитая рубаха. Только на голове этого человека – массивная золотая корона. Очень тяжёлая. Судя по тому, как напряжено его лицо.
Я вглядываюсь в лицо царя (а кем он ещё может быть?) и узнаю в нём себя. Точно такой, каким вижу себя в зеркале. Только с золотой царской короной на голове.
Но вот царь, то есть я встаю, поднимаю вверх правую руку…
На этом сон обрывается.
Сергей замолчал и виновато, словно извиняясь за дурацкий сон, посмотрел на жену. Ольга тоже молчала, внимательно разглядывая мужа, будто видела его впервые.
– Ты хочешь сказать, – медленно, тщательно подбирая слова, заговорила она, – что… это в твоём сне… корона натёрла тебе голову?
– Не знаю! – истерично выкрикнул Сергей. – Я ничего не понимаю. Вообще. Ничего. Знаю лишь, что у меня кошмарно болит голова. – Сергей осторожно дотронулся до головы. – Вру! – удивлённо сказал он. – У меня ничего не болит. – Он провёл рукой вокруг головы. – Как новенькая! Странно. Только что буквально раскалывалась на части и вдруг…. Посмотри, у меня есть чего на голове?
– Ничего нет, – сказала Ольга, осмотрев склонённую голову мужа. – Только что был широченный рубец и начисто исчез!
– А я что говорю?
– Хорошо. Пусть ты вообразил себя царём. Но какого царства?
– Понятия не имею. Единственное, в чём я уверен, мой сон как-то связан с проклятыми посланиями.
– Это может быть Британия?
– Нет.
– Ирландия?
– Нет.
– Гренландия?
– Нет.
– Исландия?
– Я же говорю: нет. Это обычные острова. А там всё другое. Совершенно незнакомые деревья.
– Судя по твоему описанию, – Ольга задумалась, – это может быть, может быть… Гиперборея.
– Какая ещё Гиперборея?
– Денисов, какой ты тёмный, невежественный и абсолютно некультурный человек! Мне стыдно за тебя. А ещё больше мне стыдно за себя. За кого я вышла замуж? На кого бессмысленно трачу свои лучшие годы? На человека, который даже не знает того, в чём прекрасно разбираются нынешние первоклассники. Гиперборея, иначе Арктида – это наша с тобой прародина. Существовала она очень давно. В районе Белого моря.
– Но я видел огромный зелёный остров. Такого не может быть в Белом море.
– Правильно. Нет. Сейчас. Но это вовсе не значит, что его там не было. Он был, пока не сместилась земная ось, не произошёл всемирный потоп, и остров не затонул в океане.
– А куда делись люди? Наши предки, как ты говоришь.
– Они переселились на юг. Кстати, Гиперборея поддерживала тесную связь с Элладой. Пифагор,.. надеюсь, ты хотя бы слышал это имя?
– Не такой я и тёмный, как бы тебе хотелось. Пифагоровы штаны?
– Не только штаны. Его можно назвать основателем современной информатики. Так вот, Пифагор – гипербореец. И Платон – гипербореец.
– Это который выдумал идеализм?
– Выдумал! Нет, я сейчас точно сгорю от немыслимого стыда. Провалюсь сквозь землю-матушку.
– Сквозь пол. Прямо к маме с папой. А, кстати, твои бесценные родители так же хорошо разбираются в этих Гипербореях?
– Увы. Они такие же тёмные, как и ваше царское величество. И это заставляет меня мириться с твоей неотёсанностью. Но – временно! Ибо, Денисов, мой внутренний голос, а он никогда не ошибается, кроме одного единственного раза, когда он посоветовал мне сказать «да» тёмному невежественному троглодиту, только что вылезшему из сырой некомфортабельной пещеры…
– Ах, вот как…
– Денисов, не перебивай женщину. Или тебя не учили основам вежливости?
– Слушаюсь и повинуюсь.
– Так вот, мой внутренний голос кричит, вопит, ревёт, просто надрывается, что тебе надо срочно заняться историческим самообразованием. Под моим чутким руководством.
– Я и сам это понимаю.
– Вот и прекрасно. Я сегодня же подготовлю тебе нужный материал. Чтобы вашему величеству не плестись, спотыкаясь и падая, по необозримым просторам интернета. Ой, а ты не опоздаешь на работу?
– Опоздаю, – мрачно подтвердил Сергей, глянув на часы. – Завтрак точно отменяется.
– Ну, нет! Чёрт с ней, с твоей работой! Здоровье важнее. Хоть чайку попей. Скажешь, звонил президенту.
– Зачем? Пожелать ему доброго утра?
– Рассказать про удивительный сон. Про всё, что с ним связано.
– Он что, Мартын Задека? Толкователь снов?
– Задека или не Задека, но сон странный. Особенно его последствия…
х х х
Всю дорогу Сергей размышлял о странном сне. С чего вдруг такая мания величия да ещё в столь сказочной форме? Сергей никогда не интересовался древнерусской историей. И вообще историей. Сказки считал именно сказками. Выдумками. Не более того.
И вдруг. Ни с того, ни с сего. Он, видите ли, царь, да ещё в какой-то сказочной стране. Бред собачий.
А если это как-то связано с происходящими событиями? Но как именно?
Ведь у него реально болела голова. Ещё как болела. И след от короны оставался.
Сергей машинально потёр ладонью лоб. Чисто.
Нет. Пора кончать с самокопанием. Ни к чему хорошему это не приведёт. Как сказал дядюшка Дональд в своём первом послании: «Невозможно постигнуть непостижимое». Кажется так. Или что-то в этом роде.
Сергей тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли, и сосредоточился на дороге…
В следственном комитете Сергея никто не искал. Даже обидно. Впервые опоздал на работу, и никто его не ругает, не топает ногами, не грозится уволить, выгнать на улицу с волчьим билетом. Он попробовал зайти к шефу, чтобы повиниться, но Людочка приложила розовый пальчик к алым пухлым губкам и отрицательно замахала руками.
– Анюков, – прошептала Людочка.– И прокурор, – покраснев, добавила она.
– Давно? – так же шёпотом поинтересовался Сергей.
– С самого утра.
Ну и ладно. Сергей прошёл в свой кабинет и включил компьютер. Там его ждал сюрприз. Внеплановое послание Хилари Клинтон. Опять огромное. Сергей вздохнул и погрузился в чтение:
«Первое земское ополчение рязанского воеводы Прокопия Ляпунова, созданное для освобождения Москвы от иноземцев, своей задачи не выполнило. Оно подступило к столице с опозданием, когда антипольское восстание москвичей (одним из его руководителей был князь Дмитрий Пожарский) в марте 1611 г. потерпело неудачу, а большая часть города была сожжена. Ополченцы блокировали город, но разногласия между казаками и служивым дворянством привели к гибели Ляпунова. Ополчение разошлось по домам, под Москвой остались только казаки во главе с атаманом Иваном Заруцким и князем Дмитрием Трубецким.
В таких условиях знамя освободительной борьбы взял на себя Нижний Новгород. В ответ на грамоты находившегося в заточении у поляков патриарха Гермогена нижегородский земский староста Кузьма Минин из числа «молодчих торговых людей» (мелких торговцев) в октябре 1611 г. в Спасо-Преображенском соборе обратился к горожанам с призывом создать новое народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками:
«Мужие, братие, вы видите и ощущаете, в какой великой беде все государство ныне находится, и какой страх впредь, что легко можем в вечное рабство поляков, шведов или жидов впасть, через которое не токмо имения, но и живота многие уже лишились и впредь наипаче все обстоятельства к тому.
А причина тому не иная, как от великой зависти и безумия, в начале между главными государственными управлениями, произшедшая злоба и ненависть, которые, забыв страх Божий, верность к Отечеству и свою честь, и славу предков своих, един другого гоня, неприятелей Отечества в помощь призвали, чужестранных государей.
Иные же различных воров, холопей и всяких бездельников, царями и царевичами имяновав, яко государям крест целуют. А может, кто еще турецкого или жидовского для своей токмо малой и скверной пользы избрать похочет? Которые, вошедши уже в Москву и другие грады, с обе стороны побрали казну так великую, чрез многие годы разными государями собранную, растащили.
Однако же ослабевать и унывать не надобно, но призвав на помощь всещедрого Бога, свой ревностный труд прилагать и согласясь единодушно, оставляя свои прихоти, своего и наследников своих избавления искать, не щадя имения и живота своего.
Правда, может кто сказать: что мы можем сделать, не имея ни денег, ни войска, ни воеводы способного? Но я мое намерение скажу. Мое имение, все, что есть, без остатка, готов я отдать в пользу и сверх того заложа дом мой, жену и детей, готов все отдать в пользу и услугу Отечеству, и готов лучше со всею моей семьею в крайней бедности умереть, нежели видеть Отечество в поругании и от врагов в обладании.
И ежели мы все равное намерение возъимем, то мы денего, по крайней мере, к началу, довольно иметь можем, а затем, видя такую нашу к Отечеству верность, другие от ревности или за стыд и страх помогать будут. И, ежели сие так исполните, то я вас уверяю, что мы с помощью всемогущего Бога можем легко большую, паче всех богатств, спокойность совести и безмерную славу себе и своих наследников присовокупить, врагов погубить и невинно проливающих кровь нашу захватчиков усмирить».
Своё вдохновение он черпал из видений, в которых к нему явился Сергий Радонежский и сообщил: «…старейшие в таковое дело не внидут, наипаче юнии начнут творити». Впоследствии именно эти видения, а также и то, что Дмитрий Пожарский в крещении был наречен Кузьмой, помогли Минину добиться от Пожарского согласия возглавить ополчение.
Ратникам установили хорошее содержание – от 30 до 50 рублей в год. На 30 рублей в то время можно было купить 30 бычков, или 150 овец, или 300-400 пудов муки, одним словом, если не сложишь голову на поле брани, – жить припеваючи.
На тот момент в нижегородском гарнизоне было всего 750 человек. После того как позвали арзамасцев, смолян, вязьмичей и догобуржцев, рать возросла до трех тысяч человек. К моменту похода на Москву войско составляло, по разным подсчетам, от пяти до десяти тысяч. Если умножить на 30-50 рублей, получалась колоссальная цифра. Но где её было взять?
Для того, чтобы убедить нижегородцев в искренности своих помыслов, Минин первый принес в казну своё имение, украшения супруги, а также серебряные и золотые оклады со своих икон. Известна также история про вдову, принесшую 10 тысяч в казне из своего баснословного по тем временам состояния в 12 тысяч. Однако одних добровольных пожертвований было для собрания войска мало, и Минин прекрасно это понимал. Он воспользовался тем эффектом, который произвёл, и призвал нижегородцев принять приговор (закон, постановление), согласно которому все жители города и уезда «на строение ратных людей» давали в обязательном порядке часть своего имущества. И только он был подписан, тот же час увёз его Дмитрию Пожарскому, чтобы нижегородцы не забрали обратно.
Услышали в Нижнем Новгороде призывы своего старосты. Люди поспешно стали собирать деньги на создание ополчения. Размер налога на эти цели составил пятую часть всего имущества каждого горожанина. Собранные деньги должны были пойти на раздачу жалованья служилым людям.
В нижегородское ополчение добровольцами вступали крестьяне, посадские люди и дворяне. Минин ввёл новый порядок в организации ополчения: ополченцам выдавалось жалованье, которое не было равным. В зависимости от военной подготовки и боевых заслуг ополченцы были поверстаны (разделены) на четыре оклада. Поверстанные по первому окладу получали в год 50 рублей, по второму —45, по третьему – 40, по четвёртому – 35 рублей. Денежное жалованье для всех ополченцев, независимо от того, дворянин ли он посадский или крестьянин, делало всех формально равными. Не знатность происхождения, а умение, ратные способности, преданность Русской земле были теми качествами, по которым Минин оценивал человека.
С полного согласия всех жителей и городских властей Нижнего Новгорода по инициативе Минина был создан «Совет всея земли», ставший по своему характеру временным правительством Русского государства. В его состав вошли лучшие люди поволжских городов и некоторые представители местных властей. С помощью «Совета» Минин вёл набор ратников в ополчение, решал другие вопросы. Нижегородцы единодушно облекли его званием «выборный человек всею землею».
Минин проявил при сборе средств большую твёрдость и решимость. От сборщиков налога на ополчение Минин требовал богатым поблажек не делать, а бедных несправедливо не утеснять. Несмотря на поголовное обложение нижегородцев, денег на обеспечение ополченцев всем необходимым всё равно не хватало. Пришлось прибегнуть к принудительному займу и у жителей других городов. Обложению подлежали приказчики богатейших купцов Строгановых, купцы из Москвы, Ярославля и других городов, связанных торговыми делами с Нижним Новгородом. Создавая ополчение, его руководители начали показывать свою силу и власть далеко за пределами Нижегородского уезда. Были посланы грамоты в Ярославль, Вологду, Казань в другие города. В грамоте, разосланной от имени нижегородского ополчения к жителям других городов, говорилось: «Изо всех городов Московского государства дворяне и дети боярские под Москвою были, польских и литовских людей осадили крепкою осадою, но потом дворяне и дети боярские из-под Москвы разъехались для временной сладости, для грабежей и похищения. Но теперь мы, Нижнего Новгорода всякие люди, сославшись с Казанью и со всеми городами понизовыми и поволжскими, собравшись со многими ратными людьми, видя Московскому государству конечное разорение, прося у бога милости, идем все головами своими на помощь Московскому государству. Да к нам же приехали в Нижний из Арзамаса, смоляне, дорогобужане и ветчане… и мы, всякие люди Нижнего Новгорода, посоветовавшись между собою, приговорили: животы свои и домы с ними разделить, жалованье и подмогу дать и послати их на помощь Московскому государству».
Тем не менее, денег не хватало.
Так на какие деньги содержалось немалое по тем временам ополчение?
«Наполеон вошёл в Москву 2 сентября. После ужасного сражения у села Бородино. Русские войска, успешно отразив все атаки французов, сохранив резервы и имея в своём распоряжении прекрасные позиции и крепкие тылы, неожиданно отошли. И не просто отошли, а отдали врагу на поругание самый большой город страны. Её исторический центр. Который император Александр I во всеуслышание провозгласил «главою прочих городов российских», как только Наполеон пересёк границу. Чтобы тот не ошибся с направлением главного удара, наверное.
За сутки до позорной сдачи «главы всех прочих городов» Главнокомандующий всеми русскими армиями и ополчениями Светлейший князь Смоленский, намедни высочайшим указом произведённый в генерал-фельдмаршалы Российской империи и получивший сто тысяч рублей на расходы, провёл печально известный военный совет в Филях. И настоял на оставлении Москвы. Несмотря на яростное сопротивление некоторых своих генералов. Молодых и глупых. Оборвал все вопли и приказал отступать. Хотя ещё вчера, в приказе от 31 августа, клялся дать супостату новое решительное сражение под стенами Москвы.
При отступлении в Москве было брошено более тридцати тысяч раненых и огромное количество оружия (сто пятьдесят шесть орудий и двадцать семь тысяч ядер, семьдесят пять тысяч ружей и сорок тысяч сабель, шестьсот знамён и тысяча штандартов).
Это решение фельдмаршала до сих пор не нашло однозначного толкования. Кто-то его оправдывает. Исходя из конечного результата. Кто-то считает предателем. Почему же Наполеон, прославившийся своей решительностью, сидел на Поклонной горе и ждал неизвестно чего? Не решаясь войти в Москву. Хотя уже знал, что она пуста. И никто не собирается устраивать в ней уличные бои. Несмотря на старинную русскую привычку драться за каждый дом. Как это было в Смоленске. И многих других местах.
А, может быть, он, наконец, почуял ловушку? Может быть, что-то подсказывало ему, что такие опытные военачальники, как Кутузов, которого он хорошо знал по предыдущим войнам, просто так не сдают исторические центры своей Родины. Особенно, прикрытые хорошо укреплёнными позициями. Обеспеченные крепкими тылами. А также резервами.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



