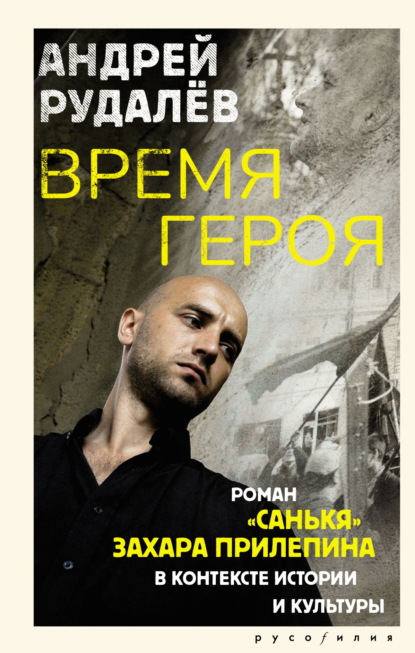
Полная версия:
Время героя. Роман «Санькя» Захара Прилепина в контексте истории и культуры

Андрей Рудалёв
Время героя. Роман «Санькя» Захара Прилепина в контексте истории и культуры
Серия
«Русофилия»

© Андрей Рудалёв, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Предощущение времени
Огромная проблема – писать о современности. Если, конечно, речь идёт не о мгновенной публицистической реакции, когда можно развернуть конкретную мысль, эмоцию.
Особенно сложно, если современность долгое время воспринималась через призму ошибки, катастрофичности. Представлялась в качестве безвременья, промежутка. Как чего-то неоформленного, растерянного и заблудившегося. Так создавался её стереотипный образ. Пустотный.
Извечный отечественный нигилизм. Особенно агрессивно он проявляется по отношению к настоящему, к тому, что творится здесь и сейчас. Самоуничижение и самоумаление, недооценка – современность воспринимается в качестве разрастающейся пустыни. Особенно в сопоставлении с предшествующим советским периодом. Современность будто убегает из истории.
Но параллельно с этим стереотипным шаблонным нигилистическим восприятием нарастала твёрдая уверенность в возвращении большой истории, рифмы с которой звучат постоянно. Уверенность в принципиальной важности и рубежности настоящего момента для всего тысячелетнего пути отечественной цивилизации. Не случайно в 2024 году, выступая на параде Победы, президент Владимир Путин заявил, что «Россия сейчас переживает сложный, рубежный период» и при этом «судьба Родины, её будущее зависит от каждого из нас».
Всё чаще возникало такое понятие, как «эпос», которое будто пробивалось через асфальт безвременья. Само время, в противовес перестроечной эпохе распада и постперестроечного хаоса и смуты, всё больше обретало черты эпического.
Я пытался вести разговор о советской перестройке через главные книги того времени. В основном – публицистические.
«Перестройка и новое мышление» Михаила Горбачёва или «Исповедь на заданную тему», которую надиктовал своему будущему зятю, а тогда молодому журналисту Валентину Юмашеву, Борис Ельцин, оказались не только историческим источником, но и человеческим свидетельством для понимания мировоззрения людей и движущих сил того времени. Через них, приобретая временную дистанцию, можно отлично понять события, общую причинно-следственную связь, а также мотивацию главных действующих лиц.
Было любопытно посмотреть, как этот важнейший период отечественной истории осмысляется и в художественных произведениях. В них были и предчувствия чего-то грандиозного и фатального, а также попытки понять произошедшее, пока не в полной мере реализованные.
Осмыслить эпоху через текст – распространённый приём. Книга – губка, квинтэссенция времени. Автор воспринимает время в качестве большого текстового полотна и пытается считать с него знаковые сюжеты, образы, символы, вписывая в большую историю.
Вот, к примеру, питерский прозаик Сергей Носов в книге «Фирс Фортинбрас» попытался дать наброски к образу девяностых.
В его романе становление нового мира происходило, как съёмки сериала. С колёс, спорадически, непредсказуемо, когда всё меняется в процессе. Сегодня совершенно не представляешь, что будет завтра, а сценарий следующих серий пишется по ходу съёмок.
Тот мир возникал в соединении несоединимого. Из хаоса и сора. Конструкция же прежнего мира превратилась в осколки или подобие блошиного рынка, где на продажу было выставлено буквально всё.
Мир возникал на ощупь, совершенно не уверенный в своей необходимости и востребованности. Параллельно с ним шла бесконечность «Санта-Барбары», замещение жизни и страстей в мексиканском сериале «Богатые тоже плачут». Ещё совсем недавно общество магнетизировали трансляции съездов и речей перестроечных говорунов, сулящих скорое благоденствие или попросту толкущих воду в ступе демагогии. Затем ощущение праздника создавал показ телевизионного «мыла», дающий переживания иной реальности, многим лучшей, чем повсеместная безнадёга. Уже не о своём счастье переживали, а о том, что ждёт Марианну и Луиса Альберто. Здесь, по эту сторону экрана, уже ничего, что можно соотнести со счастьем, не предвидится, свести концы с концами – и то ладно. Успеть к просмотру, чтобы отключиться от своего «не живём, а существуем» хотя бы на время очередной серии, которую можно многократно обсудить, продлевая иллюзию.
Зачем создавать своё, когда есть чужое. Своё – дорого и рискованно. Это ведь тоже стереотип тех лет, который пролонгировал себя, и чуть ли не до наших дней.
Такова была рулетка девяностых. Наверное, пройдёт еще немного времени, и те годы окончательно станут мифом, в который никто не станет верить. Уж слишком та мистагогия отличалась от критериев нормальности. Как-то принять её и уместить в голове можно только через новые «12 стульев» и «Золотого телёнка».
В книге Носова случайный, эпизодический персонаж – продавец ворованной колбасы, делающий свой поквартирный обход для её сбыта, вдруг вынырнувший из ниоткуда, становится чуть ли не главным. Его единственного выделяют, когда всё остальное бракуют. Такой герой времени. Один из. «Мир сотрясается, рушатся семьи, всё неопределённо и зыбко и только ты со своей колбасой появляешься и проходишь. И взираешь на всё с высоты своего роста». Чеховский Фирс становится шекспировским Фортинбрасом. Всё потому, что является посредником-обладателем ворованного символа, ради которого и были устроены перемены. Героизм, идеология, высшие ценности – всё отринуто как эфемерное и ложное и замещено колбасой – наполнителем желудков.
То время прекрасно отсвечивает через, казалось бы, незначительные образы вещного мира. Взять тефлоновые сковородки. «Просто все были чокнуты на этом тефлоне». Лучшим подарком на день рождения считалась тефлоновая, на помойку отправилась «советская неповторимо чугунная». Хоть покрытие у новой постепенно стиралось, хоть и не оправдывались в полной мере ожидания – всё равно подгорало, – но разоблачения и разочарования не происходило. Все несоответствия ретушировались и оправдывались. А после узнали «в чём вред этих покрытий. Сковородки-убийцы».
Впрочем, не в сковородке дело, а в том, что «она – вместо другого», заместила, отправила на помойку. Даже через подобный предмет кухонной утвари можно вполне себе представить время. Через спирт «Роял» и водку «Распутин», малиновые пиджаки и шоколадные батончики, обещающие райское наслаждение. Примет не перечесть.
Замещение не только в быту – в политике, сфере идеологии, в культуре. Да, главные события «культурной» жизни тех лет – трансляции диковатого иноземного «мыла», собирающие разобщённое и дефрагментированное общество у телеэкранов. В отечественной же культурной сфере – писание по прописям или реформаторство. Притом что культурные реформаторы не знают предмета реформирования и оторваны от почвы: «Истинный драматург мнит себя реформатором театра. Он и в театр не ходит. Спектаклей не смотрит. Пьес не читает. Я понимаю, кроме своих». Для них главное – утверждение, что отечественная традиция себя дискредитировала, поэтому должна быть отменена или переписана.
Опять же, в соединении двух, казалось бы, несоединимых героев, Фирса и Фортинбраса, также заключена квинтэссенция того времени. Старый, забытый, уходящая натура, хотя в реальности – молодой и высокий. Мечтающий о роли Фортинбраса. Об иллюзии. Тот наследный принц пришёл, когда в финале трагедии образовалась гора трупов, и предъявил свои права…
Советский Союз не только наш Древний Рим, но и «Вишневый сад». А люди метались между мечтами о роли Фортинбраса и реальностью, которая делала Фирсами очень многих.
Но как вычленить тот символ, ту тефлоновую сковородку, становящуюся реальностью? Как не заблудиться в чаще ложных аналогий?
Ещё в своей книге «Грачи улетели» Сергей Носов постоянно подталкивает к мысли о том, что в России актуальное искусство реализуется через саму жизнь – это, собственно, её новейшая история. Главное относиться к любому явлению как к искусству, как к творимому художественному акту. Всё дело в восприятии. Такой вот гигантский иллюзион, в котором мы все живём.
Летом 2022 года в Архангельске в самом центре парка, где проходил книжный фестиваль, оказалась троица: я, Носов и другой прекрасный писатель – Павел Крусанов. Остатки традиционного коммуникативного посредника были разлиты по стаканчикам, такой же традиционный пирожок – один на троих. По левую руку – полицейский, надзирающий за порядком. По правую – какая-то женщина, пишущая мелом на асфальте «Нет войне!» и быстро уходящая дёргающейся походкой. Вокруг бурлила жизнь. Разная и противоречивая.
* * *Ещё одно важное стартовое замечание. В начале восьмидесятых годов в статье «Блеск и нищета русской литературы» Сергей Довлатов писал, что с западной точки зрения русская литература «литературой не является». От литературы в России всегда были сверхожидания. Ей приписывали пророческий статус; писатель должен быть непременно властителем умов. Литература – сфера титанов духа, которые преображают реальность. Не зря Варлам Шаламов ставил в вину литературе 19-го века все катаклизмы, которые произошли со страной в 20-м веке. Такова логика литературоцентричной цивилизации.
Ровно об этом, правда по другому поводу, ранее писал и Николай Бердяев, рассуждавший о том, что русская литература 19-го века не была культурой в западном понимании и всегда «переходила за пределы культуры». Русские писатели стремились к «совершенной, преображённой жизни».
По словам Довлатова, к писателям в Советском Союзе относятся так же, как к кинозвёздам и спортсменам в Штатах (можно сравнить с писательским положением в Америке «чуть ниже акробатов и чуть выше тюленей» в трактовке Стейнбека). Особый пиетет к тексту и слову на отечественной почве имеет тысячелетнюю историю. В советский период литератор приобрел ещё сановный статус и воспринимался в качестве государственного мужа. Собственно, это было в чём-то схожим с синодальным периодом в Церкви.
Отечественная литература генетически связана с древнерусской книжностью, которая, по преимуществу, имела церковный характер. В 20-м веке место религиозных стандартов заняли идеологические, литература была под гиперопекой государства, что имело как свои плюсы, так и известные минусы.
Так вот, всё это вместе взятое, полагал Сергей Довлатов, привело к тому, что «литература постепенно присваивала себе функции, вовсе для неё не характерные». Она становилась и религией, и философией, и эстетикой, в ней искали национальную идею. К этому её, по мнению литератора, подталкивала и литературная критика, которая эстетическую сторону текста уводила на второй план, а на первый ставила общественно-политическое звучание и соответствующую проблематику. Белинский наговорил и сориентировал на столетия вперёд.
Но дело тут не в сверхамбициях литератора или идейной заряженности критика, само отношение к слову в отечественной культуре принципиально иное, нежели на Западе. Оно всегда воспринималось сакральным, особым знаком, за которым высвечиваются громадные символические пласты.
В этом проявляются традиции православной экзегезы, которая рассматривала священные тексты с точки зрения трёх уровней: исторического, аллегорического и метафизического.
В отечественной традиции текст воспринимается медиатором на пути познания иной реальности. Отсюда и восприятие его с провиденциальной точки зрения.
Настоящая книга может рассказать о многом. Её явление в мир несёт в себе особый смысл, который также необходимо расшифровать. Павел Флоренский считал, что творчество затрагивает границу миров и направлено, в первую очередь, на раскрытие смысловой стороны явлений.
В этом нет никакой схоластики, наоборот, речь идёт о живом восприятии текста, который развёртывается и актуализируется в мире. Является не только отражением его, но и начинает на него влиять, как особая энергия, противостоящая любой детерминированности истории.
Есть убеждение, что появление той или иной книги закономерно и предобусловлено. Существует предшествующий ей эйдос.
Также речь идёт не просто об отражении действительности. Книга, приходя в мир, создает особую энергию, которая в том числе и влияет на происходящие процессы. Она как зерно, из которого в дальнейшем развивается и развёртывается наша реальность, через которое комментируется и расшифровывается.
«Словом преобразуется жизнь, и словом же жизнь усвояется духу» – опять же из Павла Флоренского. Он полагал, что художественное творчество является разновидностью «памяти будущего». Это своего рода «обратная перспектива» иконописи, когда Первообраз как будто входит в наш мир через посредство символического начертания-припоминания в образе.
«Наступление будущего показывает, что мы его “вспомнили”, что мы его узнали», – писал Флоренский.
Вот и получается, что художественное произведение производит особую связь времён, соединяя в одно целое, когда нет разделения на прошлое-настоящее-будущее, а все процессы представлены в своей полноте и запечатлены в образе.
* * *В книге Эдуарда Лимонова «Анатомия героя» есть напутствие авторам газеты «Лимонка»: «Из официальных газет ничего не почерпнёшь, там всё о президенте, Черномырдине, Чубайсе, Алле Пугачёвой. А нам надо дать читателю реальный облик России. Кто же, как не мы, сделает это…».
Любопытно упоминание в этом ряду главных действующих лиц девяностых. Алла Пугачёва стала символом постсоветской массовой культуры и тогда была реальной властью, наряду с тем же Анатолием Чубайсом, который после начала спецоперации на Украине также уехал за пределы России.
Пугачёва – символизирует бесконечный культурный маскарад в перьях и блёстках. Чубайс – экономический.
Но не это главное, важен акцент на «реальном облике России». Отношение к тексту как к свидетельству о реальности.
Тут достаточно сложная история. Одно дело – прилизать и поставить неудобное за скобки, как у причислявших себя к победителям и стремящихся не омрачать завоевания молодой демократии. Показывать извечную русскую хтонь, которая становилась определённым оправданием происходящего и на которую можно свалить все свои неудачи.
С другой стороны, традиционный подход также не справлялся с задачей вскрыть реальность и показать перспективы её развития. К примеру, не совсем удавалось это Валентину Распутину, Василию Белову, Юрию Бондареву. Постарели, стали несовременны, были шокированы реальностью, задвинуты на маргинальную периферию? Хотя, возможно, причина лишь в том, что не нашли нужного ключа, не расшифровали код той самой «памяти будущего», не могли справиться с личным отторжением от всего происходящего. Тогда как у того же Эдуарда Лимонова, Александра Проханова получалось. Они вступали в диалог и спор с новой реальностью, являлись бойцами на передовой и не воспринимались в качестве анахронизмов.
Собственно, с того призыва к авторам «Лимонки» и начался «новый реализм» в литературе. В начале нулевых годов ряд молодых авторов, только ещё входящих в литературу, обратился к осмыслению происходящего здесь и сейчас. Они ухватили и советский период, и перестройку, но не были догматизированы. Не являлись бенефициарами новых реалий, не стремились заискивать перед ними, подыгрывать им.
Последнее советское поколение, последние комсомольцы, пионеры. Несущие знание об иной, альтернативной нынешней реальности, что позволяет сравнить, сопоставить.
Об этой поколенческой и мировоззренческой смене в своё время достаточно точно высказался Сергей Шаргунов, отмечавший, что постмодернисты девяностых «нараставшую постсоветскую явь воспринимали вчуже, это для них стало поводом для ядовитого смеха, и вместо человека зиял чёрный провал». Затем пришло другое поколение с новым взглядом и отношением, когда «вдруг оказалось, что вокруг – реальность, в которой можно жить, где есть свои драмы, психологические отношения. И тогда появляются новые люди, способные описать это. Они увидели присутствие света».
«Новые реалисты» пытались осмыслить постсоветскую реальность, понять логику произошедшего, собрать образ настоящего, в котором бы отсвечивала преемственность большого цивилизационного пути, и в то же время старались выявить и изобличить то уродливое, что не только стреножит Россию, но и превращает её в атавизм и ошибку.
Тогда к «новым реалистам» причисляли и Захара Прилепина, который как раз ещё в конце девяностых и начинал в качестве автора газеты «Лимонка». В поколение мы собрались в начале нулевых. В подмосковном пансионате «Липки» проходил ежегодный Форум молодых писателей. Каждый год там собирали по 150 авторов со всех регионов страны. Их пытались форматировать в либерально-прогрессивном ключе. Тогда это был главенствующий мейнстрим, слово «патриотизм» не произносилось в приличном обществе. Всю российскую науку, культуру, образование окормлял фонд Сороса. Погоду делала «Открытая Россия» Ходорковского. Но параллельно этому возникала и антитеза. Современное отечественное сопротивление.
Захар Прилепин очень быстро выделился. Объяснений этому много, но, в первую очередь, из-за того, что он сразу поставил себя в контекст отечественной культуры и этого контекста придерживался, и очень скоро мы все оказались внутри его книг. А сам Захар вырос в главного писателя современности.
В своё время много говорили и судачили, жонглируя вопросом: «где наши новые Толстые и Достоевские?», пытаясь доказать, что никто и близко не дотягивает. Теперь же совершенно очевидно, что книги Захара Прилепина будут символизировать наше время, как и шедевры отечественных классиков – своё.
Впрочем, это дело не столько почётное, сколько ответственное. Захар Прилепин стал фиксатором регенерации отечественной цивилизации после разлома и хаоса.
Закон «социальной регенерации» в свое время сформулировал отечественный мыслитель Александр Зиновьев. Основной тезис: Россия вернётся к чему-то схожему с советской системой, которая, по сути, наследовала и развила дореволюционную традицию.
Зиновьев говорил о едином историческом пути страны. Он либо продолжается, либо начинается беспутье: «если социальная система разрушена, но сохранился тот же человеческий материал и геополитические условия его существования, то новая система создаётся во многих отношениях близкой к разрушенной. И какие бы ни были умонастроения у созидателей новой российской системы – всё равно они делают нечто, близкое к советской системе».
Прилепинское эссе «К нам едет Пересвет» разве не об этом? Разве не о преодолении разорванности и возвращении большой тысячелетней истории?
Символично, что сборник его рассказов «Грех» стал главной книгой первого десятилетия нового века. В 2011 году Прилепин получил премию «Супернацбест», тогда за него проголосовали такие разные люди, как Эдуард Лимонов, Ирина Хакамада и прозаик Леонид Юзефович.
Награждение происходило в бывшей гостинице «Украина», что напротив Белого дома. С момента распада СССР прошло двадцать лет. Да и бывшая «Украина» звучит достаточно провиденциально. Для пущей рифмовки можно сказать, что та премия в какой-то мере (пусть и символической) выписала Захару путёвку на Донбасс, а затем – на СВО. Тогда же мы небольшой, но шумной компанией были вместе до полуночи, то есть до поезда на Нижний. Лимонов выделил ему своих охранников – всё-таки сто тысяч долларов, публично вручённые – кирпичиком, обтянутым полиэтиленом. Роман Сенчин периодически скандировал: «Наше имя Эдуард Лимонов». На перроне облили кого-то случайного шампанским. Было радостно и торжественно от понимания того, что настало время нашего поколения в литературе.
Почётным председателем премии состоял Аркадий Дворкович – на тот момент помощник президента. В голосовании не участвовал, скорее, выполнял функцию свадебного генерала. В 2022 году он в интервью американскому журналу раскритиковал СВО, после чего выпал из информационного поля. Его имя связано с периодом, когда либералы практически абсолютно доминировали во власти.
Критик же Павел Басинский называл книгой десятилетия прилепинский роман «Санькя». Премиями эта книга была обойдена. Ни «Нацбест», ни «Букера» не получила. Только «Ясную поляну» за 2007 год с формулировкой «за выдающееся произведение современной литературы».
Это был роман-потрясение. Само название воспринималось за нарочитую ошибку, вызов. Аннотация к первому изданию книги, которое вышло в 2006 году, завершалась словами: «мы присутствуем при рождении нового оригинального писателя». Вроде бы ни к чему не обязывающая фраза, таких «путёвок в жизнь» выписывают очень много, но на этот раз попавшая в точку.
Если с дебютным романом «Патологии» Захар Прилепин ещё примерялся и пристреливался, определял в литературе своё место, то после «Саньки» уже всё стало понятно. Пришёл всерьёз и надолго и будет вести себя в литературе по-хозяйски, имея на это все основания.
«Санькя» – роман-пробуждение. Выход из русской зимы и мерзлоты, которая в девяностые, казалось, будет вечной, как страшный и стыдный сон. Да и в нулевые ничто не предвещало изменений выбранного курса, а уж тем более той самой цивилизационной регенерации. Это книга-призыв к упорядочиванию реальности, которая возникла в стране из хаоса девяностых. Странная, несуразная, часто отталкивающая и тошнотворная, бесприютная и блуждающая. Страна должна была очнуться, чтобы вспомнить свои цивилизационные корни.
И вот эта летаргия прервалась, и люди услышали понятные и простые вещи, в которых звучала родная интонация. Тогда стало понятно, что из России пришёл близкий человек, и он здесь местный, он – брат.
Братство – глубочайшая укоренённость и растворённость в истории и культуре отечественной цивилизации, трансляция её духа и музыки, исходящей не из мыслительных формул, а из самой человеческой сути, – как дыхание, естественно. Родственно.
Что-то подобное чуть раньше услышали и прочувствовали в балабановском фильме «Брат». Но тогда ещё немногие готовы были различить смысл, он терялся, его оглушал шум повсеместной смуты и неустроя.
Саша Тишин у Прилепина в какой-то мере вышел из бушлата и свитера крупной вязки Данилы Багрова. Он пришёл с той же ключевой философией и интуицией цельности, что у него есть «огромная семья» и всё вокруг – его родное. Только нужно это родное привести в порядок, прибраться, вымести пыль, прополоть сорняки, наполнить музыкой любви и гармонии, вместо какофонии разлада и хаоса.
В прилепинской книге речь идёт о поиске света впотьмах, братства в беспросветной ситуации распада. Герой будто выныривает из пучины хаоса, преодолевает её, делая большие гребки руками и отталкиваясь ногами. У него есть свои крылья, он много знает о «брильянтовых дорогах», которые проложены у него внутри, как традиция, как путь родства. И это в кромешной ситуации, когда все связи рушатся и разрубаются. Роман стал очень важным и своевременным посланием. Повлиявшим на реальность.
Герой Прилепина – это наш Егор Прокудин из «Калины красной» Василия Шукшина, который в финале кровью и ногами соединился с землёй, обнял берёзки: «это всё моё, родное». Санька – надежда на возрождение человека. Наш современный человеческий ренессанс после многих лет стыдного блуждания впотьмах. Вместе с ним мы все, как блудные дети, зажав крестик во рту, вернулись на родину, – осталось её обустроить.
На мой взгляд, именно через эту книгу можно понять то, что сейчас происходит с Россией. В ней – биография современности. Тот самый цельный образ развёртывающихся процессов.
Тогда же в 2006 году критик Владимир Бондаренко в газете «День литературы» опубликовал статью «Литература пятой империи как мост в наше время». В ней он писал о конце либерального всевластия в русской литературе, с этим, по его мнению, связан и закат «литературного безвременья». Как показали последующие годы, говорить о финале либерального господства в литературе и культуре было явно преждевременно. Но в одном критик был прав: появились имена, в том числе Захар Прилепин, которые прорвались сквозь сплошной асфальт, сквозь монополию чужих идеологических установок.
О них Прилепин позже напишет в статье «Почему я не либерал»: «Либералы так уютно себя чувствуют во главе русской культуры, что в этом есть нечто завораживающее. Собрали в кучу чужие буквы, построили свою азбуку, свою мораль, своё бытие.
Теперь люди смотрят на знакомые буквы, читают, вникают – всё вроде то же самое, что у Пушкина, а смысл противоположный. Как же так?
Попробуйте набрать из этого букваря “Клеветникам России”, получится абракадабра. “Каклемтивен Сироси”. Лекарство, что ли, такое?»
С этой абракадаброй и сталкивается герой его книги. С клеветой на страну и с клеветниками.

