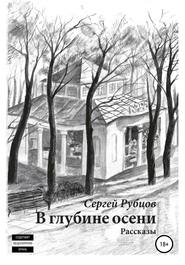 Полная версия
Полная версияВ глубине осени. Сборник рассказов
Вера
До 1940-го года моя бабушка Вера жила в Тамбове. Вышла замуж за моего деда Василия и влилась в большое семейство Востриковых. Востриковы – люди по тем временам зажиточные. Занимались извозом, то есть, говоря сегодняшним языком, грузоперевозками. Имелись лошади, телеги и всё прочее, что нужно для этого промысла. Два дома Востриковых были густо заселены многодетными семьями Василия, его братьев и сестёр. После прихода к власти большевиков их уплотнили и один дом отобрали. Забрали и большинство лошадей, так что грузы возить стало не на чем. В 1935-м году, когда моей маме было три года, случилось несчастье: Василий, ещё не старый и крепкий мужчина, надорвался, поднимая тяжёлый груз, и вскоре умер. Бабушка Вера осталась вдовой с тремя детьми: старшей дочерью Надей, сыном Женей и младшей Соней (моей мамой).
Вера походила во вдовах три-четыре года, но всё же надо было как-то налаживать жизнь: тоскливо одной, да и детям нужен отец. Нашёлся мужчина, положительный, непьющий, спокойный. Почему бы и не выйти за него, если он берёт её с детьми? Всё бы ничего, но только он, по всей видимости (точных сведений у меня нет, а мама по малолетству об этом времени помнит смутно), был каким-то образом связан с баптистами. Как известно, баптисты отрицали всякое насилие, отказывались брать в руки оружие и вообще воевать. Близился сороковой год, вторая мировая уже началась, и чувствовалось, что войны с Гитлером не избежать. А тут, нате вам, здрасьте, пропаганда непротивления и пацифизма. Ну, ясно дело, загребли голубчика по 58-й статье, без права переписки, с концами – так и исчез: ни слуху ни духу. Был человек – и нет его.
У Веры, к тому времени, ребятёнок от него народился, четвёртый – девочка, Олей назвали. Теперь выходит, что ни вдова она, ни мужняя жена.
А в скорости и за ней пришли. Дяди в кожаных кепках и тужурках. Бабушку Веру с Олей (она ещё грудная была) в камеру, под следствие. Остальных детей – Надю, Евгения и Соню – по детским домам. Хорошо ещё, мама попала в один детский дом с сестрой Надей. Правда, в разные возрастные группы, но всё равно – немного легче, когда рядом родная кровь. Женю, как мальчика, поместили в другой детдом. Больше никогда они не соберутся все вместе. Безжалостный сталинский каток раскатает кого куда по всей стране: Вера и Надя – в Волжском, Соня – в Литве, Женя после детдома станет шахтёром-взрывником где-то в Сибири, младшую Олю усыновила какая-то бездетная семья. Разорвало семью – не соберёшь!
По приговору ОСО, как ЧСР (член семьи репрессированного), получила Вера в 1940-м году десять лет и попала в женский лагерь. Женщины валили лес, так же, как и мужчины, только дневные нормы были поменьше, а всё остальное: условия работы, бараки, кормежка – то же самое. Так что умирали женщины от холода, болезней, голода и непосильного труда не меньше, чем мужчины. Но судьба или Господь Бог – кому как нравится – сжалились над Верой, и она, проработав на лесоповале два или три месяца, заболела воспалением легких. Положили её в лагерную больничку. Стала она потихоньку выздоравливать. Начала вставать с кровати, помогать медсестрам и нянечкам ухаживать за больными. Так она прижилась в больничке, и её там оставили. Это её и спасло. Больница – не просека: если бы не этот счастливый случай, вряд ли я увидел бы бабушку Веру живой.
В общем, отсидела она свой срок и в 1950-м году освободилась. Естественно, с поражением в правах и запретом жить в крупных городах. К тому времени её старшая дочь, сестра моей мамы, Надежда вышла замуж и жила в Волжском – город-спутник Волгограда, построенный для строителей Волжской ГЭС. Вера поселилась у дочери. Родились внуки – Андрей и Дмитрий. Вот и стала бабка растить внуков, заниматься домашним хозяйством. Прожила долгую жизнь и умерла в 90 лет. Возможно, она как-то и зарегистрировалась по приезде из лагеря, но, насколько мне известно, она не была прописана в квартире у дочери, пенсии не получала, с прошениями о реабилитации не обращалась. Она навсегда отделила себя от государства и никаких отношений с ним иметь не хотела. Была у неё стойкая, выработанная за десять лет отсидки, аллергия к нашей власти. Слишком хорошо она знала, чем заканчиваются близкие с ней отношения.
С бабушкой Верой я встречался всего два раза в жизни, и то в детстве. Первый раз, когда мне было около четырёх лет. Помню только, что отходила она меня мокрым скрученным полотенцем. Правда, за дело.
Было воскресенье. Меня искупали, нарядили во всё чистое и новое (в белую матроску с синим гюйсом) и выпустили во двор погулять. Посреди двора была большая лужа, в которой местные пацаны пускали игрушечные кораблики и лодочки. Не знаю, что на меня нашло! Возможно, от избытка чувств, а скорее от разыгравшегося воображения при виде «парусного флота», я полез в лужу за красавицей-бригантиной. Услыхав громкий мальчишеский смех во дворе, бабушка Вера выглянула в окно и увидела внука, лежащего посреди лужи в окружении «морской флотилии». Тут же ею я был извлечен из водной стихии, доставлен в квартиру и бит вышеупомянутым полотенцем.
Мама моя увидела в произошедшем перст судьбы и предрекла мне службу на флоте, что и подтвердилось через пятнадцать лет. Что тут скажешь: материнское сердце видит дальше и глубже самых зорких биноклей и микроскопов!
Вглядываюсь в фотографию Веры. В лице что-то от хищной птицы. Нос с горбинкой. Жёсткость в тёмных глазах и твёрдая линия губ. Помню её с закрученными клетчатым платком волосами, сухую, твёрдую нравом и телом, со жгутом полотенца в руках. Вот так же скрутил и отжал её лагерь.
Мирослав
Мне повезло. Я встретил человека, который изменил мою жизнь. Сейчас, когда мне уже много лет, я хочу рассказать о нём. Его уже давно нет. Он умер, когда ему было 33 года. Со дня его смерти прошло уже тридцать лет. (Я и сегодня считаю тебя своим лучшим другом, Мирослав Романович Коницкий!) Ми́рек – так звали его родные и друзья.
Конец 60-х. Вильнюс. Обычная русская школа-десятилетка в брежневских новостройках, куда перебирались мы с нашими родителями из подвальчиков и коммуналок старых виленских районов. Как тут не поверить в судьбу, когда позже выяснилось, что и перед тем, как переехать, мы жили на одной улице, буквально в нескольких шагах друг от друга? И даже, наверное, виделись, только ещё не знали, что это мы.
Очутились вместе в третьем классе 10-й средней школы и поначалу не обратили на это обстоятельство никого внимания. Недоразумение продолжалось до восьмого класса потому, что я все эти годы был сильно занят: во-первых, усиленно занимался спортом, а во-вторых, был страстно и безнадежно влюблён в одноклассницу и отличницу Наташу К., а может быть, как раз в первую очередь я был влюблён, а потом уже – спорт. Скорее так. В общем, сама учёба не входила в мои «творческие планы». К восьмому классу я уже успел пройти секции гимнастики, борьбы самбо, футбола и волейбола. Ну и так получилось, что пошли мы заниматься волейболом к одному тренеру. Тут мы с ним познакомились гораздо ближе и почувствовали взаимную симпатию. Особенно после того, как подрались. Виноват в драке, скорее всего, я: переборщил с выражением дружеских чувств на тренировке. Я, если кто-то мне сильно нравился – не знал меры, и проявления моих чувств переходили всякие границы: мог приобнять, взять на бедро или на спину, против воли симпатичного мне человека, – не очень задумываясь о том, нравится ему это или нет, что вызывало, для меня неожиданную, а для него адекватную, негативную реакцию. Короче, достал я Мирослава. И когда в очередной раз я обхватил его сзади, он, освободившись от захвата, развернулся и дал мне в морду… и убежал в раздевалку. Я, конечно, не ожидал от него такой «отдачи» и сначала обиделся. В глазах потемнело, из верхней губы кровь. Очухался – и за ним. В раздевалке дал ему. Только он мне верхнюю, а я ему нижнюю губу разбил. На следующий день мы помирились. Я был неправ, он вспылил – с кем не бывает. Простили друг друга, посмеялись, обнялись и стали ещё ближе, я бы сказал, роднее.
Вспоминается ещё случай. Я в это время занимался борьбой. Приёмчики там разные и всё такое. Хочется ведь их применить, показать, что умею, ну, и на перемене в классе кого-нибудь прижать. Был у нас в классе пацан: не сказать, что слабый, но не спортивный, Сашка М. Вот я на нём и стал показывать подсечки и прочее. Увлёкся. Так мне самому понравилось – могу с ним делать, что хочу. Сам собой любуюсь и ощущаю уважение окружающих. Почувствовал превосходство. Только в самый разгар моего «триумфа» я обернулся поглядеть на Мирека – он тут же за партой сидел – глянуть, как он за меня радуется. Тут-то меня словно из ушата родниковой водицей окатило. До сих пор помню я этот взгляд. Столько в нём было холодного презрения и брезгливой ненависти, что застыл я, как будто меня током садануло. Так мне не по себе стало. Стыдно! Почувствовал я себя мерзким… не животным даже, а насекомым. А ведь он мне ни слова не сказал. Только глянул. Потом я часто вспоминал этот взгляд. Мне его очень не хватало. По жизни я часто задавал себе вопрос: «А как бы Мирек посмотрел на меня в этом случае, как бы оценил тот или иной мой поступок?» При нём нельзя было совершить подлость, обидеть слабого, сказать пошлость.
Примерно в это же время я увлёкся рисованием. Сначала, как все начинающие, перерисовывал картинки из книжек, журнальные репродукции. Были ещё какие-то скелеты, пираты, ковбои и прочая популярная среди одноклассников дребедень. Мне это всё быстро надоело, и я стал думать, что делать дальше. Подумав, решил, что надо учиться, и, не сказав никому ни слова, даже родителям, пошёл поступать в художественную школу.
Как я поступал – это отдельная история, но факт, что поступил.
С этого момента (было мне 14 лет) увлечение искусством начало постепенно вытеснять спорт, и к концу школы я с ним распрощался окончательно.
Жизнь текла. Казалось, что её течение ничто не сможет изменить. Беда явилась как всегда неожиданно. Мирослав заболел. Ему стало плохо на уроке, и его увезли на скорой. Вскоре стало известно, что врачи обнаружили диабет. Все недоумевали: откуда у четырнадцатилетнего мальчика «старческая» болезнь? Да ещё в очень тяжёлой форме – ему сразу пришлось колоть инсулин.
Болезнь – удар не только для самого Мирека, для всей семьи Коницких, но и для его друзей.
Беда сблизила нас ещё сильнее. Я стал бывать у него дома. Познакомился с родителями: Романом Владимировичем и Викторией Казимировной. С бабушками, которые жили с ними. А со старшим братом Андреем был знаком по школе (он учился классом старше). Мы с ним играли на гитарах в школьном ансамбле на вечерах для старшеклассников, которые оканчивались танцами – ради них все и приходили. Бывал я у Коницких так часто, что постепенно ко мне все привыкли, как члену семьи.
Мирек, Коницкие, их дом – стали очень важными в моей жизни, они изменили меня и моё будущее. Отсюда многое началось. Здесь я о многом узнал. Тут завязывались на долгие годы жизненные узлы, появлялись интересные люди, друзья, мысли, идеи. Дом, полный книг, музыки, литературы, искусства, – он наполнял мой внутренний мир, без него жизнь казалась серой, теряла смысл; его атмосфера сама по себе, не натужно, притягивала к нему талантливых, интересных людей. Отсюда начинали открываться мне большой яркий мир искусств, удовольствия интеллектуального общения, глубины философии, литературные горизонты и океаны мировой классической музыки и поэзии, история изобразительного искусства – живописи, ваяния, зодчества. Дом этот был забит под завязку и насквозь пропитан тем, что мы называем таким привычным, но, если вдуматься, таким загадочным и таинственным словом – культура.
Рому́нас
Странно, но я не помню его фамилии. Как-то не понадобилась она. Понятно, что литовская. Остался он в памяти просто Ромунасом. Если перевести его имя на русский, то получится «ромашка», только мужского рода. Были мы примерно одного возраста. Он к тому времени (1979-й год) отслужил в армии, а я на флоте. Познакомились в Вильнюсской вечерней «художке» (художественной школе), где я продолжил учёбу после неудачного поступления в художественный институт. Обучение было демократичным: плати в месяц 10 рублей и занимайся у любого преподавателя, с кем договоришься. Меня в основном интересовали рисунок, живопись, композиция, а также графика. Этим и занимался.
Сошлись мы как-то быстро и естественно.
Родился он в небольшом литовском городке Шилале. Приехал в Вильнюс и кочевал по съёмным квартирам. Подрабатывал каменотёсом у одного маститого литовского скульптора, то есть делал предварительную грубую обработку камня – работа тяжёлая, пыльная и неблагодарная. Скульптор платил ему копейки, как подсобному рабочему.
Светло-русый, с рыжеватой бородкой, с мягкой обаятельной улыбкой и такими же манерами. Из семьи провинциальных школьных учителей. Он был прост и благожелателен в общении и лишён так часто встречающейся в местной богемной среде заносчивости и высокомерия. Вообще, он производил впечатление человека стеснительного и деликатного, но это было только на поверхности. Внутренне он был достаточно твёрд, особенно если дело касалось живописи. Дело в том, что к моменту нашего с ним знакомства он уже был сложившимся художником-абстракционистом. У него был ярко выраженный собственный стиль, чего не скажешь обо мне. Я находился в поиске и пробовал разнообразные стили, пытаясь найти свой. Я ещё пробовал поступить в институт и получить образование.
Ромунасу вся эта «байда» с институтом была ни к чему. Понятно, что с таким подходом перспективы его карьеры были туманны, если не сказать никакие. Конечно, в Литве к абстрактному искусству относились гораздо терпимее, чем в остальном СССР, но подобные «эксперименты» позволялись только дипломированным художникам и «членам союза». Иногда такие работы можно было увидеть на выставках, но, всё же, это были вещи «предметные», оставляющие возможность предметных ассоциаций. Чистая же абстракция и «беспредметность» считались проявлениями и влияниями буржуазной западной культуры и не пропускались худсоветами и партийными идеологами от искусства.
Я жил с родителями и старшей сестрой в трёхкомнатной хрущёвке и работал художником-оформителем. Ни места, ни условий для занятий живописью не было. Словом, нужна была мастерская.
Во время вступительных экзаменов в институте я познакомился с очень красивой девушкой, которая тоже, как и я, не поступила. Мы разговорились. Она жила с матерью и сестрой в частном доме на окраине города. У них была свободная комната, и она предложила сделать в ней мастерскую. Я, естественно, сразу согласился, а поскольку у Ромунаса были проблемы с жильём, предложил и ему перебраться со мной.
Устроились замечательно. Тут тебе и мастерская, и спальня, и за стенкой комната с двумя молодыми прекрасными девушками. По вечерам и выходным работали в мастерской. По ночам тоже не скучали. К тому же девушки иногда выполняли роль натурщиц. Впрочем, натурщицы нужны были только мне. Ромунас, как абстракционист, в них не нуждался.
По понятным причинам долго так продолжаться не могло. У их мамы – хозяйки дома – рано и поздно должны были возникнуть к нам вопросы. И они, конечно, возникли. Не понятен был наш «статус»: то ли мы квартиранты, если так, то почему не платим за жильё? Если женихи, то – где предложения руки и сердца?
Бывали и непредвиденные случаи. Например, когда я, заснув под утро в постели возлюбленной, забывал перебраться к себе на диван в мастерскую, утром был застигнут мамой на месте «преступления». Хорошо, что к этому времени моя подруга уже ушла на работу. Обнаружив меня в постели дочери, мама с удивлением спросила: что я делаю в «детской» постели? – на что я вынужден был ответить, что мне стало холодно в мастерской. Подобные объяснения, вероятно, не очень её успокаивали, и напряжение в отношениях усиливалось.
Через полгода ситуация подошла к своему логическому завершению. Ромунас нашёл себе другую квартиру. Я же согласился на предложение моего друга Сильвестра, который закончил в Вильнюсе художественный институт и распределился в Ионаву – городок неподалёку от Каунаса – главным художником города, получил там квартиру и мастерскую и пригласил меня поехать с ним.
В следующий и в последний раз я увидел Ромунаса на его свадьбе. Он передал приглашение через моих родителей.
Не скажу, что я очень обрадовался его выбору. Сама невеста была приятная девушка – студентка художественного института, хорошенькая и всё такое, но вот её родители… тут у меня возникли большие сомнения. Папа оказался зав. отделом ЦК компартии Литвы. А это очень тяжёлый случай для нашего брата-художника, тем более такого, как Ромунас. Слегка знакомый с этой категорией партийных работников, я предвидел впереди на пути моего друга острые подводные камни. На свадьбе я, конечно, ничего такого ему не говорил – зачем портить человеку праздник.
Свадьба проходила в два дня. В первый день праздновали родители, взрослые родственники и товарищи по партии. Во второй – молодёжь, то есть дети вышеозначенных товарищей, подруги и друзья невесты по институту, ну и я со стороны жениха. Собирались все в квартире родителей, где поселились жених с невестой. Вот тогда я увидел, как живёт наша партийная номенклатура.
Квартира находилась в четырёхэтажном доме на втором этаже в тихом престижном районе Антакальниса. На лестничной площадке была только одна дверь. Это надо понимать так, что квартира занимала весь этаж. Пройдя входную дверь, я попал в прихожую, которая по площади равнялась «гостиной» моих родителей. В прихожей было множество дверей в комнаты, количество которых я не успел сосчитать. В квартире кроме молодых были родители невесты и приехавшие из провинции родители Ромунаса. Была, правда, ещё и старшая сестра Ромунаса, которая приехала из Москвы, где работала в литовском представительстве (были такие в столице в советское время от каждой союзной республики). Бросалось в глаза, что родители Ромунаса чувствовали себя неуютно и держались на правах бедных родственников. Словом, наблюдался мезальянс.
Я в скором времени уехал в Москву и о дальнейшей судьбе Ромунаса узнал через два года от приятелей, когда вернулся в Вильнюс.
Худшие мои подозрения подтвердились. Недолго Ромунас прожил в квартире тестя. Тот стал резко запрягать, ставить условия: мол, если хочешь быть художником – поступай в институт. С его связями с поступлением проблем бы не было. Будь на месте Ромунаса кто другой – обрадовался бы, но у него на этот счёт позиция была твёрдая: нет и всё – о чём он сразу и заявил тестю. Тесть, конечно, обиделся: как так, какой-то безродный провинциал, которого он облагодетельствовал, принял в семью, готов открыть для него все двери, кочевряжится и строит из себя неизвестно что!
Начались проблемы. Дальше – больше. Жена – на стороне родителей. В общем, прожили, таким образом, где-то с год и разбежались. Бывший тесть затаил обиду и пообещал устроить зятю «райскую» жизнь, что для него, партийного босса, было парой пустяков.
Понятно, что Ромунасу в Литве делать было нечего, и он стал искать путь, как бы ему уехать из Союза. Познакомился с какой-то американкой на предмет фиктивного брака, начали они оформлять документы через американское посольство в Москве и уже собирались отчаливать в Штаты. Только зоркое око КГБ не дремало, а может, и бывший тесть поспособствовал. Только замели моего Ромунаса в Москве и продержали несколько времени в психушке. Те из приятелей-художников, кто видел его после возвращения из Москвы, говорят, что вернулся он уже совсем другим человеком. Неизвестно, чем его кололи, но психика была совершенно разрушена. Он по-чёрному запил. Во хмелю становился совсем неуправляемым. Словом, пошёл в разнос. Скитался ещё несколько времени по мастерским друзей. Кончилось всё это плохо, очень плохо – Ромунас повесился.
Эх, Ромашка!
Не знаю, смог бы я ему чем-нибудь помочь, если бы оказался рядом в тот момент? Кто теперь ответит? Только когда в 1990-м году я голосовал на референдуме за независимость Литвы, то вспоминал и думал о судьбе Ромунаса – и проголосовал «за», отдал свой голос за своего погибшего друга. Его убила несвобода. Он хотел всего лишь свободно писать картины, и жить.
Женщина-змея
Моя мама Софья Васильевна, в девичестве Вострикова, была в молодости женщиной-змеёй. Она выступала на сцене с акробатическими этюдами. До сих пор сохранились её фотографии того времени. Особенно эффектно выглядела в её исполнении фигура, называемая «лягушкой». Для тех, кто не знает – это, когда женщина ложится на живот, прогибаясь, сзади берется руками за щиколотки и сзади заворачивает ноги так, что голова оказывается между ступнями ног. Голова, ступни и часть грудной клетки находятся в одной плоскости, а таз и ноги выгнуты дугой и образуют как бы ноги лягушки. При этом на фотографии она улыбается. Не советую пробовать никому – инвалидность обеспечена. Даже родив мою сестру в девятнадцать лет, она ещё до двадцати пяти выступала на сцене. Но с моим рождением со сценой ей пришлось расстаться. Думаю, что здесь не обошлось без ревности моего папы, поскольку вокруг мамы вечно вились восхищенные поклонники.
Мама не любит вспоминать о своём детстве, и я узнал историю нашей семьи, когда вернулся со службы на флоте. Родители считали, что знать всю подноготную мне до времени ни к чему. Тяжело ей было вспоминать, и она всегда плакала, рассказывая мне об этом времени. Ей исполнилось восемь лет, когда их забрали в детдом и разлучили с матерью. Время военное, голодное. Еды не хватало. В детдом из колхозов иногда привозили молочные продукты. А у мамы, как назло, непереносимость сметаны, масла и кефира – организм отказывался их принимать. Кормили её насильно, но бесполезно – всё выходило обратно с рвотой. Она и сейчас (ей 87 лет) их не ест. Но всё же как-то она выжила.
С самого начала жизнь её не задалась, пошла наперекосяк. Ранняя смерть родного отца, потом арест отчима и матери, детдом, война, голод. Позже в детском доме у неё обнаружились необыкновенные способности к акробатике – феноменальная гибкость. Её взяли в городскую секцию акробатики. Восемнадцатилетнюю неопытную девочку стал обхаживать тренер – зрелый, сорокалетний, женатый мужчина. Дальше – простая история: соблазнил – забеременела – родила. Дочь Таня. Аборты тогда ещё были запрещены. Разводиться и вновь жениться тренер, ясное дело, не захотел.
Через два года мама встретила моего отца. Они поженились, и он увёз её и Таню в Вильнюс, где служил трубачом в военном гарнизонном оркестре. Там же в 1957-м году родился я.
Была она тогда весёлая, вечно что-то придумывала. Любила читать. Любимые её писатели – Пушкин и Гоголь. Ей я благодарен за то, что она пробудила во мне фантазию, любовь к русской разговорной речи, родному языку и литературе. Она пела мне песни: народные из репертуара Руслановой и Мордасовой. Читала сказки Пушкина, басни Крылова.
Мы редко видимся. Она осталась в Вильнюсе, а я давно живу в России. Нас теперь разделяют границы и визы. Я нечасто бываю в Литве. Мы говорим друг с другом по скайпу. Слышит она всё хуже.
Отец
Передо мной молодец в солдатской форме с улыбкой и несколько татарскими глазами. Это мой отец – Валентин Иванович. Азиатский разрез глаз достался ему от его мамаши, моей бабушки Хавроши, Февронии Васильевны Рубцовой, в девичестве Шубиной, а ей от предков, населявших с древности тамбовский край племён мордвы и мокши.
Отец – простой деревенский парень. С юности увлёкся трубой (я имею в виду музыкальный инструмент). В 1949-м году был призван на военную службу в Литву, где играл в военном оркестре. Звездой не был, но играл прилично, знал нотную грамоту. Дудел на смотрах, танцах, свадьбах, похоронах, парадах и демонстрациях. Короче – лабух. Брал меня постоянно с собой. Наверное, поэтому я до сих пор не боюсь пьяных, покойников и большого скопления народа. Я знал весь репертуар оркестра наизусть. Все марши, вальсы, польки, танго и фокстроты.
Так что переход к джазу и рок-музыке был для меня лишь логическим продолжением, естественным развитием моих музыкальных вкусов и пристрастий. Чего не скажешь об отце. Была в нём какая-то «ушибленность» коммунистической идеологией. Он верил в правильность существующего строя, был членом партии, а если в чём-то сомневался, когда видел происходящее вокруг, то помалкивал. В отношении к новым музыкальным и культурным явлениям, приходящим из-за границы, занимал строго партийную, нетерпимую позицию. Тогда это называлось «тлетворным влиянием запада» и «идеологической диверсией». Я же, воспитанный мамой, был свободен от идеологических пут и шор.
Но при всей своей любви к властям и идеологической ограниченности, отец был живым и весёлым человеком: любил шумную компанию, выпить, сыграть в картишки, пошутить, рассказать анекдот. Он, по сути, так и остался до смерти простым тамбовским парнем. Он всю жизнь произносил слово «коммунизм» с мягким знаком после «з». Говорил «пинжак» и «ложить». Но он был моим отцом. Умер десять лет назад. Какая теперь разница – правильно ли он говорил?



