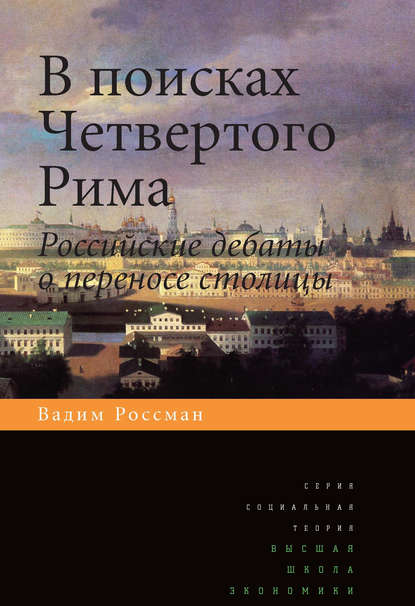
Полная версия:
В поисках четвертого Рима. Российские дебаты о переносе столицы
Более высокий уровень дохода в столице ни в коем случае не является универсальным правилом для развитых стран. По крайней мере в семи странах Европы средний доход в столице ниже, чем доходы в других, более экономически развитых регионах. Так годовой доход немца в среднем составляет не менее 17 тысяч евро, но средний житель Берлина получает только 15 тысяч, а средний житель Гамбурга – 23 тысячи евро в год. Брюссель также имеет меньшие доходы, чем города на фламандском севере: если средний брюсселец довольствуется в среднем 16 тысячами евро ежегодного дохода, средний доход граждан Фландрии составляет 20 тысяч евро. В Финляндии жители Хельсинки получают немногим более 15 тысяч евро в год, отставая на три тысячи евро от жителей Аландских островов. Доход в столицах Италии и Испании уступает доходам северных регионов (Эмилия-Романье и стране басков). Та же ситуация в Амстердаме и Вене, отстающих по уровню доходов от жителей Утрехта и городов Нижней Австрии [Кто в Европе самый бедный, 2011].
Таким образом, разрыв между российской столицей и регионами по уровню доходов являетя экстраординарным. Если в случае европейских стран этот показатель не превышает 30 % (без учета более высокой стоимости жизни), то в России он достигает 250 %. Если мы примем во внимание стоимость жизни – в Москве прожиточный минимум в полтора раза выше среднероссийского [Зубаревич, 2011], – то и тогда этот разрыв будет составлять не менее 100 %. Этот показатель является чрезвычайным не только в европейских или американских страндартах, но и в стандартах развивающихся стран, и приближается по своему количественному выражению к разрыву в уровне доходов между некоторыми колониями и метрополией и сопоставим с уровнем регионального неравенства некоторых африканских стран [Remington, 2011].
По характеру внутреннего имиджа и мягкой власти
И в Великобритании, и во Франции существует определенное недовольство по поводу слишком высокой роли столицы в национальной жизни страны. После Второй мировой войны правительства этих государств предпринимали некоторые меры по децентрализации и выводу некоторых функций за пределы столиц. Как и во многих других странах, жители столиц этих государств не являются любимцами провинциальной публики. В столицах высока концентрация социального неравенства и не самых популярных персонажей (bête noire) – банкиров, богатых сегментов населения, иммигрантов, инородцев и прочих маргинальных элементов. Однако в современных Великобритании и Франции нет того ярко выраженного враждебного отношения к столице, которое мы описали в случае Москвы. Жители этих стран не чувствуют себя обездоленными и обьеденными своими столичными городами. Подобное отношение, впрочем, никак не связано с национальной психологией и подобный уровень враждебности не был чем-то экстраординарным, скажем, в XVII–XVIII веках. Так Даниэль Дефо жаловался, что Лондон «как пиявка жадно высасывает все жизненные соки из страны» [Robertson, 2001: 5]. Сейчас эти слова воспринимаются скорее как неожиданный исторический курьез.
В Европе отсутствует или, во всяком случае, значительно менее выражен синдром отношения к провинциальным городам как к захолустью. У провинций есть свой идиллический и романтический ореол, который чувствуется, например, во французском и английском обозначении небольших городков – France Profunde и Merry England. В Японии существует давняя тенденция сентиментализации маленьких городков и сельской местности и массовая досовременная традиция туризма в глубинку, глубоко связанная с концепцией национальной идентичности, поисками утраченных корней и выраженная в концепции фурусато (буквально старая деревня) [Siegenthaler, 1999]. Русская глубинка конечно тоже влечет романтиков своей патриархальностью и уютом уединения, но хляби, бездорожье, комары, отсутствие дружественной инфраструктуры и убогий быт делают ее гораздо менее привлекательной. Поэтому здесь она чаще ассоциируется с глухоманью и захолустьем.
Лондону, Парижу и Москве присущ свой стиль, колорит, этос поведения и даже, возможно, своя sof power. Англичане называют этот этос лондонизмом (Londonism), а французы – парижанством (Parisiénisme)[17]. И, кажется, они лишены тех негативных моральных коннотаций, часто приписываемых московскому стилю, который иногда называется «московщиной» [Можегов, 2006].
По характеру и степени глобальности
После крушения СССР глобальный статус Москвы как сверхстолицы, столицы всего социалистического лагеря или всего второго мира, заметно снизился. С исчезновением социалистического содружества с его многочисленными военными и экономическими международными организациями, размещенными или расквартированными в Москве (СЭВ, Варшавский договор и др.), бывшая столица СССР утратила многие признаки глобального центра, если под глобальностью понимать не только экономический вес страны, ее панэкономическую и технологическую роль в процессах глобальных трансформаций, сколько ее положение входных ворот (gateway) в огромный ресурсодобывающий регион мира в дополнение к статусу мощной военной сверхдержавы [Brade, Rudolph, 2004].
В немалой степени остающийся относительно высоким глобальный статус Москвы (группа бета глобальных городов)[18] обусловлен низкой плотностью других городов в стране и отсутствием заметных конкурентов в огромном ресурсодобывающем регионе мира. В противоположность этому, Лондон, Париж и Токио являются не только воротами в Британию, Францию и Японию, но прежде всего крупнейшими финансовыми, экономическими и инновационными центрами.
Возьмем только два показателя, определяющих вес городов, – роль их финансовых центров и инновационный потенциал. В списке международных финансовых центров Москва занимает 65-е место из 77 городов (Z/Yen Group, 2012). Лондон, Токио и Париж занимают в рейтинге соответственно 1, 7 и 8-е места. В этих городах расположены десятки штаб-квартир крупнейших транснациональных корпораций. Три столицы также занимают 14, 20 и 2-е места в индексе 100 наиболее инновационных городов мира. Помимо столиц своих стран в этот индекс попали 15 немецких, 8 французских, 4 японских и 3 британских города [Innovation Cities, 2010]. Из российских городов в списке оказались только два города, включая Москву на скромном 97-м месте (см. табл. 12). В 2011 году Москва уже не попала в этот список.
Значительные размеры Лондона, Парижа и Токио, таким образом, по отношению к территории и урбанистической системе своих стран в большей мере определяются их гораздо более значимой международной ролью и местом в глобальном разделении труда по сравнению с Москвой. Ни один из этих городов не сопоставим с российской столицей по количеству международных экономических, культурных, научных и общественных организаций, которые в них базируются. Место этих столиц в глобальной системе определяется не столько за счет, сколько в пользу
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Глазычев опровергает распространенное заблуждение по поводу высокого уровня развития городов в домонгольской Руси, указывая, во-первых, на ложное толкование скандинавского названия Руси («гардарики») как якобы страны городов, а, во-вторых, указывая на негородские источники главного продукта русского экспортного хозяйства – пушнины [Глазычев, 2012: 13].
2
Закон Зипфа принадлежит к числу естественных эмпирических законов. Известный американский экономист Пол Кругман остроумно замечает в этой связи: «экономическую теорию часто упрекают в том, что ее модели являются слишком упрощенными и предлагают слишком удобные взгляды на сложную и неоднозначную реальность. В случае закона Зипфа верно как раз обратное: в противоположность нашим сложным и неоднозначным моделям реальность как раз удобна и проста» (цит. по: [Vedder, 1996]). Реальность практически всех городских сетей выявляет весьма простой закон, который отражен в законе Зипфа и который, в силу не имеющих отношения к собственно экономике обстоятельств, не действует в России.
3
Официальная численность Санкт-Петербурга, третьего по величине города в Европе, на начало Первой мировой войны – свыше 2 миллионов человек (1914). В 1920 году – 722 тысячи. Из статьи «Санкт-Петербург» в Википедии:
4
В серии работ российско-американский исследователь советской экономической политики Елена Осокина приводит множество цифр и фактов, описывающих и уточняющих особые стандарты снабжения Москвы. Согласно ее подсчетам, в начале 1930-х годов прошлого века москвичи, то есть 2 % совокупного населения страны, получали до 20 % фондов промышленных товаров и продуктов питания. Еще 10 % получал Ленинград. «До революции столицы также имели особый статус, – пишет Елена Осокина. – Именно там располагались крупные и дорогие магазины, продававшие предметы роскоши, заморские товары. Однако никогда эти два города не имели исключительного права на получение самых обыденных предметов обихода и жизненно важных продуктов. В любом заштатном городке дореволюционной России мелкие частные лавочки и казенные магазины обеспечивали население всем необходимым». Осокина Е. За фасадом сталинского изобилия. М.: РОССПЭН, 2008. С. 109–110, 137–138.
5
По населению Москву превосходят Мумбай, Шанхай, Карачи и Стамбул. Ни один из этих городов не является столицей соответствующих стран. Кроме того, в первой десятке городов всего три столицы, Москва, Пекин и Дели. При этом столицей Индии считается только город Нью-Дели, часть агломерации Дели (см. табл. 11).
6
«В СССР политический класс (номенклатура плюс военные всех типов) составлял 0,1 % от численности населения, – пишет социолог Ольга Крыштановская. – К 2009 году численность политического класса перевалила за 3 миллиона, что составляет 2 % населения страны».
7
Коэффициент Джини – мера отклонения кривой распределения доходов Лоренца от кривой отсутствия неравенства. В европейских странах значение этого коэффициента составляет приблизительно 0,3. В США – 0,45. В Бразилии – 0,61. По оценкам Гуриева (ректор Российской экономической школы) и Рачинского, в 2004 году коэффициент Джини в Москве составлял 0,63 [Гуриев, Рачинский, 2006].
8
Техники такого маркетингового продвижения столичных городов обсуждаются в ряде работ [Chevrant-Breton, 2007].
9
По свидетельству дендролога, профессора МГУ, Валерии Горячевой, «на цветочное оформление Москва ежегодно тратит больше, чем вся Западная Европа» [Горячева, 2009].
10
В Великобритании, к напримеру, Лондон распространяет свои богатства прежде всего как раз на прилегающие к нему части страны, восток и юго-восток [The Economist, 2012: 5].
11
Эти данные приводит Александр Коган, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам ГД.
12
Согласно этой теории, города сначала испытывают период экспоненциального роста, затем происходит поляризация (polarization reversal) и, наконец, контрурбанизация. Теория дифференциальной урбанизации излагается, например, в книгах Майкла Пациони [Pacioni, 2002: 239–245], а также Гейера и Контули [Geyer, Kontuly, 1996].
13
Еще более расширяя референтную группу стран и городов не только географически, но и исторически, можно заметить, что во многих других странах пояса городов лучшие университеты находились на некотором отдалении от крупных экономических и политических центров – в Падуе, а не в Венеции; в Павии, а не в Милане.
14
«World’s top destinations for 2012 named», Mastercard World-wide Index of Global Destination Cities; http://www.smh.com.au/executive-style. 12.06. 2012.
15
Рыжов В. Эксперты назвали проблемы внутреннего туризма в России; сайт: www.KM.ru.2011. 5 декабря.
16
Описывая феномен нового отходничества и «вахтовый метод» освоения столицы, Симон Кордонский замечает, что Москва втягивает в себя активное население на расстоянии до 500 километров [Кордонский, 2009].
17
В XIX веке термин «parisiénisme» использовался исключительно в дескриптивном смысле, для описания манер, стиля, ментальных привычек и поведения парижан. Гораздо позднее он приобрел некоторые негативные коннотации, связанные с тенденцией некоторых групп жителей столицы рассматривать все проблемы через призму парижских проблем и с точки зрения Парижа.
18
В рейтинге 2010 Global Cities Index, составленном консалтинговой компанией A.T. Kearney и журналом «Foreign Policy», Москва заняла 25-е место в списке лидеров мировой глобализации.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



