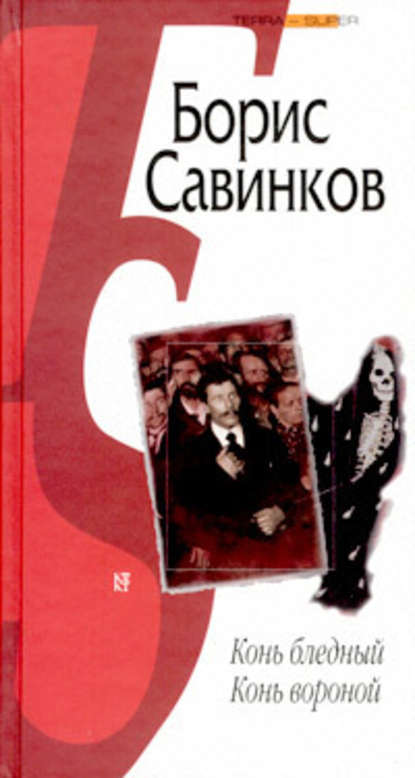 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Конь бледный
– Ты знаешь, – я тоже люблю.
– А муж?
– Что же муж?
– Ты с ним.
– Ах, милый… Не все ли равно: сейчас я с тобою.
Будь со мною всегда.
Она звонко смеется.
– Не знаю, не знаю.
– Елена, не смейся и не шути.
– Я не шучу …
Она опять обнимает меня.
– Разве нужно любить всегда? Разве можно любить всегда? Ты бы хотел, чтоб я любила тебя одного … Я не могу. Я уйду.
Уйдешь к мужу?
Она молча кивает.
– Значит, ты любишь его.
– Милый, вот горит вечернее солнце, шумит ветер, шепчет трава. Вот мы любим друг друга. Что же еще? Зачем думать о том, что было? Зачем знать, что будет? Не мучь же меня. Не надо мучений. Будем радоваться вдвоем, будем жить. Я не хочу горя и слез …
Я говорю:
– Ты сказала, что ты его и моя. Скажи, – так ли? Правда ли это?
– Да, правда.
Тень скользнула у ней по лицу. Глаза печальны и темны. Белое платье тает в сумерках дня.
– Почему?
– Ах, почему? ..
Я наклоняюсь к ней близко.
– А если … Если бы не было мужа?
– Не знаю … Я ничего, ничего не знаю … Разве любовь вечна? Не спрашивай, милый… И не думай, не думай, не думай …
Она целует меня, я молчу. В моей душе медленно расцветает ревность: я не хочу и не буду делиться ни с кем.
10 сентября.
Елена тайком приходит ко мне и быстро, как воды, текут часы и недели. Весь мир теперь для меня в одном, – в моей к ней любви. Свернут свиток воспоминаний, помутилось зеркало жизни. Передо мною глаза Елены, ее губы, ее любимые руки, вся ее молодость и любовь. Я слышу ее смех, ее радостный голос. Я играю ее волосами, я жадно целую ее горячее и счастливое тело. Падает ночь. Ночью глаза еще ярче, смех еще звонче, поцелуи больнее. И вот снова, как чары: южный странный цветок, кровавый кактус, колдующий и влюбленный. Что мне террор, революция, виселица и смерть, если она со мной? .. Она входит робко, опуская глаза. Но вот вспыхнули огнем ее щеки, звенит ее смех. У меня на коленях она поет беззаботно и звонко. О чем ее песни? Я не знаю, не слышу. Я чувствую ее всю и радость ее звучит в моем сердце, и во мне уже нет печали. А она целует и шепчет:
– Все равно … Пусть ты завтра уйдешь … Но сегодня ты мой … Я люблю тебя, милый.
Я не пойму ее. Я знаю: женщины любят тех, кто их любит, любят любовь. Но сегодня муж, завтра я, послезавтра опять его поцелуи… Я ей однажды сказал:
Как можешь ты целовать двоих?
Она подняла тонкие брови.
– Почему, милый, нет?
И я не знал, что ответить. Я злобно сказал:
Я не хочу, чтобы ты целовала его.
Она рассмеялась.
– А он не хочет, чтоб я целовала тебя.
– Елена …
– Что, милый?
– Не говори со мной так.
– Ах, милый мой, милый… Что за дело тебе, кого и когда я целую? Разве я знаю, кого ты еще целовал? Разве я хочу и могу это знать? Я сегодня люблю тебя… Ты не рад? Ты не счастлив?
Я хочу ей сказать: у тебя нет стыда, нет любви… Но я молчу: разве в моей душе живет стыд?
– Слушай, – смеется она, – зачем ты так говоришь? То можно, это нельзя. Умей жить, умей радоваться, умей взять от жизни любовь. Не нужно злобы, не нужно убийства. Мир велик и всем хватит радости и любви. В счастье нету греха. В поцелуях нету обмана … Так не думай же ни о чем и целуй…
И потом говорит еще:
– Вот ты, милый, не знаешь счастья… Вся твоя жизнь только кровь. Ты железный, солнце не для тебя … Зачем, зачем думать о смерти? Надо радостно жить … Неправда ли, милый?
И я в ответ ей молчу.
12 сентября.
Я опять думаю об Елене. Быть может, она не любит меня, не любит и мужа. Быть может, она любит только любовь. Только в любви ее яркая жизнь, для любви она родилась на свет и во имя ее сойдет в могилу. И когда я думаю так, во мне встает отрадная злоба. Что из того, что Елена со мною, что я целую ее прекрасное тело и вижу любящие, в сиянье, глаза? .. Она с улыбкой уходит к мужу, она любовно живет его жизнью. Меня томит мысль о нем, об этом юноше, белокуром и стройном. И иногда, в тишине, я ловлю себя на мечтах, глубоких и тайных. И тогда мне кажется, что я думаю не о нем, а о том, кого уже нет и о ком я со злобою думал прежде. Мне кажется, что генерал-губернатор все еще жив.
Вот я иду тернистым путем. На узкой моей тропинке стоит он, ее муж. Он мешает мне: она любит его.
Я смотрю, как в садах изнемогает усталая осень. Рдеют холодные астры, облетают сухие листья. Утренники свивают траву. В эти дни увя-данья четко встает привычная мысль. Я вспоминаю забытое слово:
Если вошь в твоей рубашке Крикнет тебе, что ты блоха, Выйди на улицу И – убей!
13 сентября.
Генрих все эти дни прожил в Москве. У него в Замоскворечье семья. Только сегодня он уезжает в Петербург к Эрне.
Он отдохнул, пополнел и окреп. Глаза у него блестят и уже нет вялых слов. Я давно не видел его.
Мы сидим с ним в трактире. Здесь когда-то бывал с нами Ваня. Генрих ест и в промежутках между едой говорит:
– Читали, Жорж, что в «Революционных Известиях» пишут?
– О чем?
– Да о генерал-губернаторе.
– Нет, не читал.
Он возмущен и говорит горячо:
– Пишут о значении не только для Москвы, но и для всей России. Я согласен: этот акт – перелом. Теперь увидят, как мы сильны, поймут, что партия победит, не может не победить.
Он вынимает тонкий листок печатной бумаги.
– Вот, Жорж, прочтите.
Мне скучно слушать его, скучно читать. Я отстраняю бумагу рукой. Я говорю с неохотой:
– Спрячьте. Не стоит.
– Что вы? Как же не стоит? Ведь для этого вся работа.
– То есть, чья же работа?
– Наша работа, конечно.
– Для газетной статьи?
– Вы смеетесь … Печатное слово необходимо. Нужна пропаганда террора. Пусть массы поймут, пусть идея борьбы проникнет в деревню. Разве не так?
Мне скучно. Я говорю:
– Бросим об этом. Слушайте, Генрих, вы ведь, любите Эрну? ..
Он роняет ложку в тарелку и густо краснеет. Потом дрогнувшим голосом говорит:
– Откуда вы знаете?
– Знаю.
Он в смущеньи умолк.
– Ну, так берегите ее… И желаю вам счастья.
Он встает, долго ходит по грязному кабинету. Наконец, говорит тихо:
– Жорж, я вам верю. Скажите мне правду.
– Что вам сказать?
– А вы не любите Эрну?
Мне смешно его хмурое, в красных пятнах, лицо. Я громко смеюсь.
– Я? Люблю Эрну? Что вы? Бог с вами.
И никогда .. . никогда не любили?
Я говорю раздельно и ясно:
– Нет. Не любил.
Его лицо расцветает счастливой улыбкой. Он приветливо жмет мне руку.
– Ну, еду. Прощайте.
Он быстро уходит. Я долго сижу один за грязным столом, между грязными тарелками. И вдруг безудержно смешно: я люблю, она любит, он любит … Что за скучная песня.
14 сентября.
Я сегодня не видел Елены. Я ушел вечером в Тиволи. Как всегда бесстыдно гремел оркестр, пели цыгане. Как всегда бродили женщины между столов, и их платья шуршали шелком. И я, как всегда, скучал.
За соседним столом пьяный морской офицер. Блестит в стаканах вино, вспыхивают бриллианты у дам. До меня долетает смех и бессвязный говор. Медленно ходит стрелка часов.
Вдруг я слышу:
– Что вы скучаете здесь?
Офицер, шатаясь, протягивает мне стакан. У него багровые щеки и подстриженные усы. Такие усы носил генерал-губернатор.
– Как вам не стыдно скучать … Позвольте представиться: Берг… Пойдемте к нам, за наш стол … Дамы вас просят …
Я встаю, называю себя:
– Инженер Малиновский.
Мне все равно, где сидеть: я лениво сажусь за их стол. Все смеются, все чокаются со мной. Плачут скрипки, а за окном сереет рассвет.
Вдруг я слышу, кто-то спросил:
– Где Иванов?
– Какой Иванов?
– Да полковник Иванов. Куда девался Иванов?
Я вспоминаю: начальник Охранного отделения Иванов. Уж не его ли зовут? Я наклоняюсь к плечу соседа.
– Извините, не жандармский ли полковник Иванов?
– Ну да … конечно … Он самый … друг и приятель …
Меня жжет желанный соблазн. Я не встану. Я не уйду. Я знаю: этот Иванов, конечно, носит с собою мой портрет. Я щупаю револьвер и жду.
Входит Иванов. Он похож на купца, рыжебородый и толстый. Грузно садится за стол и пьет водку. Нас, конечно, знакомят.
– Малиновский.
– Иванов.
Он пришел сюда пить и мне опять уже скучно.
Вот опять желанный соблазн, – подойти к нему и шепнуть:
– Джордж О'Бриен, полковник.
Но я молча встаю. На дворе плачет дождь, спит каменный город. Я один. Мне холодно и темно.
15 сентября.
Я спрашиваю себя: зачем я в Москве? Чего я могу добиться? Елена только любовница. Она никогда не будет женой. Я знаю это и все-таки не могу уехать. Я знаю также, что лишний день – лишний риск и что на карте стоит моя жизнь. Но я так хочу.
В Версале, в парке, с веранды видны озера. Между нежными боскетами и кокетливыми клумбами их берега чертят четкие линии. Влажным дымом клубятся фонтаны, молчат зеркальные воды. И над ними сонный покой.
Я закрываю глаза: я в Версале. Я бы хотел забыть об Елене, я бы хотел сегодня покоя. Течет река жизни. День встает и уходит. А я, как раб на цепи, с моей любовью.
Где-то вдали ледяная высь. Горы блещут лазурью, девственным снегом. Люди мирно живут у их ног, мирно любят и с миром же умирают. Им светит солнце, их греет любовь. Но, чтобы жить, как они, нужны не гнев и не меч… И я вспоминаю Ваню. Может быть, он и прав, но белые ризы не для меня: Христос не со мной.
16 сентября.
– Милый мой, отчего ты всегда печальный, – говорит мне Елена, – разве я не люблю тебя? Вот смотри, я подарю тебе жемчуг.
Она снимает с пальца кольцо. В золотом кольце, как слеза, большая жемчужина.
– Береги ее … Это моя любовь. Она доверчиво обнимает меня.
– Ты горюешь, что я тебе не жена? О, я знаю: брак, – привычка любви, вялая, без блеска любовь. А тебя я хочу любить … Я хочу красоты и счастья…
И задумчиво говорит еще:
– Почему люди пишут разные буквы, из букв слагают слова, из слов – законы? Этих законов библиотеки. Нельзя жить, нельзя любить, нельзя думать. На каждый день есть запрет… Как это смешно и глупо .. . Почему я должна любить одного? Скажи, почему?
И я опять ничего не умею ответить.
– Вот видишь, Жорж, ты молчишь. Ты тоже не знаешь. Разве ты никого не любил? . .
Мне жутко. Да, я любил не одну и я никогда не знал, зачем пишут законы. Она говорит мои же слова. Но теперь я в них чувствую ложь. И я хочу ей об этом сказать, но не смею.
У ней тяжелые, черные косы. Они упали на плечи. В темной рамке кудрей лицо ее бледнее и тоньше. И глаза ее ждут ответа.
Я молча целую ее. Я целую ее невинные руки, ее сильное молодое тело. Поцелуи мучат меня. Вот опять завороженная мысль, – мысль о том, кто, как я, целует ее, и кого она любит. И я говорю:
– Нет, слушай, Елена … Или он, или я … Она смеется.
– Вот видишь: я раба, а ты господин… А если я не хочу выбирать? .. Скажи, зачем выбирать?
За окном шумит дождь. В полутьме я вижу ее силуэт, ее большие, черные ночью, глаза. И я говорю, бледнея:
Я хочу так, Елена.
Она грустно молчит.
– Выбирай.
– Милый, я не могу …
– Я сказал: выбирай.
Она быстро встает. Говорит решительно и спокойно:
– Я люблю тебя, Жорж:. Ты это знаешь. Но я не буду твоей женой никогда.
Она ушла. Я один. Только жемчуг ее со мною.
17 сентября.
Елена любит свое прекрасное тело, свою молодую жизнь. Говорят, в этой любви свобода. Мне смешно: пусть Елена раба, а я господин, пусть я раб, а она свободна… Я твердо знаю одно: я не могу делиться любовью. Я не могу целовать, если целует другой.
Ваня искал Христа, Елена ищет свободу. Мне все равно: пусть Христос, пусть Антихрист, пусть Дионис. Я не ищу ничего. Я люблю. И в моей любви мое право.
Вот опять багровый цветок опьяняет меня. Опять свершается тайное колдовство. Я, как камень в пустыне. Но в руке моей – острый серп.
18 сентября.
Вчера было то, чего я ждал и во что втайне не верил. День скорби и поруганья. Я шел по Кузнецкому мосту. Ползал молочный туман, таял волнистою мглою.
Я шел без цели, без мыслей, как корабль в волнах без руля.
Вдруг в тумане сгустилось пятно, колыхнулась неясная тень. Прямо навстречу мне быстро шел офицер. Он взглянул на меня и сразу остановился. Я узнал: муж Елены. Я впился глазами в глаза и в темных зрачках прочел гнев.
Тогда я мягко взял его под руку и сказал:
– Я ждал вас давно.
Мы молча пошли по Тверской. Мы шли долго во мгле и оба знали свой путь. И были близки, как братья. Так вышли мы в парк.
В парке осень. Ветви голые, – решетка тюрьмы. Тает туман, в тумане мокнет трава. Пахнет гнилью и мохом.
Далеко, в заросшей чаще, я выбираю тропинку. Я сажусь на срубленный пень и холодно говорю:
– Вы узнали меня?
Он молча кивает мне головою.
Вы знаете, зачем я в Москве?
Он кивает опять.
Ну, вы знаете: я не уеду.
Он с усмешкой говорит:
– Вы уверены в этом?
Уверен ли я? Я не знаю. Кто поймет, кого любит Елена. Но я говорю только:
А вы?
Пауза.
Вот что: вы уедете из Москвы. Поняли? Вы.
Он вспыхнул гневным румянцем. Но говорит хладнокровно:
– Вы сумасшедший.
Тогда я, молча, вынимаю оружие. Я меряю восемь шагов по траве и кладу на концах их мокрые прутья: барьер. Он следит со вниманием. Я кончаю. Он говорит, улыбаясь:
– Что ж, вы хотите драться?
– Я требую: уезжайте.
Белокурый и стройный, он смотрит мне прямо в глаза. И насмешливо повторяет:
Вы – сумасшедший.
Я говорю, помолчав:
– Вы будете драться?
Он отстегнул кобуру, нехотя вынул револьвер. Потом подумал минуту и говорит:
Хорошо … Я к вашим услугам.
Вот он уже у барьера. Я знаю: я бью в туза на десять шагов. Промаха быть не может. Я поднял револьвер. На черной мушке пуговица пальто. Я жду. Тишина. Я говорю очень громко:
– Раз… Он молчит.
– Два и … три.
Он стоит неподвижно, грудью ко мне. Его револьвер опущен. Он насмехается надо мной … Вдруг какой-то горячий и жесткий комок сжимает мне горло. Я в гневе кричу:
– Стреляйте…
Ни звука. Тогда я медленно, радостно, долго нажимаю курок. Желтым светом сверкнуло пламя, пополз белый дым.
Я потел по мокрой траве и наклонился над телом. Он лежал на тропинке ничком в холодной и мягкой грязи. Странно согнулась рука, широко раскинулись ноги. Сеял дождь. Была мгла. Я свернул в чащу леса. Уже сумерки набежали. Между деревьями – ни зги. Я шел, и не было цели. Так идет корабль без руля.
20 сентября.
В Цусимском бою бессмысленно гибли люди. Темная ночь, в море мгла, ходит зыбь. Как огромный раненый зверь, прячется броненосец. Чуть чернеют черные трубы, молчат гремевшие пушки. Днем дрались, ночью бегут, ждут атаки. Сотни глаз шарят тьму. И вдруг вопль – крик испуганной чайки: «Миноносец по борту» … Вспыхнул прожектор, белым светом ослепла ночь.
А потом… Кто на палубе, – кинулся в море. Кто внутри, за кованой броней, – бьется о люк. Медленно тонет корабль, уходит носом под воду. Машинисты в машине кулями срываются вниз. Их бьют железные цепи, крошат колеса, душит дым, обжигает пар. Так гибнут они. Бессмысленно-безымянная смерть.
А вот смерть еще. Север, море, северный шторм. Ветер рвет паруса, взвивает белую пену. В серых волнах рыбачья лодка. Серый день меркнет бледною зарею. Где-то вдали загорелся маяк. Красный, белый и снова красный. Люди застыли на скользком носу, вцепились в канаты. Ропщет волна, брызжет дождь … И вдруг сквозь вой ветра – медленный звон. У низкого борта бьется колокол на воде и звонит. Это бакан. Это мель. Это смерть … И потом опять ветер, небо и волны. Но уже нет никого.
И смерть еще: я убил человека… До сих пор я имел оправдание: я убиваю во имя террора, для революции. Те, что топили японцев, знали, как я: смерть нужна для России. Но вот я убил для себя. Я захотел и убил. Кто судья? Кто осудит меня? Кто оправдает? Мне смешны мои судьи, смешны их строгие приговоры. Кто придет ко мне и с верою скажет: убить нельзя, не убий. Кто осмелится бросить камень? Нету грани, нету различия. Почему для террора убить – хорошо, для отечества – нужно, а для себя – невозможно? Кто мне ответит?
Вот в окно глядит ночь, я вижу горящие звезды. Блещет Медведица, струится серебряный Млечный путь, робко сверкают Плеяды. Что за ними? .. Ваня верил. Он знал. А я стою одинокий и ночь непонятно молчит и земля дышит тайной, и загадочно мерцают звезды. Я прошел трудный путь. Где конец? Где мой заслуженный отдых? Кровь родит кровь и месть живет местью. Я убил не только его . . . Камо пойду и камо бегу?
22 сентября.
Сегодня с утра льет дождь, мелкий, осенний. Я смотрю в его паутинную сеть и лениво, как капли, меня тревожат скучные мысли.
Жил Ваня и умер. Жил Федор, его убили. Жил генерал-губернатор и его уже нет … Живут, умирают, родятся. Живут, умирают . .. Хмурится небо, льет дождь.
Во мне нет раскаяния. Да, я убил… Во мне нет горечи за Елену. Будто мой разбойничий выстрел выжег любовь. Мне чужда теперь ее мука. Я не знаю, где она и что с нею. Плачет она над ним, над своей беспорочной жизнью или уже забыла? Кого забыла? Меня? Меня и его. Опять его. Мы и теперь с ним скованы цепью.
Сеет дождь, шумит по железным крышам. Ваня сказал: как жить без любви? Это Ваня сказал, а не я… Нет. Я – мастер красного цеха. Я опять займусь ремеслом. Изо дня в день, из долгого часа в час я буду готовить убийство. Я буду украдкой следить, буду жить смертью и однажды сверкнет пьяная радость: свершилось – я победил. И так до виселицы, до гроба.
А люди буду хвалить, громко радоваться победе. Что мне их гнев, их жалкая радость? ..
Молочно-белый туман опять обвеял весь город. Уныло торчат дымовые трубы, гудит на фабрике долгий гудок. Ползет холодная мгла. Сеет дождь.
23 сентября.
Христос сказал: «Не убий», и ученик Его, Петр, обнажил для убийства меч. Христос сказал: «Любите друг друга», и Иуда предал Его. Христос сказал: «Я пришел не судить, но спасти», и был осужден.
Две тысячи лет назад Он молился в кровавом поту, а ученики Его спали. Две тысячи лет назад народ одел Его в багряницу: «Возьми и распни Его». И Пилат сказал: «Царя ли вашего распну?» Но первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря».
И у нас нет царя, кроме Кесаря. И теперь еще Петр обнажает меч, Анна судит с Каиафою, Иуда Симонов предает. И теперь еще распинают Христа.
Значит, Он не лоза, мы – не ветви. Значит, слово Его – сосуд глиняный. Значит, Ваня неправ … Бедный, любящий Ваня … Он искал оправдание жизни. К чему оправдание?
Гунны прошли по полям, растоптали зеленые всходы. Бледный конь ступил на траву, завяла трава. Люди слышали Слово – и вот поругано Слово.
Ваня с верой писал: «Не мечом, а любовью спасется мир и любовью устроится». Но ведь и Ваня убил, «совершил тягчайший грех против людей и Бога». Если бы я думал, как он, я бы не мог убить. И, убив, не могу думать, как он.
Вот Генрих. Для него нет загадок. Мир, как азбука, прост. На одной стороне рабы, на другой – владыки. Рабы восстают на владык. Хорошо, когда убивает раб. Дурно, когда убивают раба. Будет день, рабы победят. Тогда, – рай и благовест на земле: все равны, все сыты и все свободны.
Я не верую в рай на земле, не верую в рай на небе. Я не хочу быть рабом, даже рабом свободным. Вся моя жизнь – борьба. Я не могу не бороться. Но во имя чего я борюсь, – не знаю. Я так хочу. И я пью вино цельное.
24 сентября.
Я опять нанял комнату, живу в номерах: инженер Малиновский. Я живу, как хочу, – без правил взыскательной конспирации. Мне теперь все равно: пусть полиция ищет. Пусть меня арестуют.
Вечер. Холодно. Над новой фабричной трубой обманчивый месяц. Лунный свет струится на крыши, сонно ложится тень. Город спит. Я не сплю.
Вот я думаю об Елене. Мне странно теперь, что я мог полюбить ее, мог убить во имя любви. Я хочу воскресить ее поцелуи. Память лжет: нет радости, нет восторга. Утомленно звучат слова,ласкают лениво руки. Как вечерний огонь угасла любовь. Снова сумерки, скучная жизнь.
Я спрашиваю себя: зачем я убил? Чего я смертью добился? Да, я верил: можно убить. А теперь мне грустно: я убил не только его, убил и любовь. Так грустит печальная осень: осыпается мертвый лист. Мертвый лист моих утраченных дней.
25 сентября.
Я взял сегодня случайно газету. Я прочел мелким шрифтом, из Петербурга:
«Вчера вечером в гостиницу Гранд-Отель явилась полиция с предписанием задержать проживавшую там дворянку Петрову. В ответ на требование открыть, за дверью раздался выстрел. Взломавшими дверь чинами полиции был на полу обнаружен еще не остывший труп самоубийцы. Производится следствие».
Под фамилией Петровой скрывалась Эрна.
26 сентября.
Я не знаю, как это было. Ночью, под утро, к ней постучались. Постучались негромко. В комнате было темно и тихо. Она чутко спала и тотчас проснулась. Вот постучались опять, уже настойчивее и громче. Она быстро поправила косы и встала. Не зажигая огня, босиком, подошла к большому столу, направо, у фортепьяно. Ощупью, так же бесшумно, вынула из ящика револьвер. Я сам подарил его ей. Потом она начала одеваться, все еще ощупью, в темноте. Постучались в третий, в последний раз. Полуодетая, она ушла в угол, к окну. Откинула темную занавеску. Увидела каменный двор, сырой и узкий. Вместо звезд – тусклый фонарь внизу… Двери уже ломали. Кто-то мерно стучал топором. Она повернулась к дверям и сильным гибким движением прижала револьвер к груди. К голому телу. У сердца, пониже соска. Потом она лежала навзничь в углу. На ковре чернел револьвер. И опять было темно и тихо.
А теперь, вот сейчас, она, как живая, стоит у моих дверей. Локоны сбились, голубые глаза потухли. Она дрожит хрупким телом и шепчет:
– Жорж, ты ведь приедешь .. . Жорж …
Я сегодня пойду по Москве. Горят кресты на церквах. Звонят уныло к вечерням. В улицах говор и шум. Все мне близко и чуждо. Вот решетка и крест. Здесь Ваня убил. Там, в переулке внизу, умер Федор. Здесь я встретил Елену … В парке плакала Эрна .. . Все прошло. Был огонь, теперь тает дым.
27 сентября.
Мне скучно жить. Однозвучно тянутся дни, недели, годы. Сегодня, как завтра и вчера, как сегодня. Тот же молочный туман, те же серые будни. Та же любовь, та же смерть. Жизнь, как тесная улица: дома старые, низкие, плоские крыши, фабричные трубы. Черный лес каменных труб.
Вот театр марионеток. Взвился занавес, мы на сцене. Бледный Пьеро полюбил Пьеретту. Он клянется в вечной любви. У Пьеретты жених. Хлопает игрушечный пистолет, льется кровь – красный клюквенный сок. Визжит за сценой шарманка. Занавес. Номер второй: охота на человека. Он – в шляпе с петушьим пером, адмирал швейцарского флота. Мы – в красных плащах и масках. С нами Ринальдо ди Ринальдини. Нас ловят карабинеры. Не могут поймать. Снова хлопает пистолет, визжит шарманка. Занавес. Номер третий. Вот Атос, Портос, Арамис. На золоченых камзолах брызги вина. В руках – картонные шпаги. Они пьют, целуют, поют, иногда убивают. Кто смелее Атоса? Сильнее Портоса? Лукавее Арамиса? Финал. Шарманка жужжит затейливый марш.
Браво. Раек и партер довольны. Актеры сделали свое дело. Их тащат за треуголки, за петушиные перья, швыряют в ящик. Нитки спутались. Где адмирал, Ринальдо, влюбленный Пьеро, – кто разберет? Покойной ночи. До завтра.
Сегодня на сцене я, Федор, Ваня, генерал-губернатор. Льется кровь. Завтра тащат меня. На сцене карабинеры. Льется кровь. Через неделю опять: адмирал, Пьеретта, Пьеро. И льется кровь – клюквенный сок.
И люди ищут здесь смысла? И я ищу звеньев цепи? И Ваня верует: Бог? И Генрих верит: свобода? . . Нет, конечно, мир проще. Вертится скучная карусель. Люди, как мошки, летят на огонь. В огне погибают. Да и не все ли равно?
Мне скучно. Дни побегут за днями. Завизжит за сценой шарманка, спасется бегством Пьерро. Приходите. Открыт балаган.
Помню: позднею осенью, ночью, я был на морском берегу. Сонно вздыхало море, лениво ползло на берег, лениво мыло песок. Был туман. В белесой, траурной мгле таяли грани. Волны сливались с небом, песок сливался с водой. Что-то влажное, водное обнимало меня. Я не знал, где конец, где начало, где море и где земля. Я дышал соленою влагою. Я слышал шорох воды. Ни звезды, ни просвета. Кругом прозрачная мгла.
Так и теперь. Нет черты, нет конца и начала. Водевиль или драма? Клюквенный сок или кровь? Балаган или жизнь? Я не знаю. Кто знает?
Вы ознакомились с фрагментом книги.



