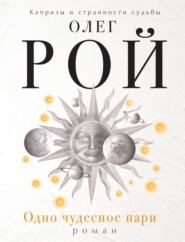
Полная версия:
Одно чудесное пари
Первой причиной была семья. Маричка была родом из небольшого села под Ужгородом, в Закарпатье – удивительном по красоте крае, славящемся своими древними памятниками, минеральной водой, виноградом, аистами и дуже гарными жинками да девчатами.
Закарпатье – совершенно особенное место, со своим укладом жизни, со своими обрядами и неповторимым колоритом. Вроде бы и Украина, да не совсем, оно и советским-то стало позже, чем остальная часть страны, только после окончания Великой Отечественной войны. А до этого побывало и частью Чехословакии, и частью Венгрии, и самостоятельным государством. Там, на небольшой сравнительно территории, бок о бок проживает два десятка разных национальностей, и говорят там хоть и по-украински, но на особом западном, «западенском» диалекте, отличающемся удивительным смешением польских, молдавских, венгерских, еврейских выражений. Русский язык там тоже все знают, да и не только русский. Чуть ли не любой продавец на базаре легко может объясниться на полудюжине языков – с каждым покупателем на его родном наречии.
Есть в украинском языке слово «чемнiсть», означающее и вежливость, и честь. Не всем эта чемнiсть присуща, но всем известна ее ценность. А жителям Закарпатья – особенно. После перестройки этому краю пришлось особенно нелегко. Целебные источники пришли в запустение, санатории, которые никто больше не посещал, быстро превратились в руины, леса распродали и вырубили. Земля оголилась – и началась экологическая катастрофа. Стихия разбушевалась, ничем не сдерживаемые горные потоки размыли почву, участившиеся наводнения погубили прибрежные села. Людям с тех пор стало очень трудно жить, а в последнее время – особенно, потому что совсем не было никакой работы. Но каждый человек, побывавший в карпатских горах, в тамошних селах, знает – чемнiсть здесь не утрачена. Местное население хоть и обнищало, но с гостем могло поделиться последним. Пусть даже если гость этот зашел на подворье всего на минуту, дорогу спросить. Усмехнутся, услышав русскую речь: «От, москалику…» – даже если «москалик» этот приехал из Киева, – но без помощи не оставят, подскажут, направят, пособят, чем могут, еще и гостинцев в дорогу дадут.
Но в селах, при огородах, теперь остались одни старики да дети, остальных безработица выгнала из родных краев. Чуть не все молодые, сильные, предприимчивые подались на заработки – кто куда. Не миновала эта судьба и Маричку.
В своей семье она была старшей. А еще – три младших сестры да два брата. Их отец вечно пропадал на заработках, мать вся извелась в хлопотах по хозяйству, была вечно усталой и раздражительной. Чуть что – первой доставалось Маричке, она же старшая. Маричка, поистине безответная душа, не огрызалась – не принято в украинской глубинке грубить родителям. «Мамо, не сердьтеся, – только и могла сказать. – От приїде батько, вам буде легше…» Впрочем, и у самой Марички жизнь была не слаще, чем у ее матери, хлопот хватало на целый день. Утром вставала до свету, младших в школу собирала, завтраком кормила, днем помогала всем уроки делать, убирала за ними, одежду и даже обувь им чинила. Каждый вечер, после того, как воды для мытья натаскает, согреет, проследит, чтобы все помылись, уложит да книжку на ночь почитает, Маричка буквально с ног валилась от усталости. А засыпала каждый раз с надеждой: ну, может, хоть завтра мать похвалит, приласкает, скажет хотя бы одно доброе слово? Но мать хвалила старшую только за глаза. Только соседкам-кумушкам рассказывала, какую славную дочку вырастила – заботливую, послушную, работящую. Вот будущему мужу Марички повезет! А самой девушке редко перепадало материнской ласки. Наверно, мать чувствовала, что недолго дочке жить в родном доме, значит, и баловать ее незачем. Так она крепче будет, станет более сильной да стойкой.
А потом, когда Маричке было четырнадцать, в семью пришла страшная весть – отец домой не вернется. Нет, он не сбежал к другой бабе, подальше от своего шумного семейства, не спился, не погиб в драке и не сгинул без вести. Бродяжья доля занесла его в Испанию, где он работал на сборе апельсинов, и там он внезапно заболел гриппом. Казалось бы – грипп обычный, безделица, им каждый болеет по паре раз в год, и ничего… Но отцу Марички не повезло. То ли он вирус какой-то особый подхватил, то ли осложнения начались, но, так или иначе, сильный и не старый еще мужчина умер всего за одну ночь – сердце не выдержало. Мать чуть с ума не сошла от горя и от безысходности, Маричка, как могла, старалась поддержать и утешить ее – но разве есть в мире средство утешить человека в подобной беде?
Свое горе Маричка прятала подальше от людских глаз, но в глубине души страдала никак не меньше матери. Она понимала – все, кончилось ее хоть и далеко не беззаботное, но все же детство. Надо думать, как жить дальше, как помочь семье. До этого она мечтала об институте, хотела выучиться на учительницу… Но какой теперь институт?! Теперь надо получать специальность, которая может прокормить. И как можно скорее. Пришлось ехать в райцентр, поступать в строительный техникум, благо он там был. Маричка училась, а вечерами и в выходные подрабатывала, где только можно. Ни от чего не отказывалась – и уборщицей в больнице была, и посуду мыла в придорожном кафе, и на базаре в мороз торговала. Вот только предложения торговать собой, какие делали многим ее землячкам, отвергала категорически.
После окончания техникума Маричка подалась в Польшу. Тогда с этим еще было просто, пересечь границу пара пустяков: показываешь на таможне банковскую карточку или три стодолларовые купюры – и проезжай, верят, что ты не нищий. А как стала Польша великоважной европейской страной, далеко не всех работников стала к себе пускать – как-никак Шенгенская зона. Перед такими, как Маричка, двери в первую очередь и захлопнулись.
Однако Маричка унывать не привыкла, она была благодарна судьбе и за то, что имела. За пару лет пребывания в Польше она успела поработать рядом с настоящими мастерами и времени даром не теряла – постоянно наблюдала за ними, перенимала приемы, всегда просила объяснить, показать, научить. К двадцати годам уже стала неплохим специалистом, ее заметили и позвали в бригаду, работавшую в Москве. Россия – не Польша, она всех своих братьев, соседей из бывшего «Союза нерушимого» к себе впускает. Со временем даже регистрацию в трехдневный срок, обязательную для гостей Москвы, отменили, разрешили спокойно работать по три месяца. Потом, правда, надо съездить на родину, хоть на день, да съездить, потому как обратно в Москву вернуться можно только с новой миграционной картой.
Маричку-то это правило даже устраивало. Не будь его, она так бы и работала без перерыва из года в год, берегла бы зарплату – а так есть повод раз в сезон обязательно домой выбраться, повидать маму да на удивление быстро подрастающих братьев и сестер. Однако у многих коллег Марички ситуация была куда сложнее. Особенно трудно пришлось строителям из Средней Азии – для них условия пребывания в России были немного строже. Но таджикские, казахские, узбекские ребята быстро сориентировались и тоже стали пользоваться таможенной лазейкой. Раз в три месяца они приезжали в Украину и в тот же день возвращались обратно, с волшебной миграционной картой, которая уравнивала их в правах с украинцами. А что делать? Дома-то работы нет. Так что не зевай, ищи выходы, вертись, как можешь, тогда и сам проживешь, и родным деньги будешь высылать. Волей-неволей приходилось терпеть унижения, постигать всякие бюрократические премудрости, учить язык, заполнять такие хитрые, на неискушенный взгляд, бумаги.
Сколько этих анкет, карточек, бумаг добрая Маричка заполнила своим собратьям по кочевой жизни за то время, когда моталась в плацкартных вагонах то на родину, то на заработки! Сколько дельных советов дала, скольким премудростям московской жизни обучила… Азиаты русский язык знали совсем плохо, Маричка – немного лучше. Даже у молдаван, особенно молодых, возникали трудности с кириллицей – одна надежда на отзывчивых попутчиков. Маричка охотно шла им навстречу, помогала, заполняла заодно со своей карточкой еще десяток других, со всего вагона. Как привыкла быть старшей сестрой, так и несла эту привычку по жизни, не жалуясь и не раздражаясь.
Неудивительно, что на стройке «Неваляшки», куда девушка попала вместе со своей бригадой, все ее знали и любили: веселая, отзывчивая, мастерица на все руки. Все женщины и девушки хотели жить в бытовке с такой соседкой, а все мужчины мечтали хоть иногда попасть к ним на обед. Маричкина стряпня славилась на всю стройку. Тут уж исключений не было – и русские, и молдаване, и даже азиаты с кавказцами, не говоря уж о земляках-украинцах, были горячими поклонниками горячего Маричкиного борща.
Да и не только борща. Веселая стройная девушка нравилась многим и вниманием совсем не была обделена, тем более что коллектив на стройке, как это чаще всего и случается, по преимуществу был мужской. В основном молодые горячие парни, остро нуждавшиеся в женском обществе. Но отзывчивая и заботливая во всем остальном Маричка в этом вопросе казалась неприступной крепостью. Улыбалась всем, со всеми была ласкова и приветлива, но близко к себе никого не допускала. Причем делала это так умело и тонко, что даже самые нахальные ухажеры быстро понимали, что им ничего не светит, но, как ни странно, на девушку не обижались и продолжали к ней хорошо относиться, правда, теперь уже относились как к сестре.
Соседки по вагончику не то чтобы осуждали Маричку, но никак не могли понять причины такой строгости в поведении. Добро бы жених где-то далеко имелся – так ведь нет, не было у Марички никакого жениха ни в родном селе, ни где-то в чужом краю, как она, на заработках.
– Тебе ведь двадцать пятый год уже, – качала черноволосой головой подруга Зухра. – Я в этом возрасте уже восемь лет как замужем была, детей рожала. И тебе пора о семье подумать. А то годы-то идут… С такой работой, как у нас, долго молодой-красивой не будешь. Не заметишь, как время пролетит – и станешь никому не нужна. А пока – вон сколько парней за тобой ходит. И Надир, и Павел, и Василь, бетонщик… Уж Василь точно хорошим мужем будет. Зарабатывает прилично, пьет мало, на тебя не наглядится…
Но Маричка только грустно улыбалась в ответ.
– Что ты, Зухра, о якой семье речь? С нашей-то работой! Сегодня здесь, завтра там, хаты своей нет… В бытовке, что ли, семьей жить?
– И в бытовках живут, – возражала Зухра.
– Та знаю я… Только разве ж это жизнь, разве нормальна семья? Я вот деток очень хочу… А яки ж детки в бытовке? Нет, поки на ноги не встану, о семье и думати нечего!
Вроде бы доводы Марички выглядели очень убедительно… Но на самом деле только сама девушка знала, что все это – лишь отговорки, попытка убедить других, а может быть и саму себя, почему она до сих пор одна. А на самом деле… На самом деле у Марички имелась еще одна причина дорожить рабочим местом именно на стройке «Неваляшки». Причина эта была родом из Лаганского района Калмыкии и звалась Адъяном Джиргаловым.
На Адъяна Маричка обратила внимание почти сразу же после того, как впервые встретилась с ним на стройке, он показался ей симпатичным и интересным человеком. Ему было полегче, чем остальным – все-таки калмык, россиянин, меньше хлопот, меньше всякой бумажной волокиты, да и проверяющие к нему куда как снисходительнее, чем к зарубежным мигрантам. Но судьба заставила и его покинуть родные степи и отправиться на поиски счастья далеко на север. Дома работы было мало, пусть даже для такого хорошего специалиста, как Адъян. Он был сварщиком и варил просто отлично – настоящий мастер в своем деле. Да и не только в своем. Адъян никогда ни от какой работы не отказывался, помогал везде, где нужно. Надо леса крепить – он уже наверху, надо машину разгрузить – разгрузит. А попросит кто-то из женщин-маляров стремянку подержать, пока она наличники красит, – оставит все свои дела, подойдет и подержит. И женщина хоть на эти несколько минут узнает, что такое чувство защищенности, что значит быть в надежных руках.
Маричка нет-нет да и посматривала украдкой на Адъяна. Двадцать девять лет, среднего роста, складный, внешне, по ее мнению, очень привлекательный, даже красивый загадочной восточной красотой. Этой таинственной непроницаемостью, как у спокойной водной глади, под которой ни за что не угадаешь, что кроется – то ли глубина, чистота и покой, то ли омут с чертями. За века существования бок о бок с азиатами славяне так и не научились разгадывать тайны, скрытые в их непроницаемых раскосых глазах, хотя все-таки чувствовали и понимали своих восточных соседей гораздо лучше, чем жителей Западной Европы или обеих Америк. И Восток отвечал им взаимностью. Вообще-то, азиаты – расисты почище европейцев, но все же многие из них вступают в брак со славянами. И у них это не считалось нарушением вековых традиций. Во всяком случае, именно так думала Маричка.
Первое время, глядя на Адъяна, она позволяла себе порассуждать лишь о том, каким прекрасным мужем он станет для кого-то из своих соотечественниц. Какой-нибудь из тех восточных смиренниц, что внешне так скромны и покорны, носят только закрытую одежду, ходят, опустив глаза, разговаривают тихо, почти вполголоса… Но вот только попробуй задень их, разозли чем-нибудь – и они покажут все, на что способен Восток. По сравнению с гневом восточной женщины мировые войны покажутся отдыхом на морском курорте. Только такому парню, как Адъян, спокойному, как скала, по силам укротить разъяренную восточную тигрицу…
Но чем больше они общались с Адъяном, чем чаще, будто случайно, встречались их взгляды, тем активнее Маричку стали посещать мысли и сомнения насчет него. Собственно, почему она так безоговорочно решила, что Адъян женится непременно только на землячке? Мало, что ли, в стране примеров межнациональных браков? Да такой парень просто находка для любой девушки, кем бы она ни была… И невольно она начинала примерять роль невесты на себя. Могла бы она влюбиться в такого парня, как Адъян? Взять и утонуть в его черных непроницаемых глазах? А выйти за него замуж? Для такой девушки, как Маричка, понятия «любовь» и «замужество» были взаимосвязаны и почти неразрывны.
Смогли бы они жить вместе, стать одной семьей? Ведь она, Маричка, совсем не знает калмыцкого уклада, их традиций, обычаев, привычек. Вдруг она не сможет подстроиться под них? Да и захочет ли Адъян взять в жены украинку? На всех стройках, где довелось поработать Маричке, очень популярен был анекдот про мужа-узбека и жену-хохлушку, у которой «руки в боки и плевать, на каком ухе у него тюбетейка». Но смех смехом, а вдруг Адъян недоверчиво относится к женщинам ее национальности? Тем более что она еще и из Закарпатья. В Карпатах крепостного строя сроду не было, люди там, может, и нищие, но гордые и независимые, такими не покомандуешь и легко не подчинишь. Таковы мужчины, таковы и женщины. Хотя внешне-то они спокойны и покладисты, но про таких говорят «себе на уме». По ее, Маричкиному, мнению, это скорее хорошо, чем плохо, но кто знает, вдруг Адъян считает иначе?
И вот еще вопрос: как приняла бы Маричкина родня ее азиатского мужа? Что сказала бы мать, увидев скуластых узкоглазых внуков? Собственно, насчет мамы Маричка не очень волновалась, та много раз говорила ей, что примет любого мужа старшей дочки, лишь бы человек оказался хороший, честный, работящий. Адъян именно таким и был. Но одна его особенность точно насторожила бы родню и соседей Марички. Первое, чем встретили бы ее жениха в родном селе, – горилка, а Адъян не пил. Этот невозмутимый калмыцкий парень вообще не употреблял спиртного. И в конце рабочего дня не снимал напряжение пивом, и в выходные или в праздники наотрез отказывался от водки. Сначала на стройке решили, что он мусульманин. Причем правоверный. Мусульмане ведь тоже разные бывают. Кто-то строго придерживается традиций, а кто-то и весьма не прочь согрешить, только шутит: «Ничего, сейчас темно, мы под крышей, Аллах спит, не видит!» Но от мусульман Адъян держался особняком, в праздниках их не участвовал, и сосиски ел, и салом не брезговал – а ведь все знают, что мусульмане свинину не едят. Значит, не мусульманин. Тогда почему же не пьет?
Со временем Маричка узнала, что не пьет Адъян не из религиозных соображений, а просто потому, что не одобряет пьянства. Хотя другие его единоверцы к алкоголю относятся спокойно. Адъян был буддист, в Калмыкии все буддисты. Он сам ей рассказал об этом, когда случилось вместе работать в холле первого этажа.
К тому времени Маричка уже призналась себе, что ей очень нравится этот сдержанный, серьезный парень. Да и он сам норовил почаще бывать рядом с ней. Тут ничего объяснять не надо, когда людей неудержимо тянет друг к другу, то всегда подворачивается возможность побыть вместе. Тем более в таком обособленном мирке, как стройка. Во время работы они постоянно пересекались, а в свободное время Маричка старалась зазвать Адъяна с ними на ужин. Мужчины ведь они такие, сами готовить не любят, если в столовую не идут, то питаются кое-как, все больше хлеб жуют да сухую лапшу кипятком разводят. Разве ж это еда! Но Адъян редко принимал ее приглашения – стеснялся. Маричка не знала, что придумать, но ей помогла Диля, соседка по бытовке, предложила Адъяну заодно с Мишей, ее парнем, скидываться в общую казну на еду – чтобы питаться вместе уже «официально». На этот вариант Адъян охотно согласился (еще бы, все мужчины на стройке мечтали бы о таком!), а в благодарность помогал им на кухне и старался при любой возможности еще и принести что-нибудь вкусное к столу.
В общем, всем хороший парень, одна беда – буддист… Его вероисповедание огорчало Маричку. Как она скажет своей маме-христианке, что собирается замуж за буддиста? С тем, что ее избранник – калмык, мама еще согласится. Всплакнет, конечно, для порядку, но она и так бы всплакнула, даже если бы дочка выходила за самого что ни на есть щирого украинца. А с тем, что дочка будет жить с буддистом, никогда не смирится. Буддисты же в Бога не верят – как можно от этих людей ждать постоянства и порядочности? Христианин знает: будет поступать хорошо, Бог его благословит достойной жизнью, а после смерти пожалует в раю сытость, спокойствие и вечное блаженство. А будет грешить – начнутся неприятности, навалятся болезни, несчастья, а после смерти черти утащат душу грешника в ад. А у нехристей никаких таких правил в жизни нет.
Мама Марички, ставшая после отъезда и особенно кончины отца очень религиозной, неустанно повторяла детям эти нехитрые мысли. И Маричка считала, что тут все правильно и справедливо, хоть сама и не была такой уж ярой христианкой, посты соблюдала нестрого и в церковь ходила редко, либо по большим праздникам, либо по зову души. Но союза с нехристем, да еще с представителем такой чудной веры, она побаивалась.
Вообще, у этих буддистов ничего не понятно. Маричка слушала рассуждения Адъяна и недоумевала. Как можно не верить в Бога? Это же так естественно – осознавать, что есть Бог, он, конечно, строг, но ведь и справедлив, и милосерден. Он каждому воздаст по заслугам, но раскаявшихся грешников обязательно простит. Бог, который видит и сочувствует твоим мукам и тяготам, утрет каждую слезу… Но Адъян тем не менее не верил. А верил во что-то совершенно нелепое, в какое-то перерождение души… По его мнению, каждая душа после смерти не отправлялась в рай или ад, а оставалась на Земле, вселяясь в другого человека, животное и даже деревья и камни.
Не переставая работать, Адъян неспешно рассказывал о своей вере. Говорил, что согласно буддизму нелепо и даже опасно тратить свои душевные силы на мелкие дрязги, ссоры, житейские подлости. Надо быть выше этого, уметь спокойно относиться к неприятностям и никогда никому не делать зла. С последним Маричка была вполне согласна, она и сама считала так же, но вот когда разговор вернулся к тому, что никакого Бога нет, она не удержалась, начала возражать Адъяну… Но тот не стал с ней спорить, только усмехался, а потом вдруг взял ее за руку, несильно сжал, и у Марички внезапно сладко замерло сердце.
После того разговора она впервые задумалась: а может, в этом буддизме что-то и хорошее есть? Ведь Адъян лучше многих из тех, что носят кресты на шее и при этом пьют, сквернословят, воруют, а то и вовсе людей убивают… А Адьян совсем не такой, он каждому готов делать добро.
Взять хотя бы ту же Чуню. Ведь многие поначалу хотели прогнать ее со стройки, чуть ли не издевались над несчастным ребенком. И только когда Адъян вступился за нее и пригрозил, что тот, кто обидит Чуню, будет иметь дело с ним, от девочки отстали. А потом и привыкли. Чуня осталась и сделалась такой же неотъемлемой частью стройки, как бытовки, разрисованный местными жителями забор или серый бетонный остов «Неваляшки».
Чуню Маричка сегодня целый день не видела, но не слишком беспокоилась. Знала – ужин девочка ни за что не пропустит, явится к нему вовремя, как штык.
Глава пятая
Дочь полка
Маричка была совершенно права – уж что-что, а еду Чуня не пропустила бы никогда. Она все время чувствовала себя голодной, даже в последние месяцы, когда женщины со стройки приютили ее, поселили в своей бытовке и стали кормить каждый день, и даже по нескольку раз. Это время, уже почти полгода, стало самым счастливым в жизни Чуни. Но девочка не расслаблялась, понимала – то, что ей однажды крупно повезло, совсем не значит, что так будет всегда. Пройдет еще год, может быть, даже меньше, стройка закончится, рабочие разъедутся кто куда, и ей, Чуне, придется возвращаться к прежней жизни. А это значит – снова вечно мерзнуть и голодать, спать где придется, прятаться от милиции и других опасных людей, лазить по помойкам и добывать себе пропитание милостыней и воровством.
Среднестатистический человек, как взрослый, так и ребенок после определенного возраста, хорошо представляет себе, кто он такой. Он знает, как его зовут и где он родился, помнит день своего рождения и сколько ему лет, и чаще всего для него совсем не тайна, кто его родители или, по крайней мере, мать. Чуня была исключением из этого правила. У нее не имелось даже представления, в каком городе она родилась, и был ли это вообще город, или деревня, или какой-нибудь поселок… Чуня не знала своего имени, помнила только фамилию – Попова. Так ее называли в детском доме, там всех звали только по фамилиям. Когда у нее день рождения, девочка тоже понятия не имела, и даже не была уверена в том, сколько ей лет. Вроде бы девять, но может быть, и десять. А может, пока еще только восемь.
Матери своей Чуня не помнила, отца – тем более. Впрочем, скорее всего, мать тоже не была в курсе, от кого именно она родила ребенка. Так что о своей семье Чуня твердо знала только одно: предкам своим она на фиг не нужна. Мать лишили родительских прав за алкоголизм, наркотики и аморальный образ жизни, когда девочке не было еще и двух лет – уж об этом Чуня была точно осведомлена. Всю информацию о своей семье воспитанники детских домов знали назубок, для них самое важное – знать, что мама все-таки есть. Какая бы ни была, как бы редко ни появлялась, главное – существует… Но выброшенной, как слепой котенок, в житейский водоворот Чуне судьба не дала даже этой соломинки. За те четыре с лишком года, которые она провела в детдоме, мать ни разу не дала о себе знать, не навестила ее, не прислала ни посылки, ни записки. И Чуня объясняла себе это тем, что матери, наверное, уже нет на свете. Ее образ почти не сохранился в памяти, так, что-то мутное, расплывчатое, на уровне ощущений.
Детский дом Чуня помнила более явственно, но старалась особенно не вспоминать. А если вспоминала, то с ужасом. Скудное обитание, неистребимый, какой-то больничный запах хлорки и капусты в коридорах, строгие окрики воспитательниц, издевательства старших ребят и постоянная волчья борьба за место под солнцем… О таких вещах лучше вообще не думать. Единственным светлым пятном в той жизни казалась девочка Маша, старше на шесть лет, которая относилась к Чуне чуть лучше, чем все остальные. За это Чуня была несказанно благодарна Маше, всюду ходила за ней хвостом, как верная собачка. Именно из-за Маши она и оказалась в Москве – подслушала, как та вместе с двумя другими старшими ребятами задумала бежать из детдома. Чуня увязалась за ними, и хотя троица отважных беглецов совсем не горела желанием тащить с собой малявку, им пришлось смириться: иначе поднялся бы шум, всех воротили бы назад и сурово наказали. Так что в столицу двинулись вчетвером – «на собаках». Маленькая Чуня сначала решила, что они и впрямь поедут верхом на больших псах, как ездят на лошадях в кино, но старшие, вдоволь поржав над ней, объяснили, что так говорят, когда едут, пересаживаясь с поезда на поезд.
Ехали они тогда долго, Чуне казалось, что очень долго. Может, потому, что очень уж ей хотелось тогда в Москву, прямо не терпелось туда попасть. Неизвестно с чего, но этот город представлялся тогда детдомовской девочке каким-то раем на земле, сказочным местом, где много еды и игрушек, где всегда тепло и где никто никогда не будет ее ругать, бить и измываться…



