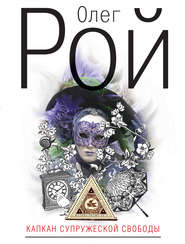
Полная версия:
Капкан супружеской свободы
– Фу, Володя, зачем так грубо! – кокетливо поморщилась Лена Ларина. – Я как-то не могу представить себе нашу Лидочку с протянутой рукой и в нищенском рубище. Впрочем, может, оно ей даже пойдет больше, чем платье, которое на ней сейчас…
Все невольно усмехнулись. Штатная театральная змея высунула жало и, как обычно, слегка, истинно по-женски куснула соперницу. Лидино платье действительно было очень неброским и скромным в это утро, но, на вкус Алексея, оно сидело на ней просто потрясающе именно благодаря изящной простоте покроя. Ее красота была настолько бесспорной, что могла восприниматься почти как штамп, но Лида умела вдохнуть в свои движения столько неповторимости и только ей присущего шарма, что этот штамп переставал быть таковым и приобретал черты подлинного произведения искусства.
– Я говорю то, что есть, – отрезал Демичев, больше всех прочих (включая и Соколовского) озабоченный в последнее время финансовым положением театра. – Я очень надеюсь на завтрашний вечер, ребята. И, конечно, на последующие пробы…
– Ладно, ладно, – чуть фамильярно хлопнул его по спине Леонид Ларин и принялся шумно подниматься из-за стола. – Не боись, Володь, все будет как надо. Что мы, Ивана с Лидой не знаем?.. И мы с Ленкой на подхвате, если что, – надейтесь на нас. Прямо сейчас и на репетицию…
– Нет, – спокойно откликнулся молчавший все это время Алексей. – Зал для репетиций нам предоставили только с трех часов дня. Так что сегодня придется работать за полночь. Играть «Зонтик» будем завтра вечером; останется время и выспаться, и «прогнать» спектакль еще раз, набело. А пока, до трех – гуляй, народ! Любуйтесь Венецией, катайтесь на гондолах, целуйтесь под майским солнцем… И, пожалуйста, приходите на репетицию влюбленные и счастливые, иначе у нас ничего не получится.
– Как скажете, маэстро, – отрапортовал Иван, тоже поднимаясь и подхватывая под руку улыбающуюся Лиду. – Разрешите идти целоваться?..
Пауза повисла в столбе солнечного света, словно гигантский, начертанный чьей-то неведомой рукой вопросительный знак. Но Лида свободно и просто перечеркнула ее, легко высвобождаясь из Ваниного объятия.
– С тобой целоваться мы будем на сцене, Ванечка, – взглянула она ему прямо в озорные глаза. – А сейчас… если ты не возражаешь, конечно… у меня немного другие планы. Я могу рассчитывать на вашу индивидуальную консультацию, Алексей Михайлович?
И Соколовский вздохнул с облегчением, совсем забыв, что только вчера он изволил сердиться на актрису Плетневу за ее излишне открытую демонстрацию труппе своих особых с ним отношений…
Глава 4
– Ты с ума сошел! – смеялась она, отрицательно качая головой и отодвигая от себя блюдо, на котором в живописном и диком натюрморте были разложены крупные креветки, мидии, крабы и еще какие-то морские чудовища, названия которых они даже не знали. – Во-первых, мы совсем недавно завтракали. А во-вторых, я их просто боюсь; ты же знаешь, я никогда не увлекалась этими самыми дарами моря…
Ему тоже было смешно – и потому, что она так забавно кривила губы, нарочито испуганно отказываясь от дорогущего блюда в одном из самых знаменитых ресторанов Венеции, и потому, что Лида всегда оставалась сама собой: ей и в голову не пришло кокетливо ахнуть: «Что ты! Это же так дорого!», как непременно бы сделали девять из десяти известных ему женщин… Он настаивал, уговаривал, твердил, что ей нужны будут в эти дни все ее силы; дошел даже до того, что намекнул, будто по точным, проверенным данным морские кушанья усиливают сексуальный потенциал, а это ей сегодня непременно понадобится. «Завтра, во время спектакля, хочешь ты сказать», – сделала вид, будто не понимает его, Лида, но Соколовскому было все равно, он продолжал смеяться просто оттого, что она была рядом и – ни словом не напоминала ему о вчерашней беседе в аэропорту, точно ничего и не было сказано.
Потом она кормила голубей на площади Святого Марка, и красота ее, словно обрамленная в невыносимо прекрасную оправу венецианских мозаик, показалась ему еще более грозной и притягательной силой, чем когда бы то ни было. Мимо него, устроившегося на лавочке и не отрывавшего взгляда от женщины, в которой сфокусировалось для него сейчас все волшебство мира, проходили толпы туристов. Две толстые немки, оживленно жестикулируя, почти закрыли от Алексея Лидину фигуру. И, глядя на их толстые зады, обтянутые нелепыми шортами, он вдруг понял, почему эта девушка всегда казалась ему такой немыслимой редкостью. Дело не просто в том, что она была красива, а в том, что умела нести свою красоту по жизни, точно награду и наказание, словно личное знамя, словно собственный крест и собственное отличие. В мире вообще-то всегда было не так уж и много привлекательных женщин, а в нашем веке их стало особенно мало. Хотя бы потому, что сто лет назад люди давали себе труд, заставляли себя выглядеть привлекательнее, чем на самом деле; они затягивались в корсеты, надевали немыслимые кринолины, гордо ступали на высоких каблуках и истово верили, что красота требует жертв. Нынче же все принесено в жертву не красоте, а комфорту, и толстые немки, думал Алексей, – лучшее тому подтверждение. Ведь они могли бы выбрать для себя иную, куда более идущую им одежду, но туристическое удобство заставило этих женщин не только бесстыдно напялить на себя узкие, изуродовавшие их шорты, но даже горделиво фотографироваться в них на фоне Дворца дожей…
Лида, насколько он знал ее, никогда не позволила бы себе исказить собственный облик неизящной, пусть даже супермодной прической или безвкусным платьем. Она была женщиной до мозга костей, и присущее ей благоговение перед красотой – в чем бы та ни выражалась, пусть даже в ее собственном теле, – отчего-то бесконечно трогало и волновало его мужскую душу. Соколовский вздохнул, вспомнив о том, что его собственная жена, одаренная природой, пожалуй, не намного меньше красавицы-актрисы, ни за что не желала приложить дополнительные усилия к тому, чтобы стать еще лучше. Ей вполне достаточно было данного ей Богом, и никакой особенной заботы о своей внешности она проявлять не собиралась. Прежде Алексей даже мысленно не позволял себе сравнивать Ксению с Лидой, но теперь он не смог удержаться от мимолетной и не слишком-то благородной по отношению к жене мыслишки: недаром, видно, один из пиков разводов приходится на женский возраст «сразу после сорока»… В это время женщина почему-то запускает и теряет себя, перестает интересоваться такими «презренными» материями, как внешняя привлекательность и сексуальная озаренность. А вот уже в сорок пять… о, не случайно народная мудрость об этом возрасте говорит «баба – ягодка опять»! Как ни странно, как ни парадоксально, но к середине пятого десятка женщина снова расцветает «красотой дьявола», и Соколовский уже много раз замечал, насколько интереснее и привлекательнее сорокалетних кажутся ему дамы, вплотную приблизившиеся к полувековому юбилею…
Толстые немки наконец-то отошли от его скамейки, и он увидел, как издали, с середины площади, машет ему та, которой было еще так бесконечно далеко до пятого десятка. Лида шла ему навстречу, и над ее головой кружились белые венецианские голуби, и мрамор Сан-Марко окружал ее своей вековечной загадкой, и каменные плиты сами стлались ей под ноги, словно бесценные длинноворсные ковры… Солнечные лучи запутались в ее черных волосах, сноп света ударил ему в глаза и ослепил его, и Алексей шагнул к ней, как к единственной женщине на свете.
Они успели еще посмотреть, как выдувают в мастерской драгоценное муранское стекло, полюбоваться фресками одного из торжественных католических соборов и даже выпить капуччино в крохотной уличной кофейне. Избегая разговоров о завтрашнем спектакле и обо всем, что было неоднозначным в их отношениях, они оба тем не менее ни на секунду не забывали ни о фестивале, ни о цели, которая привела их сюда, ни о безумном своем, почти детском желании выиграть. Театр связал их незримыми узами, он был домом для них обоих, и кроме этого театра – их театра – сейчас в мире не было ничего, достойного их внимания и любви. Держась за руки, как дети, мужчина и женщина смотрели друг на друга влюбленными глазами, не отдавая себе отчета в том, что на самом деле они влюблены только в завтрашний день, в ожидаемый успех и в свою сцену.
А уже на репетиции начались неприятности. Прежде всего, работа началась с опозданием: в репетиционном графике, в фестивальной суматохе, которой иногда не удается избежать даже пунктуальным европейцам, произошли какие-то сбои, и труппе Соколовского пришлось ждать, пока зал, извиняясь, не покинут темпераментные французы. Кроме того, оказалось, что площадка, где они будут играть, не просто велика, а чрезвычайно велика; таким образом, «Зонтик», рассчитанный на камерную сцену, попадал в чужеродное для себя, излишне крупное и агрессивное пространство… Но и этого мало; главное, что исполнители спектакля сегодня показались режиссеру какими-то зашоренными, заторможенными, они словно думали о чем-то своем, произнося заученные слова роли, и Алексей, как ни старался, не мог увидеть в них героев своей выстраданной пьесы. Он нервничал, чертыхался, гонял актеров, кричал, что задыхается в этом излишке воздуха, и в конце концов сорвался. Выскочив из зала, пробежав по коридорам дворца, он замер наконец на его мраморных ступенях, которые лизала зеленоватая вода венецианских каналов. Хотелось курить, но сигареты, как назло, закончились, и это показалось ему еще одним невезением, еще одной мелочной несправедливостью судьбы.
С ним произошло то, что уже не раз происходило в решающие минуты его биографии, перед серьезными профессиональными или жизненными испытаниями. Он вдруг начисто лишился способности объективно оценивать то, что делает, перестал чувствовать, хорошо или плохо сработана вещь, не умел определить направление дальнейших поисков. То казалось ему, что все безнадежно испорчено и он переоценил себя и свою труппу, осмелившись участвовать в состязании такого уровня, то, напротив, он вдруг без всяких причин ощущал себя сильным и возрожденным, и азарт преследователя гнал его обратно в репетиционный зал, чтобы настигнуть и ухватить за хвост свою удачу… Такая «болезнь» хорошо знакома многим творческим людям, ее нужно пережить и переспать с ней ночь, чтобы назавтра, обретя вновь способность рассуждать и чувствовать здраво, снова приняться за свое дело. Алексей и теперь пытался убедить себя в этих давно известных ему истинах, но безумная растерянность его не унималась, он чувствовал себя обезоруженным и раздавленным и с ужасом думал о необходимости возвращаться на репетицию.
Кто-то положил ему сзади руку на плечо. Лида молча обняла его и, не говоря ни слова, повела вверх по ступеням старого палаццо. Репетиция продолжилась и закончилась на удивление мирно, и хотя Соколовский так и не увидел этим вечером на сцене того «Зонтика», которым, бывало, восхищался в Москве, все же у него осталось смутное чувство, что показать это пресыщенной итальянской публике не стыдно.
Глубокой ночью, в отеле, они так же молча разошлись по своим комнатам. Больше всего на свете Алексею хотелось сейчас последовать за Лидой и уснуть с ней рядом, защищаясь ее присутствием от кошмаров и комплексов тягучей, не желавшей еще забрезжить даже сереньким рассветом ночи. Но, как суеверный мальчишка, он намеренно заставил себя отказаться от этой простой мечты, будто загадал себе на завтра удачу только в том случае, если сумеет выдержать без Лиды еще одну ночь.
* * *Он не мог поверить своим глазам. То, что происходило на сцене в решающие минуты их выступления, было настолько удивительно, до такой степени не похоже на все виденное им раньше, что душа его замирала и звенела, как натянутая струна, боясь поверить в реальность происходящего. Соколовский всматривался в так хорошо знакомые ему человеческие лица, не узнавая их и пытаясь понять, что же все-таки происходит, – но по-прежнему не узнавал, не понимал, недоумевая и радуясь, точно ребенок…
А на сцене царила Лида. Она подчинила себе и вобрала в себя все действие спектакля, заслонила и заполонила собой привычный образ героини, перечеркнула все намеченные рамки и вознесла идею «Зонтика» так высоко к небу, что теперь ее не узнавал сам автор этой идеи. Она стала и актрисой, и режиссером, и создателем нового спектакля, рождавшегося на глазах молчаливой публики из недомолвок и иносказаний, из пенных и извилистых, как кружево, движений женщины, из ее тончайшей грусти, едва уловимых взглядов и таких нечаянных поворотов фигуры, которых не в силах был бы уловить самый точный фотограф. Она сама играла эту пьесу, и Иван, ее партнер по сцене, подчинился ей с каким-то непонятным и непротестующим восторгом, стушевавшись рядом по воле Актрисы и во имя ее. Алексею же – ее партнеру вне сцены – оставалось лишь смотреть, изумляться, молчать и, быть может, не соглашаясь с ней ни в чем, все же преклоняться перед тем, как эта женщина держит весь зал в своем маленьком кулачке, не потрудившись даже сжать его как следует и упуская между тонких пальцев свое счастье, но не внимание потрясенного зала.
Замерев на фоне кулисы после финальной реплики, сделав неимоверную по напряжению и мастерству паузу, Лида дождалась шквала аплодисментов и раскатистых итальянских «Брависсимо!», которыми наградила ее публика, и мгновенно исчезла со сцены. Соколовский, ринувшись за ней, нашел ее в крохотной гримерке, отведенной русской труппе, неподвижно глядящую в зеркало. Лида повернула к нему побледневшее, одухотворенное какой-то мучительной мыслью лицо, и он произнес совсем не то, с чем бежал сюда, ища эту женщину среди незнакомых артистических уборных.
– Ты не вышла на поклоны. Почему?
– Я не смогла, – совсем просто ответила Лида. – Мне хотелось остаться одной.
Алексей усмехнулся, глядя на нее и восторженно, и ревниво.
– Это непрофессионально, детка. Ты слышишь – еще продолжают хлопать. Ты должна пойти туда.
– Вместе с тобой, – сказала она и встала легко и красиво, протянув ему руку. – Триумф или проигрыш, но это наше общее дело. Не правда ли, маэстро?
О проигрыше речи уже не шло, но режиссер не стал говорить своей актрисе об очевидном и только молча принял ее руку. Когда они вышли на сцену, прихватив с собой из-за кулис и Ивана, зал взорвался новыми аплодисментами, и зрители встали им навстречу. Яркий свет театральных прожекторов упал на Лидино лицо, и Алексей на мгновение позабыл о том, что тоже должен кланяться, заглядевшись на это лицо и подумав, что никогда еще не видел его столь прекрасным. Из милой, прелестной девочки, имевшей способности к театральной игре, в эти часы и мгновения у всех на глазах рождалась талантливая актриса, быть может, даже великая, и ее юная красота на сцене становилась силой, почти сравнимой с силой любви и силой искусства.
Оказавшись вскоре после спектакля на узенькой венецианской улочке и воссоединившись с другими актерами труппы (при этом, разумеется, им пришлось выдержать град мокрых поцелуев Лены Лариной, неуклюжее слоновье пожатие руки ее мужа и искренние, но чересчур долгие поздравления Володи Демичева), исполнители спектакля и их режиссер наконец-то обнялись сами и почувствовали себя победителями. Опустошенные и растерянные, досуха выжатые волнением, как лимон, они тем не менее понимали, что в этот вечер театр Соколовского совершил некий прорыв в будущее и что благодаря Лиде их выступление наверняка не останется на фестивале незамеченным.
– Куда теперь? – спросил Ваня, с каким-то новым для него, непривычным обожанием взиравший на свою партнершу.
– Время еще не позднее, и после нас играют поляки и хозяева-итальянцы. Неплохо было бы все-таки посмотреть сегодня хоть что-нибудь из фестивальной программы, – благоразумно заметил помреж Володя.
Он был совершенно прав. В предыдущие дни Соколовский не настаивал на просмотре спектаклей других участников фестиваля, потому что, во-первых, у них было совсем мало времени, во-вторых, не хотел отвлекать ребят от сосредоточенного настроя на «Зонтик», а в-третьих, не любил перед собственными выступлениями ненужных сравнений и лишних эмоций, то самоуничижительных, то шапкозакидательских. Однако теперь, после бесспорного триумфа и в ожидании решения жюри, конечно, стоило бы поучиться театральным приемам и сценическому мастерству у друзей-соперников из разных стран.
– Ну, нет, – заупрямился Леонид Ларин. – Мы и так все едва живые от волнения и усталости. Если хотите знать мое мнение, то за оставшиеся дни фестиваля мы еще успеем объесться высоким искусством. По-моему, единственное, что нам сейчас нужно, – это хороший ужин и веселая компания.
– Значит, отправляемся в ресторан, – безапелляционным тоном заявила Елена. – Непременно морской, рыбный – это престижно и принято в Венеции.
– А потом закатимся куда-нибудь в ночной клуб, казино или варьете! – обрадовался Иван. Самый наивный и неискушенный из всей труппы, добродушный и непосредственный по натуре, он готов был теперь, как щенок, весело ловить собственный хвост и праздновать с друзьями хоть до утра. – Отметить же надо, ребята, когда еще выпадет такая удача!..
На лице Володи Демичева мелькнуло легкое неудовольствие, он выразительно оглянулся вокруг в поисках чего-нибудь деревянного и, не найдя, постучал костяшками пальцев по Ваниной голове, бормоча: «Тьфу, тьфу, тьфу…» Ларины тоже накинулись на бедолагу с воплями: «Ты что?! Сглазишь!..» И посреди всего этого шума и гама, посреди дружеских тычков и необидных шуток, посреди мужского смеха и женских восклицаний один только Алексей наконец заметил, что Лида до сих пор не сказала ни слова.
– Может быть, спросим все-таки у самой героини? – медленно произнес он, адресуясь ко всем сразу и ни к кому в отдельности.
Она стояла в такой задумчивости, что режиссеру пришлось еще раз повторить вопрос, перекрывая разговоры друзей, и окликнуть ее: «Лида!», чтобы она наконец обратила на него внимание. И когда девушка поняла, чего от нее хотят, то в наступившей вокруг тишине сказала ясно и так спокойно, будто только об этом и думала все время:
– Гондолы. Я хотела бы покататься на гондолах… и, если можно, всю ночь.
Лена Ларина явственно выразила своим взглядом: «Какая банальность!», Леонид почесал в затылке, вспомнив, должно быть, что это довольно дорогое удовольствие, а Ваня Зотов крикнул «Ура!» и залихватски обнял свою партнершу. И только помощник режиссера, оставаясь серьезным и невозмутимым, как скала, проговорил то, что хотел сказать сейчас молчавший отчего-то Соколовский:
– Слово победительницы – закон. Возражения не принимаются: едем кататься на гондолах!
Лида молчала и потом, позже, когда они всей веселой компанией отправились искать гондольеров, и когда нашли их и принялись шумно договариваться о цене и маршруте, забавно смешивая английские слова с исковерканными итальянскими, и когда со смехом загружались в нарядную, черную с золотом ладью, покачивавшуюся над потемневшей водой, и даже когда ей на грудь неожиданно упала роза, предприимчиво подхваченная Иваном перед самой посадкой у уличного торговца… Молчал и Алексей, мрачно подмечая и точно коллекционируя взгляды, которые в этот вечер бросали на Лиду мужчины труппы. Восторженные от Ивана, осторожные и задумчивые от Володи, откровенно заинтересованные от Леонида – все они казались ему опасными и раздражали своим неприкрытым желанием. Ему показалось вдруг, что эти мужчины – все как один – жаждут внимания Лиды, ее любви, ее тела, и, понимая, что ведет себя как мальчишка, он все же сходил с ума от неожиданной ревности и какой-то новой, безумной, стократ возросшей от ее неожиданного успеха страсти.
Рассвет уже заливал бледным светом лагуны Адриатики, когда друзья вернулись в отель. Едва дождавшись последних восклицаний и пожеланий спокойного сна, Соколовский зашел к себе в номер, налил полстакана отличного коньяка из платного бара и выпил резко, одним глотком. Потом постоял немного, глядя в окно на туманную даль моря, едва начавшую розоветь от солнца, и быстро, отчаянно, точно отпуская себя наконец на волю, рванулся по коридору к Лидиной двери.
* * *– Хочешь, поедем с тобой во Флоренцию? – говорил он час спустя, медленно и бездумно поглаживая ее по щеке. – Я мечтаю показать тебе Боттичелли – настоящего Боттичелли, а не те бледные его копии, которые ты видала в цветных альбомах… А еще мы пойдем с тобой на Золотой мост, в эти древние, знаменитые ювелирные лавочки; я хочу, чтобы ты выбрала себе какую-нибудь безделушку на память – флорентийское золото славится во всем мире, ты же знаешь…
Не глядя Лиде в лицо, он почувствовал, что она улыбается, но продолжал размышлять вслух, все так же сонно и неторопливо произнося слова и ощущая себя в эти мгновения волшебником, который может бросить к ногам возлюбленной все радости мира.
– А может быть, лучше в Пизу? Я прежде думал, что эта знаменитая падающая башня тяжелая и темная – так она выглядит на снимках. А оказалось, что она кружевная, белоснежная и точно взмывает в небо… Да и бог с ней, с башней, самое лучшее в Пизе – это узенькие, таинственные улочки, такого настоящего средневековья ты больше нигде не увидишь. Можно рвануть и в Неаполь – юг, солнце, море и пицца… Я забыл – а может, никогда и не знал, – ты любишь пиццу? Или все-таки Рим?.. Мы пойдем с тобой в парк Виллы Боргезе, посидим у фонтана Треви, и на площади Испании я куплю тебе самое настоящее трюфельное мороженое.
– Ты точно декламируешь вслух рекламный путеводитель, – еле слышно засмеялась Лида и гибко потянулась в его объятиях. Простыня соскользнула с ее смуглого тела, точеные руки захватили его голову в крепкое объятие, и он почти не успел осознать поцелуя: таким мгновенным, легким, едва потревожившим губы – как прикосновение бабочки – было это касание.
– У нас остается всего несколько дней, и я хочу, чтобы ты увидела все лучшее в Италии, как когда-то увидел я, понимаешь?
– Понимаю, – прошептала она нетерпеливо. – Полежи спокойно, хорошо?
И ее рука отправилась в неторопливое путешествие по его телу, касаясь его так нежно и бережно, что Алексей, еще не остыв от недавней страсти, вновь ощутил, как сквозь него струится вечный поток желания, захватывая по пути в свою гибельную воронку и ее тело, и их общее в тот момент сознание, и воспоминания о прошлом, и надежды на будущее. Он рванулся навстречу ее рукам, соприкоснулся с ними своими собственными ладонями и забыл обо всем на свете. Ничего заученного, ничего привычного не было в ту ночь в их объятиях; он точно заново открывал для себя волнующие тайны женского тела, а она будто в первый раз ощущала себе повелительницей мужских желаний. Вечная тайна пола, загадка обнажения, череда притяжений и отталкиваний, стойкая грусть в момент самого сладкого трепета и непонятное отчуждение в тот миг, когда губы шепчут: «Я люблю тебя…» – все это суждено было познать им в эту ночь разом, вспомнить давно забытое, угадать неизведанное и ощутить себя счастливыми в тот самый час, когда счастье, горько плача, навсегда покидало их…
– А знаешь, – сказала Лида, дождавшись, когда дыхание их вновь стало спокойным и они обрели способность разговаривать, – я почему-то всегда знала, что нам суждено быть вместе. Еще давно, тогда, когда ты почти не замечал меня среди актрис театра и обращался со мной официально-вежливо, по имени-отчеству.
– Разве такое бывало? – рассеянно спросил Соколовский, которому в этот миг слова «нам суждено быть вместе» не показались ни напыщенными, ни опасными.
– Еще как бывало! Ты казался мне холодным, как лягушка, занудным и очень-очень старым… Но я все равно полюбила тебя. Я думала еще тогда, что у тебя должно быть два дома: один – где ты спишь, обедаешь, хранишь вещи, разговариваешь со своей женой, а второй, настоящий – где сияют огни сцены, где ты владеешь умами и душами и где рядом с тобой – я. Глупо, правда? Но ведь в конце концов все так и вышло. Мне хотелось вдохнуть в тебя новые силы, помочь тебе идти дальше, изменить твою судьбу – и попробуй только сказать, что мне это не удалось!
Он слушал ее лепет рассеянно и отстраненно, едва заметно касаясь рукой ее груди и ощущая сейчас такую близость к этой женщине, какой ни разу не чувствовал раньше. Лида никогда прежде так открыто не говорила ему о том, что любит, и это всегда было на руку Алексею: ведь, кроме искренней страсти в постели и новых ролей в театре, он ничего не мог дать ей. Понимая, что его собственный семейный очаг выстроен раз и навсегда, что он не может – а главное, не хочет – ничего менять в нем, режиссер и радовался, и боялся того, как развивается его связь с актрисой. Но хотя Лида ни разу в жизни не произнесла слова «брак» по отношению к ним двоим, его мужского опыта и самомнения вполне хватало для того, чтобы знать наверняка: то, что он тоже не заговаривает об этом, разочаровывает и обескураживает женщину, заставляет ее сомневаться в себе, своих чарах, своей необходимости этому человеку и, следовательно, охлаждает ее чувства к нему.
До сих пор Соколовскому это было почти безразлично. Он твердо был уверен в том, что никогда не оставит жену… потому что считал, что и Лида никогда не оставит его, и он ничего не теряет в отношениях с ними при всех своих рокировках. Однако теперь, после разговора в аэропорту, о котором Лида так и не обмолвилась больше ни словом… и после того, как она вчера играла… и после всех этих взглядов, которые, казалось, воровали ее у него… нет, теперь он больше ни в чем не был уверен.



