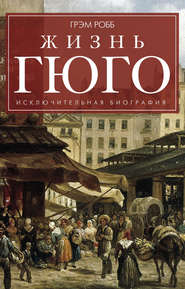
Полная версия:
Жизнь Гюго
Как ни странно, именно такое мнение о «вольтерьянской Армии спасения» бытовало в той параноидальной среде, с которой Гюго мальчиком столкнулся в Испании. Именно так считали прогрессивные сторонники французов. Но его замечания содержали в себе нечто большее, чем просто тщеславный исторический анализ или возвращение к детским предубеждениям. Прежде чем пройти по следам отца, Гюго воссоздавал их. Полвека спустя он хвастает 740 ругательными статьями об «Отверженных» в католических газетах и радостно записывает откровение, высказанное в одной клерикальной мадридской газете: оказывается, «никакого Виктора Гюго не существует, а истинным автором „Отверженных“ является создание, называемое Сатаной»{104}. Отец Гюго действовал на стороне Бога; повинуясь Божьей воле, носители прогресса были славными людьми: «Пусть сегодняшняя армия возьмет на заметку: те люди не подчинились бы приказу, если бы им велели открыть огонь по женщинам и детям».
Последнее замечание – откровенная неправда. Именно после той страшной кампании генерал Гюго получил титул граф Сигуэнца, и наградили его вовсе не за совестливость.
Во время ожидания в Байонне Виктор и его братья пресытились театром (в Париже театр посещали раз в год). Они смотрели «Вавилонские развалины», популярную мелодраму с джинном, калифом, евнухом и люком в полу. На следующий вечер они снова посмотрели «Вавилонские развалины». Так продолжалось пять дней. На шестой они с отвращением остались дома: очевидно, сокращение зрителей не гарантировало изменения в программе. Вместо театра Виктор коллекционировал птиц, которых покупал у местных мальчишек, раскрашивал картинки в своей книжке «Тысяча и одна ночь», подаренной ему Лагори, и слушал дочь хозяйки, которая читала ему вслух.
Во время одного из таких чтений произошло событие, которое позже Гюго пожелал включить в свою биографию, составленную женой. При виде вздымающейся груди девушки у него впервые возникла эрекция – или, как написано в неопубликованном варианте биографии, «его зрелость заявила о себе». Гюго также описал великое событие в тексте, который он намеревался опубликовать: «Я вспыхнул и задрожал [, когда девушка заметила, куда он блудливо смотрит. – Г. Р.] и притворился, будто играю с большой дверной задвижкой… Именно тогда я увидел первый невыразимый свет, который засиял в самом темном уголке моей души»{105}.
Этот, что типично, неловкий и вместе с тем утонченный перифраз – великолепная демонстрация того, что литературные правила приличия, даже стыдливость, имеют определенные эстетические преимущества. Кроме того, зарисовка напоминает о том, что в весело журчащем ручейке романтической прозы имеются и более темные подводные течения. Без определенной дисциплины то, что теперь кажется самоограничением и эвфемизмом, мелочи, которые в ином случае производят впечатление банальностей, утрачивают свою пророческую глубину. Текст Гюго запечатлел жизненно важный миг. Здесь не просто первое плотское желание девятилетнего мальчика, но и первый намек на средства выражения «невыразимого», сохранения таинственного отпечатка звуков и предметов в мозгу. «Пока она читала, я не обращал внимания на смысл слов; я прислушивался к звуку ее голоса».
Наконец настал великий день: в театре давали новую пьесу. Прибыл покрытый белой пылью гренадер; его прислали сопровождать госпожу Гюго и ее сыновей через границу в Ирун, где собирался обоз. Впервые, будучи совершенно сознательным существом, Гюго увидел, как приподнимается занавес над совершенно новым миром. Через тридцать два года он заново открыл для себя Ирун и пытался сбросить покров городского «улучшения», который угрожал разрушить его прошлое: «Именно там Испания впервые явилась мне и так поразила меня своими черными домами, узкими улочками, деревянными балконами и прочными дверями – меня, ребенка Франции, выросшего среди красного дерева Империи. Мои глаза привыкли к постелям с звездным узором, к креслам с лебедиными шеями, вешалками в форме сфинксов, к позолоченной бронзе и бирюзовому мрамору. Теперь, с чем-то, напоминающим ужас, я видел огромные резные буфеты, столы с изогнутыми ножками, кровати под балдахинами, массивное, изогнутое столовое серебро, витражные окна – тот старый Новый мир, который раскинулся передо мной. Увы!.. Теперь Ирун похож на Батиньоль»[4]{106}.
Семейство покинуло Ирун с обозом в бочкообразной старинной карете, обитой металлическими пластинами от пуль. Ее тащили шесть мулов, в горах впрягали четырех быков. Рядом с каретой и позади нее маршировали две тысячи пехотинцев и кавалеристов. Кроме них, в обозе насчитывалось еще сто карет, выкрашенных в имперские цвета – зеленый с золотом. На высокогорных перевалах на фоне неба иногда появлялись силуэты, и все вспоминали, что предыдущий обоз был перерезан у Салинаса. Женщин изнасиловали, детей изуродовали (кто-то рассказывал Виктору, что партизаны особенно любят детей), а мужчин изжарили на вертелах. Обоз, с которым ехала Софи Гюго, был в три раза меньше предыдущего: считалось, что так ехать безопаснее. В них стреляли только один раз.
На каждом привале их ставили на ночлег в чьи-то дома. Хозяева оставляли еду и исчезали, что-то бормоча, за закрытыми дверями. При виде мух и прогорклого масла Софи Гюго почти покинула храбрость. Чем ближе они подъезжали к Мадриду, тем меньше оставалось свежей еды и тем больше видно было следов деятельности французов. В Торквемаде и Саладасе спать оказалось негде: оба городка разрушили до основания. Виктор и его братья играли среди развалин. Однажды мимо них проследовал «полк калек» – изуродованные остатки французских батальонов, которым велели самостоятельно возвращаться во Францию. До родины добрались немногие.
Почему Софи Гюго решила подвергнуть жизнь своих детей опасности, становится яснее в свете происшествия, которое имело место за городком под названием Мондрагон. Дорога шла под гору; мул оступился, и карета покатилась в пропасть. Одно колесо зацепилось за валун. Пока гренадеры вытаскивали карету на дорогу, Софи Гюго приказала детям оставаться на месте и не хныкать – они же не девчонки! В рукописной версии биографии Виктора Гюго написано, что его мать «была очень тверда в своей образовательной системе». Для нее такое крещение огнем было просто родительским долгом. Однажды, застав пяти- или шестилетнего Виктора в слезах, она в виде наказания отправила его гулять в девчачьем платье{107}. И отец и мать считали, что нежелательные стороны характера можно вырезать – как во время хирургической операции. Путешествие в Испанию должно было стать неоценимой частью воспитания Виктора – если бы их, разумеется, не убили.
Софи Гюго не учитывала, что те, ради кого она старалась, попробуют создать похожие ситуации по собственной инициативе. Жизнь Гюго перемежается, почти через равные промежутки, происшествиями, которые требуют явных проявлений храбрости, и убежденностью в том, что его родные и близкие охотно последуют за ним на ту сторону пропасти. Другим непредвиденным последствием стало то, что «храбрость», которая для Софи Гюго во многом заключалась в сохранении лица, заставляла ее сына безудержно раздувать собственные достижения и позволяла предавать друзей.
Путешествие призвано было стать и познавательной экскурсией. В этом смысле оно имело большой успех. В Бургосе, на середине пути, Виктор Гюго обнаружил в себе страсть к архитектуре. Его заворожил собор с фейерверком башенок и механической фигурой, которая выходила из окна, прорезанного высоко в стене, три раза хлопала в ладоши и исчезала. Откровение готической фантазии в Бургосе, возможно, объясняет, почему некоторые читатели считали, что собор в романе Гюго о горбуне не слишком похож на собор Парижской Богоматери.
Два года спустя, когда французы отступали из Испании, генерал Гюго разрушил три башенки и выбил знаменитые витражные окна, взорвав крепость и часть города. Но и в 1811 году французы уже оставили в Бургосе свой след. Софи Гюго водила сыновей на могилу прославленного Сида Кампеадора, национального героя Испании. Французские солдаты, не ведающие, по глупости своей, о том, как их поступок повлияет на настроения испанцев, использовали гробницу как мишень в тире{108}. Тем временем генерал Гюго, начальник мадридского гарнизона, деловито разрушал и вывозил сокровища национального достояния. Он распорядился доставить в Лувр и Люксембургский дворец шедевры Веласкеса, Мурильо и Гойи – об этом счел нужным упомянуть лишь автор статьи о генерале Гюго в испанской «Универсальной энциклопедии».
Уместно вспомнить, что Виктор Гюго, который столько сделал для сохранения средневековых произведений живописи и архитектуры, был сыном человека, который воровал и взрывал их. Большую часть творчества Гюго можно рассматривать – как он рассматривал его сам – как своего рода репарацию и паломничество: эпос о Сиде в «Легенде веков» и две пьесы, которые получили названия тех мест, которые он проезжал в 1811 году, – «Торквемада» и «Эрнани». Несмотря на собственническое, покровительственное отношение к истории как к источнику вдохновения, испытываешь некоторую неловкость, читая откровения Гюго о подвигах отца в Испании. Он всячески стремится преувеличить и собственные дары, сделанные этой стране, не говоря уже о знании испанского языка{109}. Вместе со всеми, кто впоследствии писал об этом, Гюго находился под впечатлением, будто он подарил маленькому городку Эрнани первую букву из своей фамилии. На самом же деле город всегда так и назывался: Hernani{110}.
Последней насмешкой судьбы стало то, что живописную Испанию, которую сын генерала Гюго позаимствовал для своих стихов и пьес, позже «реимпортировали» его испанские почитатели; они внесли свой вклад в создание фиктивной самобытности культуры.
Проведя в пути больше трех месяцев, обоз достиг окраин Мадрида. Важно было произвести хорошее впечатление. Солдатам приказали вымыться, причесаться, переодеться в чистые мундиры. Ружья начистили, а госпожа Гюго приказала вымести свою карету. Потом они попали в пыльную бурю и прибыли в Мадрид грязные и уставшие, зато живые и невредимые.
И сразу же попали в бой. Для них распечатали похожие на пещеры комнаты во дворце бывшего французского посла князя Массерано. Генерал граф Гюго в то время находился в Гвадалахаре, где уничтожал бандитов, и в знак приветствия жены в Испании подал на развод. В поддержку своего прошения, адресованного «его величеству Жозефу Наполеону, королю Испании и Индий», он писал, что его «тщеславной», «властной» жене удалось истратить 12 тысяч франков просто на поездку, без приглашения, из Парижа. Доказательство того, что его власть попирают.
Вернувшись из Парижа, где крестили сына Наполеона, Жозеф Бонапарт под каким-то благовидным предлогом примирил супругов Гюго. В августе генерал Гюго прислал жене огромную корзину со свечами и апельсинами, а также несколько своих мундиров, как будто желая сказать, что по крайней мере частично он будет жить с семьей.
Оставалось ждать, пока легендарный человек явится лично. В ожидании Виктор и его братья обследовали дворец{111}. Больше всего их влекла к себе галерея, увешанная портретами предшественников Массерано. Портреты казались огромными из-за множества зеркал и люстр. Софи Гюго решила, что в галерее мальчики будут играть. Три мальчика бегали там друг за другом, гадали, какие еще сокровища спрятаны за запертыми дверями, и нашли две огромные японские вазы, в которые очень удобно было залезать во время игры в прятки. Перед сном Виктор купался в мраморной ванной и засыпал под Девой Марией, пронзенной семью стрелами.
Иногда с ним в вазе сидела местная девочка по имени Пепита{112}. «Ей было шестнадцать; она была высокая и красивая», в шелковой сеточке для волос, расшитой дублонами, и «в курточке тореадора» из синего бархата с черным кружевом. За Пепитой ухаживали военные; судя по всему, она позволяла мальчику-французу целовать себя, чтобы раздразнить своих ухажеров.
Пепита составляла разительный контраст с Аделью Фуше, маленькой буржуазкой, оставшейся в Париже. Она была дочерью профранцузски настроенного маркиза Монтеэрмозы. Ее мать так любила Францию, что стала любовницей Жозефа Бонапарта. Кажется слишком удобным совпадением: пока Виктор Гюго играл с дочерью, старший Бонапарт наслаждался обществом матери, – как ни странно, об этом Виктор Гюго никогда не упоминает. Примечательно и другое: подружка Гюго позировала не кому иному, как самому Гойе. Таким образом, у нас есть возможность сравнить ее описание, сделанное Гюго в книге «Искусство быть дедом» (L’Art d’Être Grand-Père), в части, озаглавленной «Во что одевался дедушка, когда был маленьким», с портретом кисти Гойи и разглядеть лицо, которое Гюго старался сохранить в памяти до конца своих дней. Такой была «испаночка» – позже он находил сходство с ней в своей невесте, Адели. «Испаночку» вспоминает герой «Последнего часа приговоренного к смерти» (Le Dernier Jour d’un Condamné). Возможно, она же послужила источником для цыганки Эсмеральды из «Собора Парижской Богоматери» (Notre-Dame de Paris). Адель и Пепита были чем-то похожи: черные волосы и глаза, сильное, немного круглощекое лицо, серьезность и демонстративная сдержанность. Но в главном они были разными. Если отвлечься от любопытной «одномерности» на портрете Гойи, видно, что лицо Пепиты сохраняет определенную игривость и смелость. Последних качеств недоставало Адели. Она ни за что не позволила бы себе влезть в вазу вместе с возбужденным мальчиком.
Родители Виктора тоже в некотором смысле играли в прятки. В сентябре 1811 года генерал случайно узнал страшную тайну: его жена жила с другим. С юридической точки зрения ее преступление было гораздо серьезнее его постоянной любовницы. Жестокий гений генерала Гюго (выражение Софи) заставил его отрицать помощь, которую он когда-то получил от Лагори, и в письме королю Жозефу обвинить собственную жену в «государственной измене». Специально ли он делал упор не на личной, а на политической неверности жены? Как бы там ни было, он рассчитывал, что сыновей отдадут ему.
Абеля сделали пажом короля Жозефа; в глазах младших братьев он вдруг стал взрослым. Пажи при франко-испанском дворе носили синюю форму с золотой отделкой, шелковые чулки, шляпу с белыми перьями и – мечту каждого мальчика – меч{113}. Прежде чем поступить на службу к королю, Абель должен был вместе с Виктором и Эженом посещать школу для сыновей знатных родителей в близлежащем монастыре Сан-Антонио-Абад, который французы называли «Коллежем для знати».
Софи Гюго оставила детей в бессолнечных, гулких коридорах с двумя монахами – одним тонким, другим толстым; от обоих пахло склепом. Воспитанная в духе Просвещения, она сообщила монахам, что ее сыновья не смогут посещать мессу, поскольку они протестанты. Но с детьми французского генерала обращались почтительно. Кроме того, братья Гюго на несколько лет опережали других учеников в латыни, и потому их сразу зачислили в старший класс. Такое быстрое повышение могло примирить их с потерей матери, но вместо того лишь усилило их замешательство. Власть и бессилие сочетались друг с другом. Иногда генерал катал их в карете вместе с любовницей, самозваной «графиней де Салькано», но мальчики редко видели отца во плоти. Чаще они узнавали о нем от других. Образ получался глубоким и впечатляющим. Кажущиеся хвастливыми преувеличения в оде «Мое детство» (Mon Enfance), скорее всего, очень точно описывают детские впечатления:
По землям десяти покоренных расЯ проезжал беззащитный, пораженный их боязливым почтением.В таком возрасте, когда принято жалеть, я казался защитником,А когда я произносил заветное имя: Франция,Иностранцы бледнели{114}.Воспоминания Гюго о мадридском коллеже бывают и радостными, и мрачными – в зависимости от идеологического контекста. Похоже, все неприятности коренились в семейном разладе. В городе начался голод; в школе урезали пайки, но в его воспоминаниях сохранились только сладкие дыни и олья подрида – мясо, тушенное с овощами. Позже он часто требовал приготовить это блюдо у себя дома. В почти пустынных дортуарах зимой гуляли сквозняки. Братьям Гюго прислуживал несчастный маленький горбун, к которому они относились как к своему камердинеру.
Облачая свой образ в один из самых невероятных костюмов, Гюго утверждал, что боролся за императора в стенах школы и нападал на любого, кто называл его «Наполевор»{115}. Тем не менее из первоначальных 500 в Мадриде остались всего 24 ученика, и практически все они были из профранцузски настроенных семей{116}. Сами монахи из осторожности старались рисковать лишь своими принципами. Самый злой испанец доставлял главным образом эстетические неудобства; то был ленивый мальчишка с громадными, похожими на лопаты руками, по фамилии Элеспуру, который вновь появляется, под той же фамилией, в третьем акте драмы «Кромвель» (1827) в роли придворного шута{117}.
Сильнее всего школьная жизнь в Мадриде повлияла на братьев там, где личная, семейная жизнь смыкается с политикой. В коллеже принято было называть не имена, а титулы – маркиз, граф и т. д. Какое отличие от мрачного класса Ларивьера на улице Сен-Жак! Первые впечатления Гюго о себе в глазах общества едва ли наградили его скромностью. Виктор и Эжен Гюго успевали по латыни лучше, чем остальные, монахи боялись наказывать их, у них был брат, который носил меч, их отец был другом короля, их мать жила во дворце, а соученики обращались к ним «виконт».
Восемь месяцев домашних невзгод и общественного величия в оккупированной Испании можно рассматривать как начало странных отношений Гюго с собственным именем. «Имя – это характер», – как объявляет он в «Отверженных» (Les Misérables){118}, но какое имя казалось настоящим десятилетнему виконту Гюго? Он купался в лучах отцовской славы; он привык, что к его матери обращались «госпожа генеральша». Но в путешествии она именовала себя «госпожой Требюше», иногда добавляя к девичьей фамилии название крошечного теткиного имения в Бретани: Требюше де ла Ренодьере. Тем самым Софи полностью отвергала генерала и в семейном, и в общественном, и в географическом смысле. Зато имя Виктора стало воспоминанием о человеке с улицы Фельянтинок. При таких вехах с самого начала жизни не приходится удивляться тому, что карта «Гюголенда», страны Гюго, становилась все сложнее и рельефнее.
Если бы наполеоновская империя просуществовала дольше, возможно, писатель, которого мы знаем как Виктора Гюго, стал бы испанским поэтом по имени граф Сигуэнца. «Мои труды были бы написаны на языке, на котором не так много говорят, и, таким образом, возымели бы не такое мощное действие»{119}. Привилегия выжившего – писать о прошлом с юмором. В этом смысле падение Наполеона I и позже Наполеона III вымостило Виктору Гюго путь поверх Второй империи.
Весной 1812 года французы хлынули из Испании тысячами. Веллингтон наступал на Мадрид. Госпоже «Хугау» было выдано дорожное предписание, и она воссоединилась с Виктором и Эженом. Абель оставался с отцом. В тринадцать лет он считался солдатом – что больше говорит об отчаянном положении французов, чем о военной доблести самого Абеля. Сотни семей уже покинули столицу пешком и умерли от жажды на равнинах Старой Кастилии, где колодцы отравили конским навозом и трупами животных.
Воспоминания Гюго об обратном пути отрывочны и внушают ужас{120}. Они мрачной тенью нависают над всей его последующей жизнью, хотя эту тень легко не заметить: странные, сюрреалистические происшествия, которые вскоре окажутся почти воображаемой интерлюдией к их парижской жизни.
У ворот Витории они видели прибитые к распятию голову, руки и ноги племянника главаря бандитов. В Бургосе Виктор увидел процессию кающихся грешников с фонарями, которых сопровождал человек, сидевший на осле задом наперед; вскоре его задушили гарротой на главной площади. Бургос, со своей плахой и собором, можно назвать колыбелью для двух маний Гюго: сохранение прошлого и отмена смертной казни. Обе мании связаны с его отцом.
Наконец, испытав огромное облегчение после того, как они пересекли границу у Сен-Жан-де-Люс, они увидели на постоялом дворе телегу.
«Это был передок телеги, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и бревен. Передок состоял из массивной железной оси с сердечником, на который надевалось тяжелое дышло; ось поддерживала два огромных колеса». Почему на таком долгом и богатом событиями пути ему запомнилось нечто столь незначительное? Вот тайна, которую мифологизированный разум Гюго старается избавить от неизбежной банальности в «Отверженных»: «Под осью свисала полукругом толстая цепь, достойная плененного Голиафа… и что-то в ней напоминало о каторге, но каторге циклопической и сверхчеловеческой; казалось, она была снята с какого-то чудовища…
Для чего же этот передок стоял здесь, посреди дороги? Во-первых, для того, чтобы загородить ее, а во-вторых, чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые так же открыто располагаются на пути общества, не имея для этого иных оснований»{121}.
В апреле 1812 года семья без отца вернулась в переулок Фельянтинок. Там ничего не изменилось. «Господин де Курлянде» не вернулся. Следующие два года в жизни Виктора Гюго кажутся монотонными, спокойными и почти нормальными: уроки у Ларивьера, расширенная программа в публичной читальне, cabinet de lecture, игры в саду с Аделью Фуше, которая напоминала ему Пепиту. Софи Гюго часто ходила одна куда-то в гости, а к кому – не говорила. Единственным эхом испанских событий стала все более острая нехватка денег. Жозеф Бонапарт распорядился переводить Софи часть жалованья генерала Гюго, но платежи поступали нерегулярно. Почти вся французская армия теперь состояла из новобранцев, которым вообще ничего не платили.
Только однажды в тот тихий период, когда «Великая армия» покидала сожженную Москву, но перед тем, как французам предстояло проделать тысячу миль в русскую зиму, детство Гюго соприкоснулось с важными историческими событиями. Как-то в октябре 1812 года шел моросящий дождь. Виктор и Эжен играли у церкви Сен-Жак-Дю-О-Па, напротив школы Ларивьера, и вдруг увидели листовку на одной из колонн. Нескольких военных, которые в отсутствие императора попытались свергнуть его, приговорили к смертной казни. Братьев поразила фамилия одного из приговоренных заговорщиков: Сулье («Башмак»). Остальные фамилии – Мале, Гидаль, Лагори – ничего им не говорили.
Как они выяснили позже, казнь положила конец деятельности их матери в роли заговорщицы. 23 октября генерал Мале доказал, что империя – перевернутая с ног на голову пирамида, которая ненадежно покоится на одном человеке. Поддельный документ убедил тюремщиков Мале в том, что Наполеон погиб в России. Лагори освободили, а затем с его помощью арестовали двух правительственных министров и начальника полиции. Полдня любовник госпожи Гюго был министром полиции. Когда обман раскрылся, против заговорщиков приняли быстрые и крайние меры – возможно, следователи боялись гнева Наполеона, который обрушился бы на их головы после его возвращения. Лагори расстрелял взвод солдат на окраине Парижа. Во все парижские лавки, где торговали подержанной одеждой, разослали агентов в штатском, которым приказали скупить всю военную форму, чтобы ничего подобного не повторилось.
Позже, в семьдесят три года, Гюго утверждал, что в тот исторический момент он был на стороне матери. «Был вечер; началось отступление из Москвы, и на империю упала „ужасная тень“. Мать взяла Виктора за руку и указала на большой белый плакат: „Лагори, – сказала моя мать. – Запомни эту фамилию. – Потом она добавила: – Это твой крестный“. Так в моем детстве появился призрак»{122}.
Такие вымышленные истории, основанные на пересказе с чужих слов, красноречиво доказывают, что их автор грешит против истины. Он ощущал свою оторванность от мира родителей и пытался очертить границы своего детского бытия, опираясь на известные исторические факты.
В то время единственным крупным событием, повлиявшим на жизнь Гюго, стало разрастание Парижа. Скоро город поглотит часть сада в переулке Фельянтинок. Выросла арендная плата. В конце 1813 года семья переехала в скромный отель на улице Вьейль-Тюильри (теперь это дом номер 42 по улице Шерш-Миди). Там же жила семья Фуше. В крошечном дворике места хватало лишь для нескольких цветов. Софи была подавлена; она страдала от клаустрофобии. Мальчики как будто угадывали надвигающуюся анархию, а может, неосознанно выражали протест против более стесненных обстоятельств. Их игры стали более жестокими. Софи Гюго решила строже приглядывать за сыновьями. В письме к Абелю в сентябре 1813 года Софи демонстрирует свой стальной характер. Позже между ней и Виктором установится особенно тесная связь; всю жизнь его дружеские отношения и романы будут окрашены некоторой высокопарностью. Он как будто считал, что дружба – своего рода епитимья, а любовь – во многом абстрактное понятие.
«Не стану бранить тебя, мой милый Абель, за то, что не написал мне раньше. Твое молчание я объясняю скорее безрассудством и неумением понять мою неизбежную тревогу, а вовсе не отсутствием любви с твоей стороны. И все же, мой милый, постарайся, чтобы впредь такое не повторялось.



