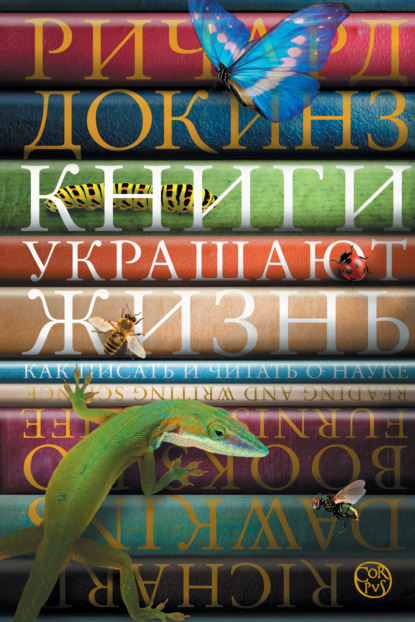
Полная версия:
Книги украшают жизнь. Как писать и читать о науке
Что вообще все это значит, спросите вы? Ладно, подождите:
Мы встречаем наших сексуальных предков вдоль наклонной плоскости знаков и означающих, через посредство языка. Использование любых знаков неизбежно затемняет; слова репрезентируют или замещают означаемое в его отсутствие; они суть маленькие черные маски. Мы отдаляем реальность, чтобы обсудить ее; без этого отдаления, этого мгновенного замещения наших сексуальных предков или вещей вообще их знаками не было бы возможности языка, возможности что-то означать вообще. (с. 28)
И где тогда мы были бы?
Как ученый масштаба и скрупулезности Маргулис может повестись на эту претенциозную ахинею – столь же непонятно, как сама эта проза. Будем милосердными: понадеемся, что она поспорила с соавтором и потерпела поражение. Но если вы уважаете Линн Маргулис и ее репутацию, сделайте ей одолжение и не читайте эту книгу.
Детерминизм и диалектика: история шума и ярости
Если предыдущая рецензия самая жестокая из моих рецензий, то эта – на книгу “Не заложено в наших генах” (Not in Our Genes) Стивена Роуза, Леона Камина и Ричарда Левонтина, вышедшая в 1985 году в New Scientist[34], – вероятно, самая саркастическая из всех, что мне доводилось публиковать. Жестокой я бы ее не назвал, потому что все три автора книги – альфа-самцы, которые, мягко говоря, могут за себя постоять. Один из них как раз и постоял, когда вышла рецензия: он угрожал подать в суд на меня и на New Scientist. Угрозы кончились ничем. И все же, не желая чинить лишних обид, я убрал из этого переиздания тот конкретный абзац, который его задел.
Моя рецензия вышла в разгар так называемых “дебатов о социобиологии”. История этих дебатов компетентно освещена социологом Улликой Сегерстроле. Современный консенсус состоит в том, что сторона, представленная рецензируемой книгой, решительно проиграла этот бой. Ее вдохновленный марксизмом подход к эволюционной биологии теперь ощущается как нечто совсем устаревшее, и приверженцев его среди представителей естественных наук не так много. Поэтому возникает вопрос, не излишне ли перепечатывать эту рецензию. В то время, однако, дебаты были исключительно ожесточенными – так почему бы не извлечь из этого полезный урок для будущего?
Те из нас, у кого есть время сосредоточиться на нашей исторической миссии эксплуатировать трудящихся и подавлять меньшинства, чрезвычайно нуждаются в “легитимации” своей вредоносной деятельности. Первым придуманным нами легитиматором стала религия, которая на протяжении большей части истории работала достаточно эффективно; но “статичный мир социальных отношений, легитимированных Богом, отражал господствующий взгляд о самом мире природы как о статичном – и отражался в нем”.
В последнее время стала расти потребность в новом легитиматоре. И мы его придумали: это Наука.
Следствием стало окончательное изменение формы легитимирующей идеологии буржуазного общества. Больше не способный опираться на миф о божестве… господствующий класс низверг Бога и заменил его наукой… Если уж на то пошло, этот новый легитиматор общественного порядка стал даже более грозным, чем тот, которого он вытеснил… Наука – высший легитиматор буржуазной идеологии.
Легитимация также является основной целью университетов:
Университеты стали главными институтами формирования биологического детерминизма… Таким образом, университеты служат создателями, проводниками и легитиматорами идеологии биологического детерминизма. Если биологический детерминизм – оружие классовой борьбы, то университеты – оружейные фабрики, а их преподавательские и исследовательские кадры – инженеры, проектировщики и рабочие производства.
Подумать только! Все эти годы, работая в университетах, я воображал, будто цель науки – раскрывать тайны Вселенной: познавать природу бытия, пространства, времени и вечности; фундаментальных частиц, рассеянных по 100 миллиардам галактик; сложности организации жизни и ее медленного танца на протяжении трех миллиардов лет геологического времени. Но нет, все эти мелочи бледнеют на фоне главенствующей потребности легитимировать буржуазную идеологию.
Как мне резюмировать эту книгу? Представьте себе нечто вроде Дейва Спарта от науки, пытающегося попасть в “Уголок Псевда”[35]. Даже тамошние благодарности честно предупреждают нас о том, чего ожидать. Там, где другие могли бы поблагодарить коллег и друзей, наши авторы благодарят “любимых” и “товарищей”. На самом деле я считаю это довольно милым, так сказать, ретро-шестидесятническим. Недаром же 1960-е играют мифологическую роль в странной конспирологической теории науки авторов. Именно в ответ на это райское десятилетие (когда “студенты бросили вызов легитимности своих университетов…”) “стала легитимироваться новейшая форма биологического детерминизма, социобиология”.
Социобиология, по их словам, делает два утверждения, “необходимые, чтобы служить легитимизации и сохранению общественного порядка” (курсив мой). “Панглоссианство”[36] социобиологии “играет важную роль в легитимации”, но не является ее главной особенностью:
Социобиология – редукционистское, биологически детерминистское объяснение человеческого существования. Ее сторонники утверждают, во-первых, что особенности социальных установлений прошлого и настоящего суть неизбежные проявления конкретного действия генов.
К несчастью, академические социобиологи, необъяснимо пренебрегая своей ответственностью за классовую борьбу, похоже, на самом деле нигде не говорят, что человеческие социальные установления – неизбежные проявления генов. Роузу, Камину и Левонтину (далее – РКЛ), соответственно, приходится подыскивать подтверждающие цитаты, находя их у таких почтенных социобиологов, как мистер Патрик Дженкин (в бытность его министром социальных служб) и всевозможные сомнительные представители Национального фронта, а также у “новых правых”, чьи работы мы, как правило, не читаем (они, несомненно, благодарны за рекламу). Министр обеспечивает особенно удачный пример “двойной легитимации науки и Бога…”.
Но хватит, давайте начистоту. РКЛ не могут подтвердить свое обвинение социобиологов в том, что они верят в неизбежную генетическую предопределенность, потому что это обвинение ложно. Миф о “неизбежности” генетических эффектов не имеет никакого отношения к социобиологии, а имеет отношение лишь к той параноидальной и демонологической теологии науки, которой придерживаются РКЛ. Социобиологи, включая меня (я всегда не любил это название, однако книга буквально провоцирует меня встать и причислить себя к ним), заняты попытками разобраться, при каких условиях дарвиновская теория может быть применима к поведению. Если бы мы попытались теоретизировать по Дарвину, не постулируя, что гены влияют на поведение, мы бы ошиблись. Вот почему социобиологи так много говорят о генах, понятно? А идея “неизбежности” им и в голову не приходит.
У РКЛ нет ясного понятия о том, что они подразумевают под биологическим детерминизмом. “Детерминист” для них всего лишь половина двуствольного термина, примерно с той же ролью и с таким же недостатком содержания, как “менделист-морганист” в лексиконе предыдущего поколения товарищей. Второй нынешний ствол, стреляющий сколь монотонно, столь и неточно, – “редукционист”.
[Редукционисты] утверждают, что свойства человеческого общества суть… не более чем суммы поведения индивидов и склонностей отдельных людей, из которых состоит это общество. Например, общества “агрессивны” потому, что “агрессивны” составляющие их люди.
Поскольку я охарактеризован в книге как “самый большой редукционист среди социобиологов”, я явно могу говорить со знанием дела. Я считаю, что Бах был музыкален. Следовательно, будучи хорошим редукционистом, я, очевидно, должен считать, что мозг Баха состоял из музыкальных атомов! Неужели Роуз и пр. всерьез думают, что кто-то может быть настолько глупым? Наверное, нет, однако мой пример с Бахом – точная аналогия тезису “Общества «агрессивны» потому, что «агрессивны» составляющие их люди”.
Почему РКЛ считают необходимым редуцировать совершенно рациональную посылку (что сложное целое следует объяснять в категориях его частей) к идиотской пародии (что свойства сложного целого суть просто сумма тех же свойств частей)? “В категориях” охватывает множество чрезвычайно сложных причинно-следственных связей и математических отношений, из которых суммирование лишь самое простое. Редукционизм в смысле “суммы частей” – очевидная глупость, и такового нигде не находится в работах настоящих биологов. Редукционизм в смысле “в категориях” – это, словами Медавара[37], “самая успешная исследовательская стратагема, когда-либо изобретенная”.
РКЛ говорят, что “некоторые наиболее проницательные и хлесткие критические высказывания в адрес социобиологии исходят от антропологов”. Два самых знаменитых антрополога – это Маршалл Салинс и Шервуд Уошберн, и их “проницательные” критические высказывания, безусловно, заслуживают рассмотрения. Уошберн полагает, что, так как у всех людей, независимо от степени родства, более 99 % общих генов, “генетика в действительности подкрепляет представления общественных наук, а не выкладки социобиологов”. Левонтин, блестящий генетик, мог бы, если бы захотел, быстро прояснить это прискорбное небольшое недопонимание теории родственного отбора. Салинс, в книге, охарактеризованной как “уничтожающая атака” на социобиологию, считает, что теория родового отбора не может работать, потому что лишь у меньшинства человеческих культур развилась идея доли (необходимая, видите ли, чтобы люди могли рассчитывать свои коэффициенты родства!). Левонтин-генетик не потерпел бы подобные элементарные ляпы на уровне первокурсника. Но для Левонтина как “радикального ученого”, по-видимому, любая критика социобиологии, неважно, сколь топорная и невежественная, оказывается проницательной, хлесткой и уничтожающей[38].
РКЛ видят свою главную роль как отрицательную и очищающую и даже позиционируют себя как отважную маленькую пожарную команду, которую “постоянно вызывают среди ночи, чтобы потушить очередное возгорание… Все эти детерминистические пожары нужно заливать холодной водой разума, прежде чем загорится весь интеллектуальный квартал”. Это обрекает их на постоянное отрицание, и поэтому они чувствуют обязанность предъявить “какую-то положительную программу понимания человеческой жизни”. Каков же позитивный вклад наших авторов в понимание жизни?
В этом месте становится едва ли не слышно застенчивое покашливание читателя, который уже предвкушает нечто симпатично-эпатажное. Нам обещают “альтернативное мировоззрение”. Что это будет? “Холистическая биология”? “Структуралистская биология”? Знатоки жанра могут сделать ставки на любой из этих вариантов, а то и на “деконструкционистскую биологию”. Но альтернативное мировоззрение оказывается еще лучше: это – “диалектическая” биология? А что именно значит диалектическая биология? Ну, например, представьте себе —
…выпечку торта: вкус продукта – результат сложного взаимодействия компонентов, таких как масло, сахар и мука, подвергнутых в течение различных периодов времени воздействию высоких температур; он неразложим на такой-то процент муки, такой-то масла и т. д., хотя каждый компонент… вносит свой вклад в конечный продукт.
В такой формулировке диалектическая биология выглядит вполне осмысленной. Возможно, даже я могу быть диалектическим биологом. Если подумать, в метафоре торта есть что-то знакомое, правда? Да, точно, вот оно, в публикации 1981 года за авторством самого большого редукциониста из социобиологов:
Если мы последуем определенному рецепту, слово в слово, по поваренной книге, из духовки в конце концов выйдет торт. Теперь мы не можем разделить торт на составляющие его крошки и сказать: эта крошка соответствует первому слову в рецепте, эта второму слову в рецепте и т. д. За малыми исключениями, такими, как вишенка наверху, не существует буквальных соответствий слов рецепта “кусочкам” торта. Рецепт целиком соответствует торту целиком.
Я, разумеется, заинтересован не в том, чтобы заявить о своем приоритете в части метафоры торта (в любом случае приоритет принадлежит Пату Бэтсону). Но надеюсь, что это небольшое совпадение способно как минимум заставить РКЛ призадуматься. Возможно, объекты их критики – не совсем наивные атомистические редукционисты, какими бы им отчаянно хотелось их увидеть?
Итак, жизнь сложна и ее причинные факторы взаимодействуют [англ. interact]. Если это и есть “диалектика”, отлично. Но нет, по-видимому, “интеракционизм”, хотя по-своему хорош, все же недостаточно “диалектичен”. Так в чем разница?
Во-первых, [интеракционизм] предполагает отчуждение организма и среды… во-вторых, он принимает онтологический приоритет индивидуального над коллективным, а следовательно, эпистемологическую достаточность…
Нет нужды продолжать. Судя по всему, подобная манера письма предназначена не для того, чтобы что-то сказать. Так не предназначена ли она для того, чтобы произвести впечатление, скрывая за дымовой завесой тот факт, что на самом деле не сказано ничего?
Преподавание с тьюторским уклоном
Это эссе изначально было написано для сугубо оксфордского круга читателей – “приходского бюллетеня” университета, Oxford University Gazette. Дэвид Палфриман, когда издавал антологию в похвалу оксфордского тьюторского курса в 2008 году, спросил, можно ли его перепечатать, и я охотно согласился[39]. Несколько измененная его версия была также опубликована в Oxford Today (ныне, увы, прекратившем существование), журнале для выпускников университета. Саркастический тон первого абзаца будет понятнее всего в контексте первоначальной аудитории. Британским читателям известно, что в Чиппинг-Онгаре, Херн-Бэе, Кричел-Дауне и т. д. нет университетов. Это все был саркастический прием. Как и рефрен “Что думают студенты?”. Представленность студентов в факультетских комитетах как раз становилась тогда писком моды.
Мы на биологическом факультете собрались для того, чтобы поучаствовать в одной из тех приятных оргий совместного битья себя кулаком в грудь, которые время от времени объединяют совестливых преподавателей. Что мы делаем не так? Как можно улучшить наши способы преподавания и проведения экзаменов? Некоторые другие университеты, говорят, применяют Х; наверное, это убедительное доказательство, что Х должно быть полезно. Действующая система экзаменов несправедливо дискриминирует студентов, неспособных долго удерживать внимание. Может быть, нам стоит ввести систему непрерывного оценивания, как в Чиппинг-Онгаре? Или сделать посещение лекций обязательным, как в Херн-Бэе? Что думают студенты? (Что думают конкретные представители студенчества, входящие в комитет?) Как насчет автоматизированной системы табельного учета для практических занятий? В Кричел-Дауне на “тьюторские занятия” ходят по двадцать человек, а у нас на тьюторский курс записался один полудохлый студент, что вряд ли способствует их обучению. Почему оценки за финальный экзамен так монотонно кучкуются вокруг “посредственно”, вместо того чтобы симпатично распределяться между крайностями? Что думают студенты? Приглашенные экзаменаторы велели нам на будущее сделать Y (они делают Y у себя в университетах, и это успешно работает), но, к несчастью, наши Законы таковы, что нам понадобится Постановление Парламента, чтобы нам разрешили делать Y. Вот хорошая идея: почему бы нам не сделать обучение очень широким, как в Бадли-Солтертоне? Отличное предложение, и пусть оно одновременно будет очень глубоким, как было в моем старом университете. И кстати, что думают студенты?
Все это достаточно знакомо – и достаточно похвально, ибо, несмотря на мой цинизм в начальном абзаце, многое, безусловно, можно улучшить, и, несомненно, наш долг в том, чтобы к этому стремиться. Но одно конкретное заявление, которое с недавних пор набирает популярность, меня просто выбешивает. Наше преподавание обвиняют в “тьюторском уклоне”. Авторы этого выражения – пара внешних экзаменаторов, которым внушили мысль, что их техническое задание состоит не только в том, чтобы комментировать наши экзамены, но и в том, чтобы учить нас управлять нашим университетом. Это выражение было исполнительно подхвачено членами Объединенных консультативных комитетов и теперь разносится по факультетским коридорам. Наше преподавание – “с тьюторским уклоном”, а должно быть “с лекционным уклоном”. Значение “тьюторского уклона” лучше всего объясняется тем, какое средство борьбы с ним предлагают. Тематика тьюторских рефератов должна строго ограничиваться темами, охваченными в официальных лекциях. Тьюторам следует сообщать о содержании лекций, и они должны “затрагивать” (используя претенциозный жаргон игроков в гольф) эти темы в своих курсах. Возможно, лекторы должны раздавать библиографические списки, которые всем тьюторам следует освоить и передать своим студентам.
Я скажу, что меня особенно удручает во всем этом мещанстве. Я сам когда-то был студентом; у нас был тьюторский уклон (в то время мы об этом не знали), и это определило всю мою жизнь. Не один конкретный тьютор, а весь опыт оксфордской тьюторской системы. В мой предпоследний семестр Питер Брунет, мой мудрый и гуманный научный руководитель[40], сумел обеспечить мне тьюторский курс по поведению животных великого Нико Тинбергена, впоследствии получившего Нобелевскую премию за свой вклад в основание этологии как науки. Тинберген самолично читал все лекции по поведению животных, поэтому он был бы хорошо подготовлен к тому, чтобы вести тьюторские курсы “с лекционным уклоном”. Вряд ли надо пояснять, что он этого не делал. Каждую неделю мое тьюторское задание состояло в том, чтобы прочесть одну диссертацию. Мой реферат должен был сочетать в себе отзыв рецензента, предложение, касающееся дальнейших исследований, обзор истории предмета, к которому относилась диссертация, а также теоретическое и философское обсуждение вопросов, поднятых в ней. Никогда, ни на минуту никому из нас не приходило в голову задуматься, будет ли это задание полезно мне непосредственно для ответов на экзаменационные вопросы.
В другом семестре мой руководитель, поняв, что мои наклонности в биологии более философские, чем его собственные, организовал мне тьюторские курсы у Артура Кейна, искрометно блестящей молодой звезды кафедры, который впоследствии станет профессором зоологии в Ливерпуле. Вместо того чтобы руководствоваться в своих тьюторских занятиях какими-либо лекциями, которые могла в ту пору предложить Почетная школа биологии, Кейн заставлял меня читать исключительно книги по истории и философии. Установление связей между зоологией и прочитанным оставалось на мое усмотрение. Я попробовал, и мне понравилось. Не утверждаю, будто мои юношеские работы по философии биологии были хорошими – задним числом я понимаю, что это не так, – но я знаю, что никогда не забуду, с каким восторгом я их писал.
То же можно сказать о моих более серьезных работах на стандартные зоологические темы. Совершенно не помню, читали ли нам лекцию об амбулакральной системе морской звезды. Вероятно, читали, но я рад сказать, что данный факт не повлиял на решение моего тьютора задать реферат по этой теме. Амбулакральная система морской звезды – одна из многих высокоспециализированных тем биологии, которые остались у меня в памяти по одной и той же причине: я писал по ним рефераты. Морские звезды накачивают внутрь себя морскую воду. Морская вода входит в отверстие и постоянно циркулирует по разветвленной системе трубочек, которые образуют кольцо в центре звезды и расходятся ветвями в каждый из пяти лучей. Накачиваемая вода представляет собой уникальную гидравлическую систему, управляющую многими сотнями крошечных амбулакральных ножек, расположенных вдоль пяти лучей. Каждая ножка оканчивается маленькой хватательной присоской, и они согласованно щупают грунт и отклоняются вперед или назад, подтягивая звезду в определенном направлении. Ножки движутся не в унисон, они полуавтономны, и если околоротовое нервное кольцо, подающее им команды, окажется рассеченным, ножки в разных лучах могут потащить звезду в противоположных направлениях и разорвать ее пополам.
Я помню голые факты, касающиеся гидравлики морской звезды, но дело не в фактах. Дело в том, как нас побуждали их находить. Мы не просто зубрили учебник: мы ходили в библиотеку и заглядывали в старые и новые книги; мы прослеживали первоисточники статей до тех пор, пока не приближались к уровню знания всемирных авторитетов по данной теме настолько, насколько это было возможно за одну неделю. Мотивация, которую мы получали на еженедельных тьюторских занятиях, была такова, что мы, можно сказать, жили гидравликой морской звезды или любой другой темой. Помню, в ту неделю гидравлика морской звезды мерещилась мне за едой и являлась во сне. Перед моими глазами маршировали амбулакральные ножки, шевелились гидравлические педициллярии, и морская вода пульсировала в моем сонном мозгу. Написание реферата стало моим катарсисом, а тьюторское занятие – оправданием целой недели. А затем на следующей неделе – новая тема и новый пир образов, навеянных библиотечными разысканиями. Мы получали образование, и наше образование было с тьюторским уклоном[41].
Не хочу сказать, что надо отказаться от лекций. Лекции тоже могут вдохновлять, особенно когда лектор отбрасывает утитиларистскую озабоченность тематическими планами и “передачей информации”[42]. Ни один зоолог моего поколения не забудет молниеносные рисунки сэра Алистера Харди на доске, его декламацию смешных стихов про формы личинок и показ в лицах их странностей, его рассказ о цветущих планктонных полях в открытом море. Другие преподаватели, избиравшие более интеллектуальный и не столь пиротехнический подход, были тоже по-своему хороши. Но, как бы ни занятны были лекции, мы не просили, чтобы наши тьюторские занятия опирались на них, и не ожидали, что наши экзаменационные вопросы будут основываться на лекциях. Вся сфера зоологии считалась для экзаменаторов честной игрой, и единственное, на что мы могли надеяться, – это презумпция того, что наши экзаменационные билеты не будут слишком уж резко отличаться от своих недавних предшественников. Экзаменаторы, выкладывая билеты, и тьюторы, задавая темы рефератов, не знали, какие темы освещались в лекциях, да их это и не волновало.
Ну да, конечно, я только что предавался иной разновидности оргии – оргии ностальгии по собственному университету и его, вероятно, уникальному методу обучения. Я не имею права постулировать, что система, по которой я учился, наилучшая, – и точно так же мои приглашенные коллеги имеют полное право делать зеркальные утверждения о собственных замечательных университетах. Нам следует приводить конкретные аргументы в пользу образовательных достоинств любой системы, которую мы хотим похвалить. И нам не следует постулировать, что то или другое, по традиции делающееся в Оксфорде, – это обязательно хорошо (в любом случае удивительно, насколько недавними зачастую оказываются многие так называемые древние традиции)[43]. Но мы также должны остерегаться противоположного постулата – что если нечто по традиции делается в Оксфорде, это уже самоочевидным образом плохо. Только на основании образовательной пользы я готов отстаивать тезис, что наше оксфордское образование должно сохранять “тьюторский уклон”. А если нет, и если мы решим отменить тьюторскую систему, то пусть по крайней мере мы будем знать, что именно мы отменяем. Если мы заменим оксфордские тьюторские курсы, пусть это произойдет, несмотря на все их достоинства, но произойдет потому, что мы решили, будто нам удалось найти нечто лучшее, а не потому, что мы никогда толком не понимали, что такое настоящий тьюторский курс[44].
Жизнь после света
Я с давних пор люблю роман Дэниела Ф. Галуйе “Слепой мир” (Dark Universe) – с тех самых пор, как мне порекомендовал его один из моих учителей, когда я был еще аспирантом. Поэтому я обрадовался, когда в 2009 году меня пригласили написать предисловие для аудиоиздания[45]. Это текст моего предисловия, который я также сам начитал под запись.
Плохая фантастика, подобно сказке, жонглирует реальностью так, что последняя лениво деградирует до магических заклинаний. Хорошая фантастика ограничивает себя, держится в пределах, заданных наукой, или позволяет себе поменять какую-то часть науки дисциплинированно, чтобы рассмотреть последствия. Самая лучшая фантастика заставляет нас по-новому осмыслить науку, или философию, или, как в случае этой книги, по-новому осмыслить мифологию и религию.
Представьте себе мир, в котором нет света. Нет, не мир, в котором никогда не было света, а мир, в котором свет был, но исчез. Дэниел Галуйе придумал совершенно правдоподобную причину, по которой это несчастье могло случиться с колонией людей, живущих глубоко под землей (во всем остальном совершенно таких же, как мы), с которыми мы знакомимся лишь много поколений спустя после исчезновения света. Нам не рассказывают об этой причине до самого конца книги, хотя читатель может догадаться о ней по многозначительным намекам, разбросанным в тексте. Например, вместо “гражданин” говорят “выживший” (или “выжившая”). Дает ли это подсказку? А религия этих людей включает демонов-близнецов “Стронция” и “Кобальта”, наряду с внушающим страх архидьяволом “Самим Водородом”. А вот распространенные среди “выживших” ругательства: “Радиация!”, “Радиация побери!”, “Кобальт!”.



