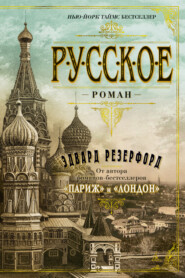
Полная версия:
Русское
С научной точки зрения – это самое большое в мире озеро, ведь стока из него нет. Его окружают степь, горы и пустыня, его вода убывает, испаряясь в воздухе пустыни. А на северном берегу его питает самая известная река России.
Волга-матушка.
Свое великое странствие начинает она далеко-далеко, в заповедных лесах, в самом сердце России. Там русло ее описывает гигантский изгиб, прорезая уединенные северные леса, а потом поворачивает к югу; так, объяв и напитав собой исконные русские северные земли, река делает поворот и несет свои воды по Евразийской равнине на восток, а потом и на юг, и наконец медленно течет дальше, из леса, по волнуемой ветром степи к далеким пустынным берегам Каспийского моря.
Но и за пределами волжской дельты великая равнина все тянется и тянется, постепенно делаясь все более и более негостеприимной. На юге простерлись ужасные пустыни. На севере властвуют темная тайга и вечная мерзлота, в конце концов подчиняя себе всю равнину. До сего дня эти огромные земли остаются почти необитаемыми. За Волгу, через Урал, по ледяным пустыням Сибири, к далекому Тихому океану – равнина тянется более чем на четыре с половиной тысячи километров.
А где же находилась деревня с ее речкой и лесом?
Нетрудно сказать. Она располагалась на окраине южнорусской степи, в нескольких десятках верст к востоку от великой реки Днепр и примерно в пятистах верстах от устья этого великого потока в северо-западной части теплого Черного моря.
Однако, сколь ни странным это может показаться, если бы какой-нибудь чужеземец в то время спросил, как добраться до данного места, едва ли нашелся бы хоть кто-нибудь, кто сумел бы ему это объяснить.
Ибо Государство Российское в ту пору еще не существовало. Древние цивилизации Востока: Китай, Индия, Персия, – находились далеко-далеко, к югу от мощной горной гряды, образующей южную границу равнины. В глазах китайцев, индийцев и персиян пустынная равнина была бесплодной землей.
На западе могущественная Римская империя распространила свое влияние на средиземноморское побережье и даже далеко на север, вплоть до Британии. Однако римляне остановились на опушке тех лесов на востоке, что росли на великой Евразийской равнине.
Ибо что знали римляне о лесе? Лишь то, что к востоку от Рейна обитают воинственные германские племена, а к северу от Балтийского моря – балты, летты, эсты, литва, о которых доходили до римлян только смутные слухи. Этим все и исчерпывалось. О славянских землях, раскинувшихся за владениями германцев, они знали мало, а о финно-угорских народах, обитавших в обширных лесах за Волгой, – совсем ничего. О тюркских и монгольских племенах, которые жили в сердце неизмеримой, необъятной Сибири, за лесом, и слыхом не слыхивали, ни одна весть о них, даже переданная едва слышным шепотом, не проникала из бесконечной степи.
А что знал о степи Рим? Нельзя отрицать, что в Восточном Средиземноморье Рим вторгся даже в пределы Армении, в отроги Кавказских гор; много лет были знакомы Риму маленькие порты на северном побережье Черного моря, куда его корабли приходили за мехами или рабами из внутренних районов этих земель или затем, чтобы встретить караваны, побывавшие на таинственном Востоке и пересекшие ради того пустыню. Но гигантская равнина, лежавшая позади этих небольших гаваней или армянских земель, оставалась для римлян terra incognita – неизвестными краями, населенными варварами, полной опасностей степью, непроходимыми реками. Составленные Геродотом, Птолемеем, Плинием карты классической древности с их детально показанными городами, дорогами и границами начинали полагаться на слухи или обрывались, не успев даже приблизиться к маленькой деревушке.
Да и сами ее жители не могли бы объяснить, где их дом.
Даже сегодня, повергая в замешательство иностранцев, россияне с трудом могут указать нужное направление. Спросите, проходит ли дорога на восток или на запад, на север или на юг и на сколько километров – и русский не сумеет дать ответ. Да и зачем ему это на бескрайней равнине, где один бесконечный горизонт сменяет другой, столь же бесконечный?
Однако он может сказать вам, как текут реки.
Потому-то и жители крохотной деревушки знали, что их маленькая речка впадает в другую маленькую речку, а та спустя непродолжительное время впадает в могучий Днепр. Они знали, что где-то далеко, за южной степью, Днепр впадает в море.
Но только это они и знали. Лишь пятеро из них видели Днепр.
Не желая погрешить против истины и стремясь верно передать тогдашнее положение вещей, мы не можем говорить о России, еще не существовавшей в ту пору; не в силах мы и указать ориентиры, по которым можно было бы определить таковое положение. Мы можем сказать лишь, что деревушка эта находилась на землях к северу от Черного моря, где-то к востоку от реки Днепр и к западу от реки Дон; немного восточнее леса и немного западнее степи; на одной из тысяч рек, не нанесенных ни на какую карту. Едва ли кто-то смог бы сообщить более точные сведения, да и кому было здесь до них дело?
Ветер пролетал над землей, едва касаясь, и летняя ночь опустилась над бескрайним пространством. На западной окраине великой равнины сгущались сумерки. Здесь, в южной деревушке, сияла звездами полночь, хотя дальше, к северу, ближе к полярным широтам, все еще не рассеялся бледный сумрак. На востоке, возле Уральских гор, час был самый ранний, стояла глубокая ночь. В Центральной Сибири занимался рассвет; на берегах Тихого океана утро вступило в свои права, а еще дальше, на северо-восточной оконечности огромного массива суши напротив Аляски, уже настал полдень. Ночью над бескрайней равниной могли бушевать грозы, проливаться дожди, неистовствовать ураганы, и никто их не замечал. В паре тысяч верст к северу от деревушки над лесом разразилась гроза с громом и молнией, но здесь царила тишина. И неужели хоть кто-то знал, какие грозовые облака проносились над лесными чащобами, какие шатры разбивали в степи, какие огни горели на бескрайней равнине в бесчисленных чертогах ночи?
Маленький мальчик проснулся с улыбкой.
Ветер задувал в избу, солнечный свет, проникнув сквозь квадратный оконный проем, большим бледным четырехугольником лежал на земляном полу.
– Уже проснулся, ягодка моя?
Она подошла к полатям, где спал ребенок, приблизив к нему широкое лицо. Позади нее в горнице суетились люди. В одном углу висела на длинном деревянном крюке, прикрепленном к стропилам, колыбель с младенцем.
Горница была просторная. Стены ее, глиняные, на деревянном каркасе, были грязно-серого цвета. Такой оттенок они, как и во всех остальных избах этой деревушки, приобрели из-за того, что в домике с длинной дерновой крышей не было дымохода: дым из большой печи невозбранно заполнял горницу, и только потом его выпускали, подняв ставень над маленьким отверстием в потолке. Таким образом, помещение быстро нагревалось, а его обитателям закопченные стены представлялись чем-то давно знакомым и желанным. Однако сегодня огонь в печи не разожгли. Воздух в горнице был чист и прозрачен, царила приятная прохлада.
В избе были еще два помещения: за печью – сени, через которые попадали в горницу, а с противоположной от сеней стороны – еще одна каморка, служившая одновременно мастерской и клетью. Здесь стоял ткацкий станок, всевозможные бочонки, лежали мотыги, серпы, а на стене, на почетном месте, висел топор, принадлежащий хозяину дома. Вся изба, выстроенная на дубовых сваях, вершков на десять была вкопана в землю, и потому, чтобы выйти наружу, приходилось выбираться, как из неглубокой ямы.
Мать умыла мальчика водой из бурого глиняного кувшина. Он не отрываясь смотрел мимо нее на полосу сияющего солнечного света, простершуюся на полу.
Но думал он при этом о чем-то другом.
Она улыбнулась, заметив, как завороженно глядит он на залитый солнцем пол.
– Как мы говорим про солнечный свет? – тихо спросила она.
– Придет в дом – не выгонишь колом. Пора придет – сам уйдет, – послушно произнес нараспев он.
Он посмотрел в окно. Ветер шевелил его светлые волосы.
– А как говорим о ветре?
– Без рук, без ног, а дверь отворяет.
Он уже выучил наизусть с десяток таких речений. Женщина знала сотни простеньких, непритязательных загадок, присказок, присловий, поговорок, пословиц – вроде тех, где солнечный свет сравнивался с непрошеным гостем, а ветер – с невидимым пришельцем. Во всех этих бесчисленных изречениях народ с восторгом предавался словесной игре, творя и обогащая свой язык.
Через мгновение она его отпустит. Он просто изнывал, так ему хотелось выбежать за дверь и посмотреть, вдруг медвежонок уже здесь?
Она быстро заглянула ему в рот. У него недавно выпали два молочных зуба, но на их месте выросли новые. Еще один шатался, но пока ни один больше не выпал.
– Полон хлевец белых овец, – блаженно пробормотала она.
А потом отпустила его.
Он бросился к двери, пробежал через сени и выскочил наружу.
Напротив избы был разбит крохотный огород, где накануне он помогал матери вытаскивать большую репу. Справа крестьянин укладывал сельскохозяйственные орудия на старую деревянную телегу с мощными колесами, выточенными из одного куска дерева. Слева, немного подальше, у реки виднелась маленькая баня. Она была построена всего три года тому назад и предназначалась не нынешним обитателям деревни, у которых была своя баня, побольше, а предкам. В конце концов, маленький Кий знал, что мертвые любят попариться не меньше живых, даже если увидеть их невозможно. Всю его коротенькую жизнь ему только и твердили, что предки гневаются, если не получают положенного почета и внимания.
– Ты же не хочешь, чтобы о тебе забыли, когда ты уйдешь, ведь правда? – спросила его одна из жен его отца, и он подумал, что конечно же не хочет, чтобы о нем забыли и чтобы самый образ его изгладился из памяти его односельчан и канул в небытие.
Он знал, что мертвые рядом, что они следят за ним, и точно так же знал, что под углом амбара, стоящего перед домом старейшины, жил крохотный, сморщенный деревенский домовой, дедушка его собственного отца, и что домовой, дух его прадеда, принимал самое деятельное участие во всем, что происходило в деревне.
Он вышел из избы. Ничего. Он посмотрел налево, посмотрел направо. Бани и хижины, все как всегда, ни следа медвежонка. Лицо у него тотчас же вытянулось от досады, он и поверить не мог, что его так обманут, разве не видел он ночью, как Мал со стариком, крадучись, выходят из деревни?
Крестьянин, грузивший вещи на телегу, брат одной из его мачех, обернулся и посмотрел на него:
– Тебе чего, мальчик?
– Ничего, дядюшка.
Он знал, что тайну никому выдавать нельзя.
Желудок у него словно налился холодной свинцовой тяжестью, безмятежное голубое утреннее небо помрачнело. Он хотел было расплакаться, чувствуя, что плач принесет облегчение, но, помня, что Мал взял с него клятву молчать, не дал воли слезам, а, закусив губу, повернулся и с грустью ушел назад в избу.
Там его бабушка бранила за что-то женщин, но он уже привык к таким сценам. Его взгляд упал на бубен его матери, висящий в углу; бубен был покрашен красной краской. Он любил красное; красный цвет представлялся ему теплым и дружелюбным, ведь в славянском языке «красный» и «красивый» – однокоренные слова. Кий не отрываясь глядел на грубое лицо своей бабушки: какие у нее большие щеки, ни дать ни взять два куска сала. Она заметила, что внук на нее смотрит, и в свою очередь злобно уставилась на него, а потом велела матери вывести его из избы прочь, мол, нечего тут путаться под ногами.
– Иди поиграй, Кийчик, – ласково сказала мать.
Он снова вышел из избы и тут увидел Мала.
Для Мала ночь выдалась неудачной. Вместе с одним охотником постарше он поставил в лесу ловушку на медвежонка, и им почти посчастливилось. Он поймал бы медвежонка, если бы в последнюю минуту не потерял голову: сделал неловкое движение – и разгневанная медведица-мать бросилась за ним и прогнала. Стоило Малу вспомнить про свой позор – и он невольно багровел от стыда.
Сегодня он собрался помочь мужчинам убрать сено, то есть заслужить одобрение старейшины тяжелым трудом и избежать неприятных разговоров с Кием.
Мальчик и в мыслях не держал, что его дядя спешит мимо избы, лишь бы не вести никаких лишних бесед. Он подскочил к Малу и выжидательно воззрился на него снизу вверх, закинув голову.
Мал с виноватым видом посмотрел налево, потом направо. К счастью, его односельчанин, нагружавший телегу, куда-то отлучился, и они остались одни.
– Ты привел его? Где он? – воскликнул Кий.
Стоило ему завидеть дядю, как надежда снова ожила.
Мал помедлил и ответил уклончиво:
– Он в лесу.
– А когда ты приведешь его сюда? Сегодня? – Глаза у мальчика засияли от восторга.
– Скоро. Как зима наступит.
Мальчик помрачнел от недоумения и разочарования. Зимой? До зимы еще жить да жить…
– Почему зимой?
Мал минуту подумал.
– Я его поймал, накинул ему на шею веревку и так вел, Кийчик; но тут налетел ветер и унес его. Я ничего и поделать не мог.
– Ветер?
Лицо у малыша словно осунулось. Он знал, что ветер – древнейшее из всех божеств. Его дядя частенько говаривал ему: «Бог солнца велик, Кий, но ветер – древнее и могущественнее». Ветер дул днем и ночью, когда солнце уходило на покой. Ветер дул над бескрайней равниной, когда ему заблагорассудится.
– А где он сейчас?
– Далеко-далеко, в лесу.
Ребенок слушал его со скорбным видом.
– Но снегурки приведут его назад, – продолжал дядя, – вот увидишь.
Ну почему он лгал? Он смотрел сверху вниз на своего доверчивого племянника и отлично понимал почему. По той же причине, по какой поселился с двумя стариками и ослушался деревенского старейшину. А все оттого, что все его презирали, и, еще хуже, оттого, что ему было стыдно. Вот и не смог сказать он правду мальчишке, который так ждал обещанного медвежонка. «Я глуп и ни на что не годен», – подумал Мал. Да еще и лентяй к тому же. Собирался же весь день до седьмого пота работать в поле, но сейчас больше всего ему хотелось убежать назад в лес, лишь бы не признаваться себе, что он обманщик и бездельник. Прежняя решимость покидала его.
Однако, возможно, еще оставалась надежда.
– Но я знаю, где ветер его прячет, – добавил он.
– Правда? Правда знаешь? – Лицо Кия озарилось радостью. – Расскажи мне!
– Глубоко-глубоко в чаще лесной, в тридевятом царстве.
– А можно туда попасть?
– Только если знать дорогу.
– А ты знаешь? – Само собой, опытный охотник вроде дяди знает дорогу даже в волшебные края. – Как туда добраться?
– Идти на восток, – усмехнулся Мал. – Далеко-далеко на восток. Но я туда и за день доберусь, – похвастался он и на мгновение сам в это поверил.
– Тогда ты его приведешь? – взмолился мальчик.
– Может быть. Когда-нибудь, – посерьезнел Мал. – Но это наша с тобой тайна. Никому ни слова.
Мальчик кивнул.
Мал двинулся дальше, радуясь, что покончено с этим тягостным разговором. Может быть, через несколько дней он придумает, как половчее поставить другую ловушку на медвежонка. Не хотелось огорчать мальчика, ведь тот ему доверял. Уж найдется, как помочь делу.
Мал приободрился. Сегодня будет славная работа в поле.
Кий, задумавшись, тоскливо смотрел ему вслед. Он слышал, как женщины смеются над его дядей Малом, как мужчины его бранят. Он знал, что в деревне Мала величают лентяем. Неужели дяде и вправду нельзя доверять? Кий поднял глаза к бескрайнему, пустому небу, не зная, что и поделать.
Женщины расположились на золотистом поле широким клином вроде того, что образует в летнем небе стайка диких утиц.
В «острие» клина, сопровождаемая с обеих сторон мерно выступающими женщинами, высокая и крупная, шла свекровь Лебеди. Жена деревенского старейшины умерла прошлой зимой, и потому она теперь считалась старшей женщиной селения.
День выдался жаркий. Они работали уже несколько часов, и время клонилось к полудню. В жатву женщины одевались в одни только простые платья, наподобие льняных рубах, да лапти, плетенные из березового луба. Каждая несла серп.
Лебедь обливалась потом, но на душе у нее царил покой, вселяемый равномерным ритмом монотонной полевой работы под солнцем. Хоть иногда эти женщины обращались с нею пренебрежительно, все они в каком-то смысле приходились ей родней: другая жена мужа, сестра другой жены, сестры мужа и их дочери, тетки и двоюродные сестры этих дочерей. Каждую полагалось называть особым, неповторимым именем, выражавшим сложную степень этого родства и надлежащую меру почтения, да еще использовать это имя в уменьшительной форме, столь любимой всеми славянами, и потому эти имена превращались в ласкательные обозначения: «матушка», «сестрица», «золовушка», – да и как еще обращаться друг к другу этим бедным, слабым существам, затерянным на огромной, бескрайней равнине?
Это были ее родичи. Пусть они и называли ее мордовкой, она была одной из них. Она была частью общины –рода, как говорили славяне юга, или мира – так называли общину славяне севера. Землей и деревней они владели сообща, лишь домашний скарб каждого общинника считался его собственностью, а голос старейшины был для них законом.
Теперь свекровь призывала к себе женщин, величая их ласковыми, нежными именами. «Идите ко мне, доченьки, идите, лебедушки, – призывала она, – давайте жать». Даже Лебедь она мягко окликнула: «Пойдем, невестушка».
По-своему Лебедь любила даже свою бранчливую свекровь. «Ешь, что дают, слушай, что говорят», – строго поучала ее старуха. Но если оставить в стороне ее вспышки ярости, иногда она бывала и добра к невестке.
Лебедь оглянулась. Позади нее муж вместе с другими мужчинами взваливал сено на телеги, стоящие посреди луга. Она заметила среди них и брата. На краю поля тихо отдыхали три самые древние деревенские старухи. Она поискала взглядом Кия. Только что он сидел рядом со старухами, но, может быть, пошел посмотреть, что делают мужчины.
Высоко стоит солнце светлое,Не спалит оно землю-матушку.Женщины запели и взмахнули серпами, еще раз склонившись, словно творя молитву величайшей богине, что даровала всем им хлеб, – матери сырой земле.
Великая славянская богиня явилась здесь в своем прекраснейшем облике, ведь деревушка лежала на окраине местности с лучшей почвой, какую только можно было найти на великой равнине, – черноземом.
Подобной земли не сыскать было на всей Евразийской равнине.
На севере, южнее тундры, залегал торфяной глей, малопригодный для земледелия; дальше, южнее лесов, почва представляла собой песчаный подзол, серый там, где произрастали северные лиственные леса, и бурый южнее, где шелестели широкой листвой высокие деревья. На таких почвах урожаи тоже собирали довольно скудные. Однако ближе к степному поясу появлялась совсем другая почва. Это был чернозем, жирный, плодородный и мягкий как пух. И тянулся этот черноземный пояс на сотни и сотни верст – от восточного побережья Черного моря, на восток по равнине, за великую реку Волгу, и уходил далеко в земли Сибири. Славянам, жившим на опушке леса, достаточно было расчистить землю под поле, а потом постоянно ее засевать: на этой плодородной черной земле они могли растить хлеб много лет, пока не истощится почва, и тогда они оставляли поле, которое постепенно зарастало травой, и расчищали другое. Такой способ земледелия был примитивным и утомительным, но на черноземе деревня могла существовать много-много лет, людям не приходилось переезжать на свежие пахотные земли. А потом, к чему волноваться – разве и лес, и равнины не бесконечны?
Как раз когда женщины замолчали, допев одну песню и еще не затянув другую, она увидела, что к ним идет Мал. Красное лицо его поблескивало от пота.
– Что, лентяй, еще работку ищешь? – насмешливо крикнула одна из ее товарок. Даже свекровь рассмеялась, и сама Лебедь невольно улыбнулась. По немного виноватому выражению его лица было понятно, что он под каким-то предлогом потихоньку отлучился отдохнуть. Ее только удивило, что маленький Кий не пришел вместе с ним.
– А где Кийчик? – спросила она.
– Не знаю. Утром я его и не видал ни разу.
Она нахмурилась. Куда же запропастился мальчишка? Она обернулась и крикнула свекрови:
– Можно мне уйти поискать Кия? Он куда-то пропал.
Дородная старуха, почти не прерывая жатвы, бесстрастно взглянула на Лебедь и ее ни на что не годного братца. Потом покачала головой, мол, работа не ждет.
– Сходи спроси у старух, не видели ли они его, – тихо пробормотала она Малу.
– Хорошо.
И он послушно зашагал – размеренно, не торопясь – к краю поля.
Мал всегда забавлялся, сравнивая житье-бытье сельчан. Век мужчине выдавался, может быть, и насыщеннее, но короче. Рос парень и набирался сил – при этом либо худел, либо полнел. А когда силы покидали мужчину, тот попросту умирал. Но женщинам была уготована другая доля. Сначала, белокожие и стройные, грациозные как лани, они расцветали, а потом, все без исключения, толстели: сперва раздавались в бедрах, как его сестра, затем в поясе, выпуклым становился живот. И так неизменно все тучнели и округлялись, загорелые от солнца, напоминая формами кто грушу, кто яблоко, год за годом, пока те из них, что повыше ростом, не обретали величественности и дородности – как вот свекровь Лебеди. Но постепенно, не утрачивая своей уютной округлости, начинали жены умаляться, все уменьшаясь и уменьшаясь в размерах, и вот в старости окончательно усыхали, словно маленькое коричневое ядрышко в ореховой скорлупке. И вот сухонькая бабка, с морщинистым загорелым лицом и сияющими голубыми глазами, будет влачить старушечье свое существование еще много лет, пока так же просто, как упавший с ветки орех, не канет в сырую землю. Такова судьба всех женщин. Настигнет она, в конце концов и его сестрицу Лебедь. Глядя на старух, Мал всегда ощущал нежность и сочувствие.
На краю поля сидели рядком три бабушки. С доброй улыбкой он по очереди обратился к каждой из них.
Лебедь смотрела издали, как он говорит с ними, и удивлялась, почему так долго. Наконец он вернулся, ухмыляясь.
– Старые они, – пояснил он, – разум у них немного помутился. Одна говорит, вроде видела, как он возвращался в деревню вместе с другими ребятишками, другая думала, он на реку пошел, а третья – что в лес убежал.
Лебедь вздохнула. Она и представить себе не могла, что бы это Кию делать в лесу, и сомневалась, что он мог уйти на реку. Остальные дети вернулись в избу под надзор одной из девиц. Может быть, и он с ними.
– Сходи посмотри, не убежал ли он в деревню, – попросила она.
А поскольку это означало отложить работу, Мал с радостью зашагал прочь.
За жатвой женщины продолжали петь. Лебедь любила эту песню: пусть даже медлительная и скорбная, она была так прекрасна, что, напевая ее, женщина забывала о своих тревогах:
А кто землю пашет,Тот в нее и ляжет,Смерть придет-нагрянет,Лиха неминуча.Ни огонь, ни вода,Ни залетные ветра,Только мать сыра земляПриберет свое дитя.Женщины медленно продвигались вперед длинной чередой, нагибаясь, чтобы срезать тяжелые ячменные колосья. Когда их серпы рассекали буреющие стебли, над полем слышался тихий свист, шуршание и шелест. Тонкая пыль от упавшего ячменя стояла над землей легким, благоуханным облачком. И Лебедь, как это часто бывало, охватило чувство умиротворения и одновременно печали, словно какая-то часть ее души погибла навеки, не в силах вырваться из плена этой медлительной, тяжелой жизни, из великого безмолвия бескрайней равнины: печаль она ощущала оттого, что из монотонного, однообразного этого бытия не было исхода, а умиротворение – оттого, что пребывала среди своих родичей и жила так, как всем от века назначено.
Мал вернулся не скоро. Он улыбался обычной своей глуповатой улыбкой, но ей показалось, что она заметила в глазах его тревогу.
– Он там?
– Нет. В деревне его и не видели.
Как странно! Она-то решила, что Кий ушел с остальными, и тут забеспокоилась. Она снова обратилась к свекрови:
– Кийчик куда-то запропастился. Позволь мне пойти его поискать.
Но старуха только взглянула на нее не без презрения:
– Дети вечно куда-то пропадают. Придет, никуда не денется.
А потом добавила, уже более злобно:
– Пусть твой братец его поищет, что ж ему без дела-то маяться.
Лебедь с грустью наклонила голову.
– Сходи на реку, вдруг он туда убежал, – попросила она.
На сей раз она заметила, что брат зашагал быстрее.
Работа двигалась споро. Женщина знала, что вот-вот наступит время полуденного отдыха. И подозревала, что ее свекровь нарочно задерживает их и не пускает отдохнуть, чтобы никуда она, Лебедь, не ушла. Она оторвалась от работы, подняла голову и устремила взгляд на бесконечный горизонт. Теперь он словно издевался над нею – насмешливо, под стать ее свекрови: «Ничего ты не сделаешь; как боги распорядятся, так и будет». Она снова склонилась над полосой.

