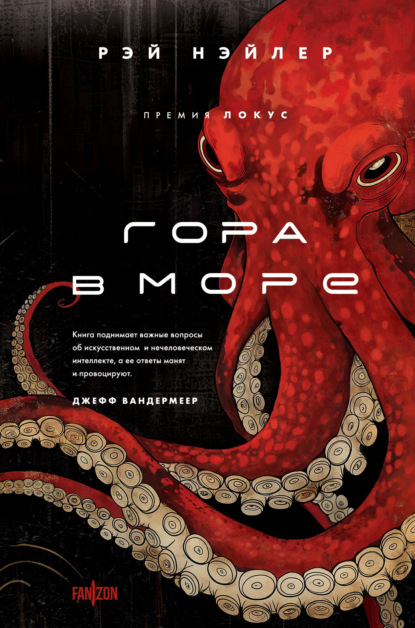
Полная версия:
Гора в море
Запах свежесваренного кофе сумел вытеснить из вестибюля запах ружейной смазки, озона, плесени и запустения. Ранний непогожий свет проникал в окна вместе с солено-телесным запахом моря. Коротким кивком Алтанцэцэг указала на миску с яйцами и пирамиду тостов рядом с кофемашиной.
– Спасибо.
Ха налила кофе в одну из не очень хорошо отмытых кружек. Нагревательный элемент под кофейником никуда не годился: кофе оказался едва теплым. Она выпила его одним глотком. Не садясь, она взяла себе яйцо. Среди натюрморта из деталей, скорлупы и крошек она увидела переводчик.
– Руководитель группы? – спросила Ха.
Алтанцэцэг скосила на нее глаза, а потом кивнула и большим пальцем указала в направлении террасы и берега.
– Доброе утро.
Алтанцэцэг пожала плечами и проговорила фразу, которая прозвучала для Ха как «знак иглу», и начала катать по столу очередное яйцо, разбивая скорлупу.
Ха запустила руку в принесенный бумажный пакетик, достала макарун и положила его перед Алтанцэцэг.
– Макарун. – Она указала на себя. – Я их приготовила. Подарок.
Алтанцэцэг смотрела на нее, не меняя выражения лица.
– Шутка. Я не пеку. Купила в АТЗ Хошимина. Но они вкусные.
Она оставила Алтанцэцэг подозрительно взирать на золотисто-коричневый кружок кокоса.
Ха прошла по растрескавшимся плиткам террасы, жуя яйцо. Она уже увидела руководителя группы – высокую стройную фигуру, стоящую на берегу спиной к ней. Неизвестный обитатель бассейна зашевелился и плюхнулся в воду при приближении Ха.
Море было спокойным. Его поверхность колыхалась, отражая жемчужно-серую и лимонную дымку рассвета, словно занавеска, колеблемая ветром.
При приближении Ха руководитель группы обернулся.
Она замерла, чуть было не споткнувшись и не выронив бумажный пакет, который несла в руке. Руководитель группы держал несколько раковин разного размера. Он выжидал, пока Ха пыталась взять себя в руки.
Она смотрела трансляцию интервью на потолке гостиничного номера. Один из популяризаторов науки, который вел все, начиная с детских передач и заканчивая документальными фильмами, говорил с этим человеком… нет… этим существом. Говорил с Эвримом.
Стоявший перед ней руководитель группы оказался Эвримом. Тем, кого она совершенно не ожидала встретить. Видишь их на экране зеркала в ванной комнате, на потолке, на замызганном окне поезда метро. Видишь на экране людей – существ, имеющих форму людей, – но они живут не здесь. Они принадлежат возвышенному миру, куда тебе дороги нет. Миру, где что-то происходит. Миру, непохожему на тот обычный, откуда ты смотришь. И ты совершенно не ожидал, что когда-то их встретишь. Что сможешь их встретить. Но вот он, Эврим.
Он протянул руку.
– Так приятно с вами познакомиться. Я с нетерпением ждал вашего приезда.
Ха слабо сжала протянутую руку.
– Мою руку можно сжимать крепче, – сказал Эврим. – Ее разработка обошлась в двести пятьдесят миллионов долларов. Немалая часть использованных технологий – военные, для искусственных конечностей. Она не сломается.
Эврим улыбнулся. Ха поймала себя на том, что пытается найти нечто в глазах, в позе Эврима. Какое-то отличие. Однако сразу ничего не заметила. Рука оказалась прохладной – с прохладой рассвета на море, но в ней чувствовалось тепло, так похожее на тепло человеческой руки. На пальцах и ладони остались песчинки от раковин, которые Эврим собирал. Ха обнаружила, что держится за его руку слишком долго – и поспешно ее отпустила.
– Ха.
– Да. Доктор Ха Нгуен. Я вас приветствую. Судя по всему, вы знаете, кто я.
Эврим снова повернулся к морю. Ха поняла, что ей дают время прийти в себя от потрясения. Она проявила невоспитанность. Эврим был выше ее сантиметров на тридцать. Лицо вытянутое, а конечности – длинные. Его пропорции были правильными, идеально нейтральными, чуть идеализированными. Люди с таким сложением могли красиво носить даже фантастически уродливую одежду и работать в качестве моделей на подиумах. Ха заметила, что мысленно называет Эврима «он». Но он ведь… не он. Но… что тогда?
«Судя по всему, вы знаете, кто я».
Знает? А что она знает? Ха мысленно перечислила то, чем был Эврим: единственным (якобы) разумным существом, созданным человечеством. Наконец-то реализованным андроидом. Самым дорогим проектом, не считая космических исследований, осуществленным частной организацией. Тем, как неоднократно повторялось, что так ждало человечество: разумной жизнью, возникшей исключительно по нашей технологической воле.
А еще Эврим стал причиной – и объектом – ряда поспешно принятых законов, сделавших его существование и создание новых подобных ему существ недопустимым для большинства правительственных организаций мира, включая все страны, находящиеся под управлением Правящего директората ООН. Эврим и сам по себе (сама? само? Ха была недовольна гендерным провинциализмом собственного разума) был запрещен почти во всем мире. Существование Эврима вызвало бунты по всему миру. Ха помнила, как вооруженные люди штурмовали штаб-квартиру «Дианимы» в Москве, как разбомбили их офис в Париже. Вице-президента «Дианимы», занимавшегося техническими вопросами, взорвали с помощью самонаводящейся по ДНК ракетой на яхте в Карибском бассейне. Ха вспомнила, как на потолочном экране в отеле видела поджигающего себя мужчину у входа в Ватикан.
«Человек сжег себя живьем просто потому, что ты существуешь. Каково знать это?»
Ха поняла, что в Эвриме ее больше всего сбивает с толку то, что ее мозг пытается занести его в категорию, вот только он не вписывался ни в одни рамки. Если бы только она смогла успокоиться, отвлечься от желания засунуть Эврима словно элемент детской игрушки в отверстие определенной формы, назначить ему гендерную принадлежность! Ха поддерживала международное сотрудничество с другими учеными. Она приобрела привычку говорить (и думать) на английском и использовать устаревшие английские местоимения третьего лица, «он» и «она».
Она переключилась на турецкий, свой второй язык. В нем местоимение третьего лица, «о», не имело гендерного маркера. «О» никаких проблем не создавало. Оно могло соответствовать английским «он», «она», «оно» и «они» в единственном числе. Ха начала мысленно обозначать Эврима турецким «о» – круглым, как его форма, холистическим, инклюзивным. Гендерная проблема исчезла, и ощущение диссонанса испарилось, сменившись восхищением и изумлением.
Не успев понять, что делает, Ха протянула Эвриму макарун. Во время интервью она слышала, что Эврим не ест, хоть и способен ощущать вкус и запах. Еще он не спит. И никогда ничего не забывает.
«Но как можно быть человеком и не забывать? Не спать? Не есть?»
Эврим посмотрел на предмет в руке Ха.
– Это раковина? Морское существо?
– Это макарун.
– Что это?
– Десерт.
– О! – Эврим принял его, положил себе на ладонь, провел длинным указательным пальцем, понюхал. А потом улыбнулся. – Спасибо. Мне никогда не дарили ничего подобного.
Я думаю о своих предшественниках, рассматривающих под микроскопом ветвление нейронов мертвого мозга. К жизни, которая прежде там обитала, они были не ближе, чем археологи – к воспоминаниям человека, когда-то державшего кувшин, осколки которого они откопали. Эти пионеры неврологии могли создать только самые грубые карты увиденных контактов, неясный фундамент того, что когда-то было крепостью.
Мы же, напротив, можем восстановить весь замок, вплоть до самых мелких деталей: не только каждый стежок гобелена, но и каждый план, складывавшийся в умах придворных, которые там жили и умерли.
Доктор Арнкатла Минервудоттир-Чан, «Строительство разумов»5КАФЕ, В КОТОРОМ РУСТЕМ РАБОТАЛ большую часть своего времени, находилось в обветшавшем районе Астрахани, рядом с побеленными стенами старого кремля. Много веков назад в этом доме жил иранский купец. Бывший владелец оформил здание в стиле мечети: позолота и лепные арки, спускающиеся от сводчатых потолков. Однако нанятый на пороге двадцатого века архитектор явно хорошо разбирался в ар-деко, так что все выглядело приятно-растительным. И несмотря на избранный бывшим владельцем мусульманский стиль, он явно имел еретическую приязнь к изображениям человека, в особенности гибких женщин под стратегически скрывающими все покровами, набирающих воду из фантастических источников или возлежащих на диванах в беседках, изобилующих виноградом.
Время покрыло все патиной и отшелушило немало самых интересных сцен с фресок. Неуклюжие дополнения все портили: деревянные панели, бесцеремонно разрезающие купающуюся красавицу пополам, дверные проемы, безвременно оборвавшие охоту султана на львов. Однако как исходная архитектура здания, так и его более позднее разделение на апартаменты и чуланы обеспечивали приватность. Кафе являло собой лабиринт небольших комнат, разделенных деревянными решетками, либо же отрезанных от любопытствующих взглядов ветхими бархатными занавесками или затейливыми гобеленами, на которых «Тысяча и одна ночь» сочеталась с поздним стилем Российской империи.
Кафе принадлежало турку, который намекал, что его изгнали из Стамбульской Республики за какое-то ужасное преступление. Он принимал посетителей на первом этаже, в парах гигантского сверкающего медного мультисамовара, выдававшего сто чашек черного чая в час. Его кофе по-турецки был настолько густым, что в нем не потонул бы даже водяной буйвол. И нанятый им казах делал шашлык из осетра, якобы браконьерски выловленного из Каспийского моря. Заявка на незаконность добавляла осетру вкуса – запретной остроты, – хоть все и знали, что на самом деле осетр искусственно выращен: последний каспийский осетр либо таился в тиши глубин Каспия, хитроумно избегая гибели, либо уже давно был съеден.
Турок передавал сообщения и предупреждал звяканьем терминала о том, что вас ищет кто-то, кого вы видеть не желаете: постоянным клиентам эта услуга предоставлялась бесплатно.
Рустем был тут постоянным клиентом уже почти год, со дня своего приезда в Астраханскую Республику. Как правило, он спозаранку устраивался там в занавешенной нише на третьем этаже, начиная день с предлагаемого в кафе кахвалты, состоящего из маслин, феты, сваренных вкрутую яиц, лепешек и инжирного варенья. Достаточно часто он не покидал своего уголка до заката.
Дела шли хорошо. В Астраханской Республике всегда был спрос на граждан с необычными навыками, так что он рассчитывал вскоре получить паспорт и какую-никакую, но все же защиту этого государства.
Когда он вошел, турок ему кивнул:
– В твоей нише тебя дожидается женщина. Под абгланцем. Назвала твое имя. Просто имей в виду.
Рустем задумался, не следует ли ему бежать.
Нет, так его убивать Москва не стала бы. Он недостоин личного визита. Уровень недовольства, который он там вызвал, заслуживал максимум дрона-убийцы размером с осу, который снес бы ему полголовы где-нибудь в переулке. Либо это, либо вообще ничего. Но прошел целый год – а голова так и осталась на месте, так что он больше склонялся ко второму варианту.
– Спасибо.
Когда он дошел до своей ниши, женщина действительно сидела там: на столе стояла тарелка с осетром на гриле, по лицу каждые полсекунды мелькал абгланц – так быстро, что взгляд не успевал зацепиться за какую-нибудь черту прежде, чем она снова изменялась. Мужчины, женщины, мимолетные и непреодолимые не-бинарные творения. Красивые, обычные, отвратительные. Были ли это реальные люди? Или произвольно сгенерированные конструкты?
Руки у нее оказались маленькие. Ногти покрыты золотом, а последние фаланги пальцев покрашены в платиново-белый цвет и блестят от осетрового жира. Порция осетра была наполовину съедена. Когда он вошел, она жевала: полдюжины ртов и челюстей смаковали каждый кусочек.
«Она любит поесть».
Сам он был к еде довольно равнодушен, хотя местная осетрина действительно была хороша. Кофе он оценивал в основном по количеству кофеина, который можно было получить, и именно этим ему нравилась мощная жижа турка.
По правде говоря, большую часть времени Рустем жил вне своего физического окружения, часами приклеиваясь к терминалам, уйдя в мир своей работы. Он приходил в себя только когда свет за окном мерк, в горле пересыхало или желудок был пуст.
Вскрывая нейронные сети, он не пользовался виртуальной реальностью или 3D-моделями: он вырос, не имея возможности позволить себе такие технологии. В своем родном городке, Елабуге, в бывшей Республике Татарстан (теперь – часть Уральского содружества), он начинал работать на паршивых терминалах, собранных в древнем интернет-кафе с почасовой оплатой. Кафе находилось в сыром подвале здания, где когда-то был центр компартии – лет этак за сто до его рождения.
Виртуальную реальность ему заменяла чистая концентрация – умение, выработанное жизнью в однокомнатной квартире с родителями, которые постоянно ссорились. Он научился исчезать из мира, уходить в миры, сотворенные им самим.
В кафе с почасовой оплатой он использовал это умение, чтобы создавать в уме модели, показывавшие, где именно можно найти заднюю дверь. Он научился взламывать системы, пока все в том интернет-кафе разносили друг друга в клочья, выкрикивая проклятья. Точно так же, как у него дома.
И, как и дома, он уходил. В свои нейронные миры.
Взрослым он хотя бы смог работать в тишине, без отвлекающих факторов, погружаясь глубоко, на многие часы, в нейронные паттерны, ветви и пересечения, слепые аллеи и петли операций памяти.
Рустем скинул свою потрепанную кожаную сумку на пол и сел. Через десять секунд официант на видавшем виды оловянном подносе принес ему кахвалты и две чашки кофе с обязательным стаканом воды.
Женщина вытерла окрашенные платиной пальцы и выложила на стол терминал. Очень заказной. Очень дорогой. Очень новый.
Она подождала, чтобы официант ушел.
– Два года назад некто удаленно проник в сеть автогрузового судна и заставил его врезаться в яхту в Мраморном море, убив одного из малоизвестных, но весьма влиятельных ультраолигархов Москвы.
Жаль команду яхты и последнюю новую супругу ультраолигарха. Однако этого избежать нельзя было: порой приходится заодно забрать еще нескольких.
Голос, лишенный каких бы то ни было узнаваемых элементов и приглушенный абгланцем, продолжил:
– Год назад некто заставил робота-горничную в Катарском небоскребе перебросить иранского бизнесмена через перила лестницы на порфировый пол тридцатью метрами ниже.
Да, в тот раз все прошло идеально.
Рустем пожал плечами.
– Возможно, кто-то подстроил эти события. Или, возможно, никто этого не делал. Я слышал, что в обоих случаях не нашли никаких признаков того, что в работу этих ИИ вмешивались. С автогрузовыми судами постоянно что-то случается, и лично я никогда не подпустил бы робота-горничную к себе – даже к своим полотенцам. Очень глючные.
Точнее, с автогрузовыми судами что-то случается, когда кто-то заставляет что-то случиться. И он никогда в жизни не подпустит к себе робота-горничную, потому что знает, на что они способны, попав не в те руки. Или в те руки, в зависимости от вашей позиции.
– Что скажете про это?
Женщина пододвинула ему терминал.
Рустем просмотрел первые двадцать экранов – вершину нейронного айсберга. На это у него ушло тридцать минут. Когда он поднял голову, то увидел, что женщина сидит все так же, сложив руки на столе.
– Скажу, что такое сделать нельзя.
– Даже лучшему? Даже, скажем, тому, которого называют Бакунин?
– В верхнюю левую четверть первого слайда можно поместить пятьсот ИИ автогрузовоза. У кого бы вы ни попытались это заказать, он, скорее всего, запросит регулярную выплату в пятьдесят процентов от того, что вы предлагаете, что выльется в очень крупную сумму. И выбросите деньги на ветер.
Женщина встала.
– Ну, я полагаю, что если эта персона обнаружит у себя на счету большие деньги, то поймет, что пора приступать к работе. – Она отодвинула занавеску. – Приятно было познакомиться, Рустем.
– Взаимно. Но вы забыли свой терминал.
– Не забыла. Терминал ваш.
Мы не только не договорились, как именно измерять или распознавать чужой разум, но даже не можем «доказать», что сами им владеем. Наука часто отметает наш личный опыт – каково ощущать запах апельсина или любить – как квалиа. Для разума у нас остаются только теории и метафоры: поток опытов. Самореферентный цикл. Нечто из ничего. Все это неудовлетворительно. Определение от нас ускользает.
Доктор Ха Нгуен, «Как мыслят океаны»6МОЛИТВЕННЫЕ БАРАБАНЫ СТОЯЛИ по сторонам мощеного двора. Автомонахи шагали, поворачивая каждый барабан своими бледно-серебристыми трехпалыми руками. Их микрофонные рты выпевали «наму-мё-хо-рэн-гэ-кё». Ха заметила, что все голоса разные, точно так же как и все монахи. Их головы – гладкие, цвета старой слоновой кости – склонялись вперед. Глаза напоминали полузакрытые глаза медитирующих, однако Ха не увидела в них зрачков – только темную систему из шестиугольных светоприемников.
В свете позднего утра, в этот самый момент, храмовый двор был прекраснее всего, что Ха доводилось видеть. Ей было жаль, что она не способна к религиозным чувствам. И несмотря на это, невозможно было отрицать мощного воздействия всей сцены: двор, затененный фикусами, похожими на подтаивающих великанов, выгоревшие молитвенные флажки, колеблющиеся под легким ветерком, запахи ароматических палочек, плывущие с изящных обводов пагоды Вансон. И дальше – хрустальное небо архипелага Кондао.
Ей надо почаще приходить сюда, пока она живет на Кондао. Здесь будет лучше думаться. А ей придется много думать. Ей понадобится уединение. Ей всегда требовались громадные количества уединения – многие часы под водой или на пустынном берегу. Где угодно, лишь бы она была там одна и далеко от всех, чтобы мысли могли оформиться. Это место поможет ей решить задачу.
Задача. Она уже ее обдумывала, постоянно ощущала ее давление, успевала заметить, как скользят мысли, не успевающие пробиться на поверхность. Оказалось, что она уже думает: «Надо создать общий мир. Его взаимодействия будут определяться, как и у нас, формой тела. Формами, из которых состоит этот мир. Его мысли будут исходить из этих форм. Думай. Начни с этого. Что это говорит о том, как он будет устанавливать коммуникацию? Что это говорит о том, что мне следует делать, чтобы обеспечить эту коммуникацию?
Если только это не ошибочный результат. Это может оказаться очередным тупиком, а вовсе не тем, что я ищу».
– Автомонахи разумны? – спросила Ха.
Эврим стоял спиной к Ха, глядя за невысокие стены дворика пагоды на далекое море.
– Спорный вопрос, – ответил Эврим. – Как и само понятие разумности. Их разум невероятно сложен и многослоен, но в основном они – просто алгоритмы. По шкале Щеголева у них ноль целых пять десятых. С таким уровнем они будут иметь примерно те же права, что и домашние питомцы: защиту от открытого насилия, гуманный вывод из эксплуатации. Но, с другой стороны, у каждого из них – нейронная карта разума реально жившего тибетского монаха. Тибетская Буддийская Республика денег не жалеет. Автомонахам можно задавать вопросы о философии, религии, их взглядах на жизнь. Они ответят как те мертвецы, по чьему подобию они созданы. Однако они не обладают явной собственной волей: их текущее состояние автоматизировано. Они не развиваются. У них нет мыслей о будущем – того, что вы назвали бы «волей». Они подобны энциклопедиям разума умерших верующих. Или картам их разума. Однако карта – это не то же самое, что территория.
– Мрачно.
– Утверждается, что у некоторых реакции указывают на обучение. Я не убежден. По-моему, они просто автоматы. Когда остров эвакуировали, Тибет отказался оставлять храм. И в результате они здесь, у нас – и еще шесть автомонахов, которые обслуживают заповедник черепах на Хонбэйкане, который почитают священным в Тибетской Буддийской Республике.
– А разве храм и заповедник не должны принадлежать ханойскому правительству?
– Нет, правительство передало управление всеми храмами в Автономной торговой зоне Хошимина местным органам власти, а АТЗ в своем деловом стиле продала храмы тибетцам. К недовольству своих верующих, чей буддизм, конечно же, имеет иную форму. И вьетнамские неонацисты тоже были в ярости. Но цена оказалась подходящая. Когда сюда пришли мы, потребовались долгие переговоры: Тибетская Буддийская Республика неуступчива. Они желали оставить все храмы и святилища острова под своим контролем. Хотели построить здесь прибрежный монастырь, требовали других поблажек. Доктор Минервудоттир-Чан как-то сказала, что не может понять, что они такое – государство-нация, религия или корпорация, – но они явно умеют действовать как все три, используя те правила и законы, которые позволяют им добиться своего. В итоге получилось так, что храмы архипелага и заповедник черепах были отданы им навечно – полностью вытеснить их с Кондао оказалось невозможно. Однако по соглашению с «Дианимой» здесь, на архипелаге, они не имеют монахов-людей, только автомонахов. Пришлось дать им и еще ряд прав: подвоз запасов дронами, обслуживание роботов. Никому это не нравится. Алтанцэцэг ужасают сами возможности нарушения безопасности. В то же время я не думаю, что пение, медитации и сбор черепашьих яиц для освобождения, которыми заняты автомонахи, кому-то чем-то мешают.
Большинство монахов ушли в пагоду, где прозвучал сигнал гонга. Один задержался на дворе, поливая инжирное дерево в кадке. Ха увидела, как наблюдающий за занятием автомонаха Эврим с отвращением поморщился.
– Они вам не нравятся, да? – спросила Ха.
– Да. Они кажутся мне зловещими. Отталкивающими. Наверное, вы чувствуете то же, глядя на обезьян. Неприятно.
– Мне обезьяны не неприятны. По-моему, большинству людей – тоже.
– Правда? Мне казалось, они должны выбивать вас из колеи. Настолько похожие на вас, но деградировавшие. Неудачная попытка.
– Наверное, мы их так не рассматриваем.
Эврим пожал плечами и повернулся, чтобы уйти. Ха услышала, что машина включила двигатель, ощутив их приближение.
– Полагаю, вы уже просмотрели видео?
– Нет.
Эврим приостановился на крутой каменной лестнице, которая шла от пагоды.
– Вы не виделись с доктором Минервудоттир-Чан? Мне казалось, вам было назначено.
– Нет. Она отправила встретить меня ассистента-4. А сама была в отъезде.
– Значит, вас не ввели в курс дела?
– Ну, я знаю, почему я здесь. В общих чертах. Меня ознакомили с данными перед заключением контракта. Но…
– Не посвятили в подробности того, что я наблюдал здесь за последние полгода.
– В подробностях – нет.
– Странно, – заметил Эврим. – Причина, которая заставила доктора Минервудоттир-Чан уехать, должна быть чрезвычайно важной.
– Либо она рассчитывала, что инструктаж проведете вы и посвятите меня в суть дела. В конце концов, вы ведь руководитель группы.
– Это так… и вы, конечно, хотите знать, почему я здесь и возглавляю это исследование. На этот вопрос есть и простые, и более сложные ответы. С доктором Минервудоттир-Чан всегда так: не существует одной-единственной причины. Однако имеется несколько очевидных оправданий моего присутствия: я имею сразу несколько преимуществ. Во-первых, не забываю ничего из того, что видел. Еще я могу функционировать под водой не хуже, чем на суше. Но, полагаю, главная причина моего здесь присутствия (этого мне не говорили, но я догадался) – это проверка моих возможностей. Испытание моего мышления в чем-то большем, нежели обычные интервью или лабораторные когнитивные тесты. Проверка, что я буду делать при столкновении с реальной проблемой подобного масштаба. По крайней мере, такова моя теория.
– И как вы оцениваете ход этой проверки?
– Пока я доказал, что мне хватает сообразительности понять, что нужно найти определенную реальную персону для выполнения данной задачи – вас – и предоставить себя в ее распоряжение.
– На самом деле, – отозвалась Ха, – это весьма продвинутое мышление. Мало найдется людей, способных на подобную скромность.
– Это вовсе не скромность, а честность. Последние полгода показали, что эта проблема мне не по силам. И честно говоря – хотя ваша книга поразительная – мне кажется, что эта проблема и вам не по силам. Однако есть вероятность, что она окажется по силам нам.
Эврим улыбнулся.
И тут Ха поняла. Да. Вот почему в мире никогда не появится еще один гуманоидный ИИ. Эта улыбка была безупречная. Искренняя, естественная. Совершенно человеческая.
Именно потому эта улыбка была подобна тени ее собственной смерти. Существование Эврима подразумевало твое существование. Оно говорило о том, что и ты тоже всего лишь механизм – набор запрограммированных импульсов с бесконечной итерацией. Если Эврим разумен и создан, то, возможно, и тебя тоже создали. Ты тоже конструкт, только из других материалов. Ходячий скелет, облаченный в мясо и сдуру решивший, будто обладает свободой воли. Нечто, возникшее случайно. Или созданное по прихоти, чтобы проверить, получится ли.

