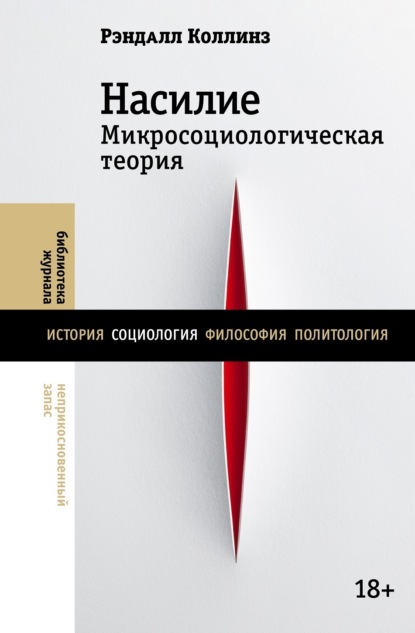
Полная версия:
Насилие. Микросоциологическая теория
Но даже в этих случаях не следует опрометчиво допускать, будто любые конфронтации между людьми, принадлежащими к враждебным группам, приводят к массовому участию в них. Оказавшиеся в чужом городе футбольные хулиганы, сталкиваясь с болельщиками местной команды, могут выкрикивать оскорбления, угрожать и даже вступать в небольшие стычки, выбегая навстречу противнику, а затем возвращаясь назад под прикрытие своих, но во многих случаях дело не превращается в полномасштабный «замес». Каталитический момент наступает не всегда: участники конфронтации с обеих сторон нередко довольствуются поиском отговорок, что в особенности характерно для случаев, когда одна из сторон находится в меньшинстве или даже когда численность противников равна, – мы с вами еще когда-нибудь расквитаемся, полагают в таких ситуациях их участники. У таких групп имеются устойчивые обычаи и предания, и этим мини-конфронтациям принадлежит в них значительное место: подобные ситуации любят обсуждать, вокруг них строятся ритуалы разговоров во время посиделок с выпивкой, когда участники группы переосмысливают события последних часов или дней, – противостояние при этом часто разрастается до размеров настоящей битвы или воспринимается как признак трусости другой стороны, которая не смогла продемонстрировать собственную крутизну и отступила (см. [King 2001], а также личное общение автора с Эриком Даннингом, март 2001 года). Группы, которые так или иначе участвуют в драках, выстраивают вокруг себя мифологию, преувеличивая количество таких инцидентов и собственные достижения в них, а одновременно преуменьшают собственную склонность уклоняться от большинства драк.
Еще одним очевидным исключением из «неконтагиозности» драк являются групповые дружеские поединки наподобие подушечных боев или бросания едой. Подушечные бои, происходящие по какому-нибудь радостному поводу (например, когда дети ночуют у кого-то в гостях), обычно разворачиваются по принципу «все против всех», что способствует атмосфере бурного веселья и усиливает ее, подразумевая крайнюю необычность этой ситуации, оформленной в виде исключительно удачной шутки. То обстоятельство, что в подушечном бою участвует много сторон, в значительной мере расширяет участие в действе, вовлекая всех в коллективное веселье. В этом смысле дружеские подушечные бои напоминают новогодние праздники или другие карнавальные мероприятия, когда можно беспорядочно бросаться серпантином в других людей и взрывать хлопушки. Точно так же поступают люди, которые в шутку обрызгивают друг друга водой в бассейне – по моим наблюдениям, это происходит в первые моменты после того, как компания знакомых заходит в воду, то есть вступает в пространство веселья. Тем не менее, если подобные действа приобретают совершенно грубую форму, они переходят в двухсторонний паттерн конфронтации. Например, во время подушечных боев, которые устраиваются в качестве развлечения в тюремных камерах, в наволочки часто заворачиваются книги или другие твердые предметы, в результате чего происходит эскалация: действо превращается в нападение на самую слабую жертву, которую легче всего сломить [O’Donnell, Edgar 1998a: 271]. Если обратиться к бросанию едой, то в тех случаях, когда это происходит в специальных местах типа столовых11, люди разбрасывают пищу более или менее беспорядочно, не обращая внимания на то, на кого она попадет, – как правило, еда летит в направлении людей, сидящих на дальних стульях, а еще лучше – за дальними столами. В таких условиях бросание едой превращается в спонтанный способ развлечься, а заодно и оказывается формой мятежа против власти в тотальных институтах12. Кроме того, бросание едой можно наблюдать в американских средних школах, где этим занимаются во время обеда компании учеников, пользующихся популярностью среди товарищей. Однако в данном случае это не столько «массовая драка», сколько (гораздо чаще) одна из разновидностей флирта между юношами и девушками или дружеской игры с участием тех же самых учеников, которые делятся едой друг с другом в знак близкого характера своих отношений (см.: [Milner 2004: ch. 3]). Подведем небольшой итог: если мы наблюдаем драку по принципу «все против всех», то можно быть вполне уверенным, что это всего лишь игровое насилие, а не нечто серьезное; эмоциональная тональность в таких случаях не представляет собой сочетание конфронтационной напряженности и страха – каждый участник может понять, когда они присутствуют или отсутствуют.
Второй миф заключается в том, что драки занимают продолжительное время. В голливудских фильмах (не говоря уже о гонконгских картинах про кунг-фу и подобных приключенческих боевиках, снимаемых по всему миру) как рукопашные схватки, так и перестрелки длятся довольно долго. Их участники демонстрируют выносливость: они принимают на себя множество ударов, а затем дают сдачи, ломают столы, сносят полки с бутылками, отскакивают от стен, падают с балконов, с лестниц и наклонных поверхностей, на полном ходу запрыгивают в машины и другие средства передвижения и выскакивают из них. В эпизодах со стрельбой герои таких фильмов зачастую агрессивно преследуют соперника, совершают перебежки от одного укрытия к другому, иногда залихватски обходят противника – но ни в коем случае не отступают; злодеи, со своей стороны, возвращаются на сцену вновь и вновь – когда коварно и настороженно, а когда и с отъявленной дерзостью и ожесточением. В одном из эпизодов фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981) главный герой обменивается ударами с мускулистым негодяем в течение четырех минут, затем без промедления вскакивает на лошадь и в следующей сцене боевого экшена, продолжающейся восемь с половиной минут, преследует ускоряющийся грузовик и запрыгивает в него. На протяжении этих эпизодов Индиана Джонс убивает или «вырубает» пятнадцать противников, а заодно и еще семерых посторонних лиц, не участвующих в драках. Разумеется, художественное и реальное время – это разные вещи, но в большинстве кинофильмов и драматических постановок реальное время сжимается, чтобы скрыть скучные и рутинные моменты обыденной жизни, тогда как время боевых сцен увеличивается многократно. Данной иллюзии еще больше способствуют бои, инсценируемые ради развлечения. Боксерские поединки, как правило, организуются в виде последовательности трехминутных раундов, при этом максимальная продолжительность боя составляет от 30 до 45 минут (хотя в XIX веке боксерские матчи порой шли гораздо дольше). Однако для таких соревнований устанавливается намеренный контроль при помощи социальных и материальных «подпорок» и ограничителей, в результате чего в ходе большинства матчей более или менее непрерывный поединок длится на протяжении многих минут. Но даже в этом случае рефери обычно приходится понуждать боксеров прекратить тянуть время или блокировать друг друга в клинче – для того чтобы поединок продолжался, требуется постоянное социальное давление. Подобные поединки являются совершенно искусственной конструкцией, которая оказывается увлекательным зрелищем именно потому, что оно крайне оторвано от привычной реальности. Что же касается серьезных стычек один на один или малыми группами, то в действительности они по большей части происходят исключительно быстро. Если вынести за скобки их предварительную и заключительную стадии, когда стороны оскорбляют друг друга, шумят и жестикулируют, и обратиться непосредственно к насильственным действиям, то они зачастую оказываются примечательно краткими. Например, реальная перестрелка у корраля O-Кей в Тумстоуне (штат Аризона) в 1881 году заняла менее тридцати секунд (см. перепечатки публикаций в газете Tombstone Epitaph, октябрь 1881 года), тогда как в киноверсии 1957 года она занимает целых семь минут13. Преступления с применением огнестрельного оружия почти никогда не предстают в виде перестрелки вооруженных противников, открывающих огонь друг в друга. Подавляющее большинство убийств и нападений с применением смертоносного оружия происходит в виде непродолжительной атаки одного или нескольких вооруженных лиц на безоружного человека. Начиная со второй половины ХX века огнестрельное оружие часто используется в разборках уличных банд, в борьбе за территорию между наркоторговцами или в ходе репутационных конфронтаций наподобие тех, что происходят в местах с высокими рисками насилия, таких как расовые гетто в центрах американских городов. Однако соответствующие ситуации обычно представляют собой не перестрелки, а очень короткие эпизоды, в которых огонь открывает, как правило, только одна из сторон.
Кулачные драки тоже чаще всего непродолжительны. Во многих потасовках в барах и уличных драках наносится всего один удар – согласно распространенной легенде, в таких поединках обычно побеждает тот, кто наносит первый удар. Почему должно происходить именно так? Рассмотрим альтернативные варианты. Поединок двух относительно равных противников гипотетически может продолжаться некоторое время. Однако потасовка, в которой обе стороны равны, скорее всего, не принесет удовлетворения, когда, как это обычно и бывает, ни один из ее участников не причиняет другому большого вреда либо не происходит ничего такого, что можно было бы считать решающим ударом, обеспечивающим одной из сторон превосходство. В таких ситуациях соперники довольствуются демонстрацией готовности к драке, а затем фактически пресекают инцидент, фактически сводя поединок к жестикуляции и обзывательствам. Кроме того, часто случается, что один из участников драки наносит травму самому себе (например, ломает руку при нанесении удара)14. Подобные повреждения обычно рассматриваются как справедливое основание для прекращения драки. Таким образом, ключевой вопрос заключается в том, в какой момент поединок может считаться оконченным. Когда в подобных стычках участвуют обычные люди, они отнюдь не стремятся к продолжительным, затяжным и завершающимся нокдауном соперника схваткам наподобие голливудских фильмов или боксерских поединков – их устроит и драка, представляющая собой короткий драматичный эпизод, когда реальное время схватки сведено к минимуму. В этот момент такие соперники готовы нанести друг другу ранение или сами понести травму, а затем использовать это в качестве предлога прекратить драку – по меньшей мере на какое-то время. Поединок подобного рода может выступать одним из эпизодов в серии насильственных конфронтаций: например, короткая драка в баре способна привести к тому, что один из ее участников выйдет, раздобудет «пушку» и вернется, чтобы застрелить того, кто вышел победителем в первой схватке. Но здесь перед нами, как правило, два коротких эпизода микроконфронтации. Ярость и ощущение вовлеченности в конфликт в таких случаях не обладают тем же масштабом, что и предельные возможности его участников действительно совершить насилие.
Драки с использованием ножей и другого колюще-режущего оружия также, как правило, непродолжительны. В основном они представляют собой ситуации, когда участники выхватывают ножи, демонстрируя их друг другу, но в итоге сводят конфронтацию к противостоянию без боя, а если в таких драках наносятся серьезные травмы, то это происходит в результате одного быстрого удара, после чего поединок считается законченным. Таким образом, еще один базовый сюжет развлекательных легенд, относящийся к более раннему историческому периоду, – продолжительный поединок на мечах с той его хореографией, которую можно наблюдать в кино и театре, – скорее всего, по большей части представляет собой миф. В Европе раннего Нового времени при описании ситуаций, когда одному человеку действительно случалось убить другого или нанести ему серьезные увечья (в итоге такие инциденты, вероятно, не оставались без внимания властей), обычно упоминаются засады или групповые нападения на одного человека [Spierenburg 1994]. Все это можно рассматривать в качестве аналога драки в баре, исход которой решает один удар, застающий противника врасплох.
Между тем существует и две важные группы исключений из общих формулировок. Ценность таких исключений состоит в том, что они позволяют уточнять гипотезу. Если поединки один на один или с участием малых групп продолжаются больше нескольких мгновений, то это, как правило, происходит в силу двух причин: а) поединок предельно обставлен определенными условиями, в связи с чем он не является действительно «серьезным», либо же явно присутствует понимание мер предосторожности, ограничивающих схватку; b) второй тип исключений описывается формулировкой «бить лежачего» (в качестве жертвы здесь вполне могут выступать не только мужчины, но и женщины или дети), когда, по сути, происходит не настоящий бой, а расправа или кара.
Типичные исключения типа (а) обладают структурой боксерского поединка, а точнее, спарринг-тренировки перед таким поединком. Европейские аристократы XVII–XVIII веков проводили много времени, обучаясь фехтованию, а студенты немецких университетов XIX века состояли в дуэльных братствах – устраиваемые ими боевые соревнования заканчивались не столько чьей-то победой, сколько шрамами на лице, выступавшими признаком чести. Подобные контролируемые разновидности поединков могли длиться до пятнадцати минут [Твен 2012: 240–242], при этом в них не только, как правило, ограничивался масштаб травматизма, но и приглушался конфронтационный настрой. Иными словами, мы имеем дело не с ожесточенным столкновением, а с разновидностью проявления солидарности вообще.
Насколько узким является это исключение, становится очевидно, если сравнить тренировки дуэльных навыков с самими дуэлями (подробнее к этой теме мы обратимся в главе 6). Дуэли на пистолетах по большей части представляли собой в буквальном смысле поединки с одним выстрелом, то есть предполагалось, что каждый участник выстрелит всего один раз. Момент опасности был реальным, но кратким: если оба дуэлянта оставались в живых, вопросы чести можно было считать урегулированными. Дуэли имели ту же самую структуру, что и современные драки: собственно насилию – как правило, очень короткому, занимающему всего несколько секунд, – предшествовал момент нагнетания напряженности, когда стороны совершали ритуальный обмен оскорблениями, а завершение дуэли происходило по взаимному согласию – такой исход конфликта либо определялся явной традицией, либо подразумевался.
Та же самая модель обнаруживается в Японии в эпоху Токугава (XVII–XVIII века). От идеального самурая ожидалось, что он станет защищать свою честь в смертельной схватке и может проявить особую вспыльчивость при оскорблении в общественном месте (см. [Ikegami 1995], личное общение). Самураи действительно из кожи вон лезли, чтобы с чрезвычайной легкостью наносить оскорбления, поскольку даже случайное постукивание ножнами меча на ходу воспринималось как вызов. Один из побочных эффектов этого – хотя, возможно, это был как раз главный эффект, выступавший мотивом для данной практики, – заключался в том, что самураи расхаживали, стиснув ножны своих мечей с обеих сторон – носить два меча было признаком и привилегией их статуса. Из-за этого самураи были постоянно сконцентрированы на том, чтобы поддерживать собственную социальную идентичность бойцов, хотя подобные меры в большинстве случаев как раз предотвращали вспышки гнева. Но если поединок между ними все же начинался, то это происходило прямо на месте конфликта – без характерного для европейских дуэлей специального аппарата, предполагавшего вызов, присутствие секундантов и предварительное назначение встречи. Поэтому вместо того, чтобы предаваться реальным поединкам, самураи, как правило, пребывали в неизменном состоянии ожидания угрозы и жеста в их сторону. Согласно профессиональным поверьям наставников боя на мечах, смертельные поединки должны были продолжаться очень короткое время и предполагать внезапный решающий удар; на практике большинство участников поединков, вероятно, не доводили дело до подобного конца, хотя идеология, вероятно, обосновывала краткость реальных поединков. Самураи проводили неизмеримо больше времени в специальных школах, тренируя боевые навыки в контролируемых условиях, исключавших как травмы, так и проявления гнева. В таких школах действительно присутствовала тенденция к формальной отработке движений, направленных на воображаемого противника, наподобие техник ката, к которым в значительной степени сводятся занятия боевыми искусствами в школах карате.
Самый известный случай, когда самурай отомстил за оскорбление, произошел в 1702 году и вошел в историю под названием «47 ронинов». Все началось с того, что один самурай нанес оскорбление, связанное с вопросами этикета, другому очень высокопоставленному самураю во дворце сегуна, после чего тот выхватил меч и ранил обидчика, но был быстро обезоружен присутствовавшими там людьми. Это не была дуэль, поскольку обидчик не достал оружия, а результат столкновения был не слишком убедительным, поскольку этот человек не был убит. По всей видимости, инцидент был очень коротким и ограничился несколькими порезами. Нападавший был обвинен в том, что достал меч во дворце, после чего от него требовалось совершить сэппуку. Однако в дальнейшем 47 ронинов (вассалы самурая) отомстили за смерть своего господина, хотя это опять-таки произошло не в виде дуэли – они совершили военное нападение на дом обидчика, убив нескольких охранников и самого их хозяина-самурая, который не смог защитить себя. При этом во время нападения ни один из 47 ронинов не был убит, что свидетельствует об их подавляющем преимуществе – типичная картина при групповом нападении большими силами на более слабого противника. Но даже последствия этого инцидента не соответствовали героическому кодексу. Суд постановил, что месть за поруганную честь в данном случае не может быть оправданием, однако 47 ронинам было разрешено совершить сэппуку, что считалось почетным способом умереть. В идеальном варианте это действие предполагает, что самурай в позе сидя коротким ножом вскрывает себе живот, чтобы из него вывалились кишки, после чего его агонию прерывает другой, стоящий за спиной самурая человек, который отрубает ему голову. В действительности же 47 ронинов совершили «сэппуку веером»: вместо ножа у них в руках был веер, которым они символически «разрезали» себе животы, после чего были обезглавлены [Ikegami 1995]. Фактически это была смертная казнь через отрубание головы, смягченная формальностями ритуального убийства – именно так случившееся было преподнесено публике и принято ею. Японские самурайские фильмы, продолжающие более ранний жанр рассказов о самураях, точно так же основаны на мифах, как и голливудские вестерны15.
Еще одна разновидность паттерна продолжительных поединков с защитными механизмами для их участников обнаруживается при анализе детских драк. Потасовки между детьми представляют собой самую распространенную форму насилия в семье, которая встречается гораздо чаще, чем насилие между супругами или жестокое обращение с детьми (см. главу 4). Однако дети в таких драках редко получают травмы – отчасти потому, что способность детей, в особенности маленьких, причинять вред друг другу в подобных инцидентах очень ограниченна. Что еще более важно, дети сами выбирают подходящие моменты для таких стычек – как правило, когда рядом находятся родители или воспитатели, чтобы в том случае, если драка примет серьезный оборот, можно было позвать на помощь и прекратить ее. Вот пример из собственных этнографических заметок автора:
Сомервиль, Массачусетс. Декабрь 1994 года. Семья из рабочего квартала садится в машину воскресным утром. Отец сидит за рулем, прогревая машину; два мальчика (примерно восьми и десяти лет) играют позади машины (в проходе между домами, где она припаркована) с маленькой девочкой (примерно три или четыре года); мать (женщина около тридцати лет) выходит из дома последней. Девочка занимает заднее сиденье с левой стороны четырехдверной машины; младший мальчик ударяет ее дверью, она начинает плакать, после чего старший мальчик бьет брата со словами «Смотри, что ты наделал!». Именно в этот момент из дома выходит мать, но отец игнорирует ее появление. Мать в спешке пытается заставить мальчиков сесть в машину. Они вырываются, перемещаются за машину и начинают бегать кругами и кидаться друг на друга. Старший мальчик садится на багажник, в руках у него какой-то прохладительный напиток, который проливается на землю из‑за младшего брата. Старший сильно его бьет, младший начинает плакать. В ситуацию вмешивается мать: она грозит старшему мальчику, но тот убегает от нее. Тогда она поворачивается и сажает младшего мальчика в машину на заднее сиденье с левой стороны. Тут подходит старший мальчик и пытается вытащить брата из машины: «Это мое место!» Отец поворачивается с переднего сиденья и нерешительно пытается оттащить одного из мальчиков. Мать, которая поначалу торопилась, но вела себя довольно тихо, переходит на крик и вытаскивает старшего мальчика из машины. Теперь тот обращается к отцу, утверждая, что забыл какую-то вещь в доме, и отправляется туда. Затем мать требует, чтобы младший мальчик пересел на другую сторону машины; он сопротивляется, мать в итоге вытаскивает его и заставляет пересесть, отрицая, что во всем виноват его старший брат. Старший мальчик возвращается, после чего в той же последовательности, но не так долго происходит борьба за заднее сиденье; в конце концов все усаживаются в машину (старший мальчик – слева сзади) и уезжают.
В этом смысле дети ведут себя точно так же, как и взрослые, за тем исключением, что у последних имеются наработанные способы прекращать драки своими силами, тогда как дети полагаются на других людей16. Аналогичным образом, драки в школах обычно начинаются в присутствии учителя либо в том месте, где учитель, скорее всего, быстро появится, чтобы прекратить драку; в тюрьмах большинство драк происходит в присутствии охранников [Edgar, O’Donnell 1998]. Именно так выглядит механизм, благодаря которому драки не длятся долго.
К исключению (b) относятся случаи более продолжительного насилия, которое может иметь место в ситуациях, когда силы обеих сторон принципиально неравны – например, когда несколько человек долго избивают оставшегося в одиночестве противника или когда сильный бьет более слабого. Данное исключение подразумевает следующий вывод: поддерживать на протяжении очень долгого времени сложно не само насилие, а именно состояние боевой конфронтации – напряженность схватки один на один или между небольшими группами, равными по силам, когда на один удар или выстрел отвечают другим. Но если один из соперников повалит другого навзничь или поставит в незащищенное положение, эта напряженность будет снята и насилие может продолжаться.
Реальные поединки, как правило, непродолжительны, а у их участников, похоже, нет достаточного объема мотиваций, вовлекающих их в длительную жестокую схватку с другим человеком. Драки получаются короткими, потому что их участники хорошо умеют обнаруживать моменты, где можно остановиться, считая их уместными с точки зрения драматургии происходящего. Драки могут длиться и дольше, но так происходит в случаях, когда они намеренно инсценируются как нечто несерьезное, не представляющее собой фрагмент реального мира. Эпизоды насилия могут быть более продолжительными и затяжными, если они находятся под контролем, ограничиваются в части как вероятности получения травм, так и атмосферы враждебности – именно поэтому тренировочные поединки намного продолжительнее реальных. И даже яростные драки, как правило, происходят в местах, где соперников можно разнять.
Еще один миф индустрии развлечений – улыбающийся и шутящий убийца или «плохой парень». На деле убийцы, грабители или участники драк крайне редко находятся в хорошем веселом настроении или хотя бы демонстрируют сардоническое остроумие17. Образ смеющегося злодея очень хорошо воспринимается публикой именно благодаря своей нереалистичности: в нем содержится закодированное сообщение о том, что действия негодяя не имеют отношения к действительности – они ограничены структурой развлекательного жанра. Вот почему образ жизнерадостного злодея является излюбленным стереотипом в мультфильмах и комических/фантастических мелодрамах, вносящим именно этот комический оттенок в, казалось бы, серьезный драматический сюжет. Зрителю этот образ позволяет настроиться на восприятие развлекательного произведения, а не испытать ужас, как это произошло бы в случае с реальным насилием. Повторим, что развлекательным жанрам удается изображать насилие таким образом, что при этом скрывается его ключевая особенность – напряженность и страх конфронтации.
Насильственные ситуации формируются эмоциональным полем напряженности и страха
Задачей этой книги является построение общей теории насилия как ситуационного процесса. Насильственные ситуации формируются эмоциональным полем напряженности и страха. Для того чтобы любой акт насилия успешно состоялся, требуется преодолеть эти напряженность и страх. Одним из способов осуществить это является превращение эмоциональной напряженности в эмоциональную энергию (ЭЭ) – обычно такое превращение происходит у одной из сторон противостояния в ущерб другой. Питательной средой успешно реализованного насилия является конфронтационная напряженность/страх, когда одна сторона – доминант – завладевает эмоциональным ритмом, захватывающим другую сторону – жертву. Однако сделать это способны лишь немногие люди. Описанная ситуация представляет собой структурную особенность ситуационных полей, а не некое свойство отдельных индивидов.



