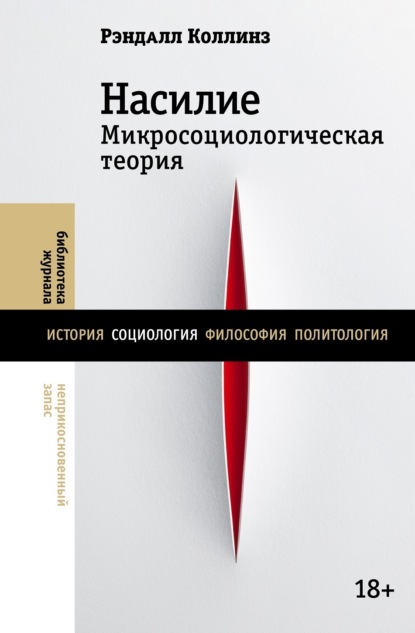
Полная версия:
Насилие. Микросоциологическая теория
33
Одно исследование, посвященное попыткам осуществления насилия [Gelles 1977], продемонстрировало, что 80% американских детей в возрасте от трех до восемнадцати лет, у которых есть братья и сестры, признались, что в течение года пытались нанести им физический ущерб; почти половина опрошенных пинали, били или кусали брата или сестру, 40% использовали для ударов твердые предметы, а шестая часть наносила сильные побои. Однако уровень травматизма от ударов, зарегистрированных в отделениях неотложной помощи у детей в возрасте от пяти до четырнадцати лет, составляет 3,1% (и 2,7% в возрасте до четырех лет). Даже если предположить, что все эти травмы были нанесены братьями и сестрами, и допустить, что на каждого ребенка приходится всего один инцидент насилия в год, то доля нападений со стороны братьев и сестер, которые привели к реальному насилию, окажется очень незначительной. Приведенные расчеты основаны на совокупных абсолютных и относительных показателях несмертельных травм от нанесенных и полученных ударов (2001) Национального центра США по профилактике и контролю травматизма (см.: www.cdc.gov/ncipc/wisqars).
34
В качестве характерного примера можно привести действия одного медика, который под сильным огнем пошел вперед, чтобы оказать помощь раненому солдату, явно находившемуся при смерти. Вот как объяснял свои действия сам этот медик: «Когда кто-то зовет врача, испытывая боль, если ты врач, ты побежишь на этот крик» [Miller 2000: 42].
35
Например, на одном снимке с камеры наблюдения, сделанном во время ограбления банкомата, вооруженный преступник держит пистолет у задней части шеи склонившей голову жертвы. Лицо преступника напряжено, но контакт с жертвой глаза в глаза отсутствует (4 октября 1991 года, фото из Мейтленда (Флорида), предоставленное полицией и распространенное агентством AP).
36
Коллинз определенно имеет в виду не полевую жандармерию (Feldgendarmerie) Третьего рейха, которая входила в состав вермахта и выполняла типовые для военной полиции функции правоприменения в отношении военнослужащих, а обычные полицейские силы. В 1936 году в нацистской Германии было учреждено две полицейские службы. Одна из них, полиция порядка (Ordnungspolizei, или Орпо), номинально подчинялась Министерству внутренних дел, однако фактически была встроена в систему СС во главе с Генрихом Гиммлером и возглавлялась высшими функционерами СС, что позволяло задействовать сотрудников полиции в акциях массового уничтожения. Вторая служба, Полиция безопасности (Sicherheitspolizei, или Зипо), занималась борьбой с криминальными и антисоциальными элементами, в ее состав входили уголовная полиция (крипо) и тайная политическая полиция (гестапо). С 1939 года Полиция безопасности подчинялась подконтрольному Гиммлеру Главному управлению имперской безопасности (РСХА), ее сотрудники также участвовали в массовых казнях в составе зондеркоманд. Взаимодействие между полицейскими службами и СС в ходе Холокоста детально описано в знаменитом романе Джонатана Литтелла «Благоволительницы». – Прим. пер.
37
Данные из интервью с сотрудниками полиции Филадельфии. Можно привести и другой случай, когда силы ООН в Сребренице (бывшая Югославия) в июле 1995 года оказались эмоционально подавленными сербскими парамилитарными формированиями и в результате не смогли предотвратить массовое убийство семи тысяч боснийских пленных. Нидерландский командующий войсками ООН, «включивший заднюю» в конфронтации лицом к лицу с командующим сербских сил, в последующие несколько дней утратил дееспособность из‑за сильной диареи [Klusemann 2006].
К этому рассуждению Коллинза можно отнестись с долей трагической иронии, однако не следует забывать, что подобные объяснения масштабных исторических событий не редкость. Один из самых известных примеров – приступ геморроя у Наполеона во время сражения при Ватерлоо, который якобы сыграл решающую роль в поражении французов. – Прим. пер.
38
В английском оригинале – «intestinal fortitude» and having the «guts» or the «stomach» for fighting. В современном русском языке органам пищеварения в этих английских идиомах соответствуют либо репродуктивные части организма в вульгарных разговорных выражениях, либо бестелесные формулировки типа «иметь волю» или «собраться духом» в литературном варианте. – Прим. пер.
39
Аналогичная ситуация возникает в аудитории, слушающей политические выступления: аплодисменты длятся гораздо дольше, чем освистывание, причем начать освистывать оратора и поддерживать свист труднее, чем хлопать ему, поскольку в этом случае массовое участие выключается легче [Clayman 1993].
40
В оригинальном тексте «Элементарных форм религиозной жизни» Дюркгейма на французском использовалась формулировка effervescence collective, которая перекочевала в английский перевод этой работы в виде collective effervescence. На русский этот термин переводится либо как «коллективное возбуждение», либо как «коллективное бурление». Второй вариант более точный, учитывая ряд конкретных лексических значений слова effervescence, обозначающего, например, вспенивание пузырьков газа при открытии бутылки игристого вина. – Прим. пер.
1
Концепция, разработанная в 1880–1890‑х годах американским психологом Уильямом Джеймсом и датским медиком Карлом Ланге, предполагает, что эмоции возникают в результате осознания человеком рефлекторных физиологических изменений в организме. В частности, Джеймс в статье «Что такое эмоция» (1884) писал, что «телесное возбуждение следует непосредственно за восприятием вызвавшего его факта, и осознание нами этого возбуждения в то время, как оно совершается, и есть эмоция». – Прим. пер.
2
Аналогичный случай избиения полицейскими Лос-Анджелеса угонщика автомобилей в заключительном эпизоде преследования на бегу, был заснят с вертолета новостной службы и затем представлен в виде серии фотоснимков в газете Los Angeles Times (24 июля 2004 года).
3
Впрочем, пострадавший, судя по всему, не был совершенно невинным и пассивным лицом: он проявлял словесную агрессию – по меньшей мере до начала драки, занимался опасным ручным трудом, а также обладал определенным положением в местных политических кругах, будучи протеже шерифа (см. [Stump 1994: 206]). Данный тип личностей представляется характерным как для грубой политики, так и для грубой зрительской атмосферы в бейсболе того времени.
4
Такое достижение, как средний коэффициент отбивания 0,400 два года подряд, было повторено лишь однажды Роджерсом Хорнсби в 1924–1925 годах. Из всех бейсбольных рекордов игрок, вероятно, испытывает самое сильное давление в ситуации, когда необходимо показывать средний коэффициент отбивания более 0,400, поскольку для этого каждый игровой день сезона (с учетом того что отдельные дни будут безрезультатны) требуется делать два хита* или более, в связи с чем практически каждый выход на биту становится принципиальным, не допуская никакого расслабления.
5
За это наблюдение автор признателен социологу Роберту Лайену, изучавшему эмоции в спорте высших достижений.
6
Об ослабляющем воздействии выброса адреналина, которое препятствует тому, чтобы ситуация переросла в драку, свидетельствует следующий случай. В 1923 году во время игры на нью-йоркском стадионе «Янки» Тай Кобб вышел во главе «Детройт Тайгерс» против питчера Карла Мейза, который был известен тем, что однажды нанес смертельную травму игроку Рею Чепмену, поразив его мячом при подаче фастбола*. Поручив бэттеру* своей команды при первой же точной подаче упасть навзничь и корежиться на земле, Кобб направился к питчерской горке, где находился Мейз. В дальнейшем этот бэттер вспоминал: «Я думал, что он собирается наброситься на Мейза. Но, к моему удивлению, он лишь сказал: „Сегодня, мистер Мейз, будь поосторожнее с тем, куда бросаешь мяч. Помнишь про Чепмена?“ Потом Кобб вернулся на домашнюю базу, покачивая головой. Мейз и правда дрожал… Он был настолько взволнован, что не смог никого вывести из игры. Мы заработали на нем пять ранов* и легко обыграли Нью-Йорк» [Stump 1994: 351]. Репутация Кобба как самого жестокого человека в бейсболе заставляла питчера настраиваться на серьезную драку, однако этого не произошло, и его тело сотрясалось от адреналина, не находившего выхода. Этот инцидент заодно демонстрирует, что даже такой крайне агрессивный человек, как Тай Кобб, не просто отдавался на милость бушующих импульсов. Подобно ряду других людей, построивших свою карьеру на агрессивности – например, головорезов из мафии, – Кобб мог не только позволять себе погружаться в туннель насильственных эмоций, но и распознавать ожидания других людей по поводу его поведения и играть на этих ожиданиях в свою пользу.
7
Похожую реакцию можно обнаружить у спортсменов во время празднования побед в соревнованиях – сочетание выражений восторга с чем-то вроде символического или усеченного гневного жеста. В бейсболе, например, игрок, совершающий хоумран, огибая базы, размахивает кулаком, а питчер после страйкаута* в решающий момент совершает жест, напоминающий боксерский удар. На ряде фото можно увидеть вскинутые вверх кулаки и выступающие нижние челюсти питчеров.
8
Анализ ритмического самововлечения, включающий приватные формы заклинаний магического характера, таких как проклятия и плач, см. в работах [Collins 2004: 205–211; Katz 1999, в особенности 18–83 и 229–273].
9
Мы склонны воспринимать подобный смех во время злодеяния, совершаемого в момент наступательной паники, как еще одно доказательство исключительной моральной испорченности преступников. Однако это представление относится к «народной психологии», в которой перевернут фактический порядок причинно-следственных связей; истерический смех представляет собой выражение неконтролируемой самововлеченности.
10
Рабочая группа по расследованию военных преступлений армии США во Вьетнаме представила свидетельства аналогичного инцидента, когда американские пехотинцы в сентябре 1969 года нападали на деревни в долине Ку Сон, убивая животных заодно с мирными жителями и детьми и одновременно поджигая дома в ходе зачисток против партизан. Краткое изложение этих документов см. в: Los Angeles Times, 6 августа 2006 года, р. A9.
11
На основании имеющихся данных трудно оценить, какая часть японских солдат и с какой степенью энтузиазма участвовала в резне. Как уже было показано на примере соотношения между стреляющими и нестреляющими солдатами в исследованиях Маршалла (более подробно мы вернемся к этой теме в главе 10), практически во всех коллективных действиях основную часть насилия осуществляет небольшая часть группы; однако там, где жертвы совершенно беспомощны, многие присоединяются к лидерам, совершающим насилие.
12
Автором этого термина является Уильям Джеймс, а в социологию его привнес Эверетт Дин Мартин [Martin 1920].
13
Этот пример Йона Рабе*, члена нацистской партии, который пытался остановить убийства в Нанкине и даже писал письма с протестами своему партийному руководству в Германии с просьбой принять политические меры в отношении японцев [Chang 1997: 109–121], еще раз демонстрирует ситуационный характер зверств. Даже нацисты при всех их зверствах демонстрировали жестокость не во всех ситуациях; там, где их не поглощала собственная динамика убийств, они могли занимать позицию сторонних наблюдателей, шокированных подобным насилием.
* Йон Рабе (1882–1950), чьими усилиями во время Нанкинской резни было спасено до 300 тысяч китайцев, был чрезвычайно статусной фигурой. Он прибыл в Китай еще в 1911 году в качестве сотрудника компании Siemens, а в 1931 году возглавил ее местное подразделение. После возвращения в Германию в 1938 году Рабе был арестован гестапо по подозрению в симпатиях к коммунистам, однако вскоре его отпустили. После капитуляции Германии в 1945 году Рабе проходил подозреваемым в соучастии в нацистских преступлениях, однако и в этот раз все обвинения с него были сняты. – Прим. пер.
14
В этом отношении они аналогичны более безобидному феномену «разгульных зон», рассмотренному в главе 7.
15
Наличие у официально проводимой политики непреднамеренных последствий, приводящих к совершению зверств, является еще одной разновидностью «ответственности верхов». Джеймс Уильям Гибсон в своей работе [Gibson 1986] делает основной акцент на том, что во время войны во Вьетнаме к нечеткости определения того, кто именно является участником боевых действий, и к убийствам мирных жителей привело приоритетное внимание американского военного командования к высокому уровню потерь противника с целью калькуляции достигнутого прогресса в войне на истощение. Такое объяснение соответствует классической организационной теории о непреднамеренных последствиях целенаправленных действий и, скорее всего, является верным. Тем не менее убийства мирных жителей происходили не в любом возможном столкновении, а в отдельных ситуациях; во многих из них присутствовала эмоциональная динамика наступательной паники, хотя и трудно установить, в какой доле инцидентов она проявлялась.
16
Например, массовые изнасилования, как правило, являются результатом наступательной паники, которая открывает возможности для «моральных каникул». И наоборот, «моральные каникулы», как будет показано в главе 7, могут случаться сами по себе, без присутствия наступательной паники.
17
Эта пассивность не является константой – она имеет ситуационный характер. Например, в 1938 году один еврейский активист убил в Париже немецкого дипломата, а в 1943 году в Варшавском гетто произошло два вооруженных восстания. Евреи проявляли пассивность во время депортаций и в лагерях смерти, где вся атмосфера взаимодействия была подготовлена таким образом, чтобы нацисты доминировали не только физически, но и эмоционально.
18
С появлением артиллерии, пулеметов и другого смертоносного оружия дистанционного действия в продолжительных сражениях с атаками на оборонительные позиции окопавшегося противника армии несли более значительные потери – в качестве примера можно привести Наполеоновские войны, гражданскую войну в США и две мировые войны. В американской гражданской войне потери в крупных сражениях варьировались от минимальных показателей 6–12% до максимальных 25–29%. В указанных условиях тяжелые потери обычно несла атакующая сторона, если только не происходило внезапного разгрома противника и его панического отступления, как в случае с северянами в сражении при Чикамоге и с войсками Конфедерации в битве при Чаттануге в 1863 году [Griffith 1986: 46; 1989].
19
Юлий Цезарь явным образом выбирал подобные цели для нападения во время одного сражения на продолжительном марше в ходе своей африканской кампании: «Когда затем был дан сигнал и враги уже вяло и небрежно метали свои снаряды, он [Цезарь] вдруг бросил на них свои когорты и эскадроны. В одно мгновение враги были без всякого труда прогнаны с поля» [Цезарь 2020: 473].
20
Случаи, когда локальное разгромное поражение влечет за собой деморализацию и дезорганизацию целой армии, по-прежнему имеют место даже в условиях современной механизированной войны. В качестве примеров можно привести катастрофическое отступление итальянской армии после сражения при Капоретто в 1917 году и реакцию французской армии на немецкий блицкриг в 1940 году. Основные особенности наступательной панической атаки воспроизводятся на макроуровне, когда одной из сторон удается парализовать противника, навязав ему собственный эмоциональный ритм. Во время войны в Персидском заливе в феврале 1991 года иракские войска перешли к паническому отступлению на автомобилях, устремившихся по шоссе из Кувейта в направлении Ирака. Их безжалостно обстреливали американские летчики – эта военно-воздушная версия наступательной паники привела к тысячам жертв, а пилоты докладывали о результатах своих действий в состоянии восторга от стрельбы по легким целям. В рамках конвенциональной стадии войны в Ираке в марте – апреле 2003 года нападения американцев настолько дезорганизовали иракскую армию, что она испарилась – организованное сопротивление оказали лишь немногие ее подразделения. Как и в случае с наступательной паникой в менее крупных масштабах, соотношение потерь победителей и проигравших было крайне диспропорциональным. У немцев во французской кампании 1940 года потери составили 1:150 солдат противника, тогда как практически вся французская армия оказалась в плену; в Войне в заливе потери США составили 1:3000 солдат противника, при вторжении в Ирак – 1:1400, а для Ирака обе эти войны привели к дезинтеграции армии, которая насчитывала сотни тысяч человек [Biddle 2004; Lowry 2003; Murray, Scales 2003] (см. также: www.icasualties.org/oif). На ситуационную природу таких расхождений в потерях указывает тот факт, что относительный уровень потерь армии США оказался гораздо выше на стадии партизанской войны, которая последовала за оккупацией Ирака, когда обе стороны вели боевые действия без распада своих организационных структур.
21
В то же время стоит упомянуть, что события развивались совершенно иначе на Балканском театре Первой мировой, где в итоге произошел классический обвал фронта с далеко идущими политическими последствиями. После затяжного противостояния сторон на Салоникском фронте, начавшегося осенью 1915 года, войска Антанты в сентябре 1918 года смогли всего за две недели нанести решающее поражение Болгарии, выведя ее из войны. После этого военные действия были перенесены на оккупированную Австро-Венгрией территорию Сербии, освобожденную в течение месяца, а затем сербская армия, почти не встречая сопротивления, заняла исторически входившую в состав Венгрии территорию Воеводины (регион к северу от Савы и Дуная), которая по итогам войны была присоединена к Королевству сербов, хорватов и словенцев и в настоящий момент является автономным регионом Сербии. – Прим. пер.
22
Коридор здания имел пять футов в ширину и семь футов в длину [1,5×2,1 метра]. Двое полицейских вели огонь, выпустив каждый по 16 пуль, и эти действия оказались заразительны для двух их коллег, которые вместе выпустили еще девять пуль (см.: New York Post, 9–13 февраля 1999 года, USA Today, 28 февраля 2000 года, www.courttv.com/archive/national/diallo).
23
Дальнейшее изложение во многом опирается на работу Дональда Л. Хоровица [Horowitz 2001], в которой представлено исследование 150 случаев этнического насилия. Почти все они относятся к периоду после Второй мировой войны, главным образом в Азии, Африке и постсоветских странах, с наибольшим количеством примеров столкновений между индуистами и мусульманами в Индии.
24
См.: [Horowitz 2001: 80]. Описанное особенно характерно для беспорядков на этнической почве в Южной Азии и Африке, а не для расовых волнений в США. Однако в ситуациях, когда происходят линчевания по расовому признаку, зачастую имеет место схожий процесс: появляются преувеличенные слухи о ритуальных посягательствах, которые, в свою очередь, получают ответ той же монетой – в виде слухов о соответствующих ритуальных увечьях [Senechal de la Roche 2001; Allen 2000]. Поскольку первоначальный слух, как правило, не соответствует действительности, распространяемые в этот период изображения увечий в большей степени представляют собой формирования образности, предвосхищение или планирование того, что будет сделано с жертвой.
25
Один из таких случаев произошел в Гуджарате на западе Индии в промежутке с 27 февраля по 2 марта 2002 года, когда мусульмане закидали бутылками с зажигательной смесью два железнодорожных вагона, забитых индуистскими активистами, которые проезжали через эти места, следуя к одному сакральному месту в центральной Индии, оспариваемому двумя конфессиями. В этом инциденте погибли 58 человек, а за три следующих дня нападений индуистов на мусульманские деревни несколько тысяч жителей оказались в ловушке и сгорели заживо, пока на место событий не пускали пожарных (см.: Human Rights Watch 14, no. 3 [April 2002]; онлайн-версия: http://hrw.org/reports/2002/india/).
26
«Как только беспорядки приобретают интенсивный характер, любой возможный настрой жертв на сопротивление и ответные удары почти наверняка исчезнет. В относительно немногих случаях серьезного сопротивления на ранних стадиях беспорядков присутствовали сообщения о жертвах, которые затем становились „удручающе пассивными и позволяли резать себя, как овец“» [Horowitz 2001: 74].
27
Кроме того, цели нападения не выбираются по принципу максимальной культурной дистанции. Сравнивать близкие объекты проще, чем далекие, поэтому близкие этнические мишени часто имеют относительное культурное сходство с нападающими [Horowitz 2001: 187–193].
28
В отдельных случаях меньшая этническая группа может напасть на более многочисленную. Хоровиц называет такие случаи, когда одна из групп уступает в численности из‑за более высокой рождаемости или иммиграции конкурирующей группы, «демографией отчаяния» [Horowitz 2001: 393]. Но и в этих случаях также всегда имеет место локальное количественное превосходство: нападения совершаются только в тех районах, где баланс сил благоприятен, а их мишенью оказываются более воспитанные группы среднего класса, которые не склонны прибегать к насилию. Более «прогрессивные», образованные, урбанизированные и принадлежащие к среднему классу этнические группы редко бунтуют против менее «передовых» по этим критериям групп, хотя иногда могут выступать базой для вербовки участников партизанских или террористических движений [Ibid.: 180].
29
Например, Хоровиц [Horowitz 2001] указывает на то, с какой тщательностью группа, готовящая беспорядки, может выбирать цели, избегая ложно положительных результатов – представителей не той этнической группы, которых можно принять за подходящих жертв. Это можно рассматривать как некую форму расчетливой рациональности, позволяющей вести борьбу только с избранной в качестве мишени этнической группой, избегая появления новых врагов и необходимости вступать в конфликт с несколькими противниками одновременно.
30
Это предположение Коллинза может служить вполне рабочей гипотезой для реконструкции событий «июльских дней» в Петрограде. В отличие от Кровавого воскресенья 9 (22) января 1905 года, когда огонь по демонстрантам велся по приказу (в частности, приказ о расстреле на Полицейском мосту на Невском проспекте отдал полковник Николай Риман, первым выстреливший в толпу), детали расстрела демонстрации на Невском проспекте 4 июля 1917 года до сих пор оставляют массу вопросов. Автором приведенного в оригинале книги Коллинза знаменитого снимка расстрела, сделанного с крыши петроградского Пассажа, является Виктор Булла, представитель известной династии фотографов. По утверждению исследователя жизни и творчества этой семьи Юрия Светова, сразу после «июльских дней» публикация снимка в России была запрещена цензурой, расследования инцидента не проводилось. В интервью «Санкт-Петербургским ведомостям», посвященном столетию этих событий, Светов отмечал: «Информации, где похоронили жертв расстрела на углу Невского и Садовой, нигде в газетах нет. Нет даже их имен. Кто были эти люди – до сих пор остается загадкой. Кто стрелял и откуда – тоже до сих пор неизвестно. Никто не взял на себя ответственность за этот расстрел. Есть только догадки и версии» (см. https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/kto_nbsp_strelyal_i_nbsp_kto_pogib/). – Прим. пер.
31
Во время шествия в Петербурге после первого столкновения несколько мятежных солдат, находившихся в рядах демонстрантов, открыли ответный огонь, и в дальнейшем правительственные войска отступили; с каждой стороны оказалось примерно одинаковое количество убитых и раненых [Троцкий 1997].
32
Описание того, что испытывает жертва полицейского нападения именно в таких обстоятельствах, приводит Билл Бьюфорд [Buford 1990: 303–308]. В качестве журналиста, сопровождавшего большую группу британских спортивных хулиганов во время одного из матчей чемпионата мира по футболу, проходившего на Сардинии, он очутился на пути у итальянской полиции, которая пошла в контратаку на большую группу хулиганов, только что устроивших бесчинства в городе. Бьюфорд решил отделиться от толпы и присесть на землю в оборонительной позе, прикрыв голову руками, в расчете на то, что отделается просто легким ударом, пока полицейские будут направляться в сторону основной группы, чтобы напасть на нее. Но вместо этого он неосознанно занял наиболее уязвимую позу жертвы, которая привлекла внимание трех полицейских – они долго избивали журналиста, пока тот лежал на земле, пытаясь прикрыть уязвимые части тела. Похоже, что такая поза подстрекает полицейских устроить мини-соревнование в попытке оторвать плечи и ладони жертвы от земли, чтобы можно было наносить ей более болезненные удары.



